Текст книги "Распеленать память"
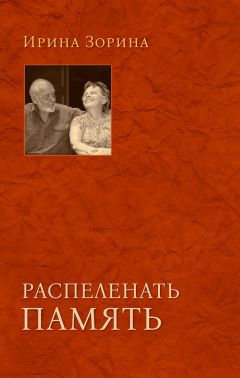
Автор книги: Ирина Зорина
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 33 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
Глава вторая
Жизнь «за забором»
Стало реже детство видеться,
Так, какие-то клочки.
Булат Окуджава
Очень счастливое детство
Детство мое было счастливым, если, конечно, не считать трудные военные годы. Но их-то я почти и не помню. Впрочем, кое-что в памяти всплывает.
Знаю, что идет война. А папа наш – в Москве, в Кремле работает. Мы с мамой и старшим братом Юрой живем далеко от папы в «вакуации», в темной комнате. И в ней есть на стене большая черная тарелка. Я ее люблю, когда она играет музыку, и не люблю, когда говорит громким голосом. Тогда все взрослые, забыв про нас, собираются вокруг и внимательно слушают сводки с фронтов. Потом и мы с братом научились слушать эти сводки. Я даже их полюбила, особенно те, в которых говорилось о победах моего любимого маршала Конева. А у брата любимым героем стал генерал Ватутин.
Помню еще, что мы с мамой куда-то переезжали, и надо было долго идти пешком и «обязательно дойти». Но у меня уже не двигались ноги, и я просилась на руки. А у мамы в руках был большой чемодан. Тогда она достала белый кусочек сахара и сказала, что даст мне его, когда мы придем. Мы дошли, но как я ела этот белый сахар – не помню.
А потом мы приехали в Москву, и нас встретил папа. Он был худой-худой, черный-черный (совсем цыган) и очень веселый. В Москве у нас была министерская квартира и даже отдельная комната для нас с братом.
Как я не стала солисткой ансамбля Моисеева
В детстве, да что там в детстве – всю жизнь, я больше всего любила танцевать, петь и читать стихи «с выражением».
Летом (это были послевоенные годы) мы с мамой и братом Юрой жили в дачном поселке на Клязьме, на «голубых дачах», куда к нам приезжал по воскресеньям папа. Он был большим начальником в Министерстве речного флота.
На дачах министерских – а это был небольшой комплекс при Доме отдыха Министерства речного флота – было много ребят. Мы жили весело, гоняли на великах, играли в волейбол, ныряли в Клязьму. Я полюбила устраивать концерты.
Питались мы лучше, чем голодные москвичи, но с конфетами была напряженка, и потому я научилась их зарабатывать. Приходила на какую-нибудь соседнюю дачу и говорила, что сейчас будет концерт, но с условием, что мне дадут конфетку. Ставила стул посреди веранды, вставала на него и объявляла: «Выступает Ирина Зорина».
Сначала читала стихи. Лучше всего у меня получалось стихотворение Маргариты Алигер про Зою Космодемьянскую.
– Всех не перевешать, много нас!
Миллионы нас!.. – Еще минута —
и удар наотмашь между глаз.
Лучше бы скорей, пускай уж сразу,
чтобы больше не коснулся враг.
И уже без всякого приказа
делает она последний шаг.
Получала свои конфеты от взрослых и переходила ко второму отделению. Танцевала русскую «с выходом», украинский гопак и «цыганочку». А потом пела «На позицию девушка провожала бойца» и другие популярные песни. Тут уже взрослые тети мне подпевали. Успех и конфеты были обеспечены.
Пошла в школу. Тогда девочки и мальчики учились отдельно. И сдружилась я с Галей Петровой. Папа у нее не вернулся с войны, а мама работала на заводе. Вставала мама в пять утра, готовила для своих девочек (у Гали была старшая сестра) борщ, укутывала кастрюлю в старый платок и уходила на завод. А мы с Галкой после школы шли к ней, ели – и не было ничего на свете вкуснее того борща, – а потом разучивали танцы.
Галина сестра танцевала в ансамбле Моисеева и иногда, снисходя до нас, «сопливых», показывала нам кое-какие движения. Она даже уже ездила на гастроли за границу, откуда привозила красивые вещи, но мама их продавала, потому что зарплаты ее на жизнь не хватало.
Помню как-то глухо Галкины сожаления по поводу того, что сестра не может стать солисткой, потому что надо «пройти через Моисеева», а у Галки парень очень ревнивый. Я, признаться, не понимала, о чем она говорила, да меня это и не интересовало. Интересовали меня только танцы, и я мечтала танцевать в ансамбле.
Галка приходила и к нам в гости. Я открывала холодильник и приглашала: «Ешь что хочешь». Галка набрасывалась на колбасу и сыр и говорила, что нет ничего вкуснее. И снова мы с ней разучивали сложные движения.
Однажды папа наблюдал за нами из приоткрытой двери – мы стучали туфельками на лестничной площадке – и спросил меня: «Что, дочка, хочется танцевать?» «Да. Я вместе с Галкой буду на будущий год поступать в ансамбль Моисеева». И вдруг он как-то забеспокоился. А он был крут на расправу. «Ансамбль Моисеева?! Никогда. Ты, дурочка, даже не знаешь, что это такое. Чтобы моя дочь „прошла через Моисеева“! – да никогда!» И решил он отдать меня в школу Большого театра.
Я училась во втором классе, стало быть, это был 1947 год. Папа был членом комиссии по выборам в Верховный совет, где была какая-то «прима» из балета Большого. Посоветовался с ней. Она направила меня в группу балета при Центральном доме пионеров, с тем чтобы осенью сдавать экзамены. Занималась я прилежно, но было и трудно, и нудно. Освоила все классические позиции, занималась вместе с другими девочками у станка. Но с Галкой танцевать было куда интереснее.
В августе 1947 года мама отнесла мои документы в школу. Предстояло пройти три тура. На дачах судачили: «Ишь, Зорин куда замахнулся, толкает дочку в Большой». А мама помалкивала, но явно не хотела, чтобы меня приняли. Дело в том, что она сама в 1919–1920 годы училась балету в школе Мариинского театра в Петрограде. Ее папа работал там электриком и осветителем и знал, что девочкам в школе театра дают паек. Был голод, и ему нелегко было содержать семью из девяти человек. Мама даже танцевала немного на сцене Мариинки в детской массовке.
Первый тур я прошла. На втором маме объяснили, что у меня будут трудности: что-то не так у меня с коленками и еще что-то. Тут мама моя развернулась и забрала документы. А отцу объяснила: «Нечего Ирку мучить. Будет она торчать всю жизнь в кордебалете». К моему удивлению, папа не стал возражать. Зато купил мне пианино – об этом я не могла и мечтать! И в тот же год я поступила в музыкальную школу. На этом кончились мои мечты о танцах у Моисеева и начались тяжелые трудовые будни постижения сольфеджио и гамм. Но оказалось, что в музыкальной школе были интереснейшие предметы. И прежде всего – история музыки.
Наша музыкальная школа находилась на Софийской набережной, ближе к Каменному мосту, рядом с английским посольством. В музыкальной школе я оказалась «переростком». Поступила уже в третьем классе, а ребята все были первоклашки. Когда сдавала приемные экзамены, несколько раз ошиблась в воспроизведении мелодии на фортепиано. Тем не менее преподаватели сказали папе: «У девочки абсолютный слух и совершенно великолепное чувство ритма». Они немного лукавили, наверное, из некоторого подобострастия перед папой, ведь он в их глазах был большим начальником. Чувство ритма у меня и по сей день очень неплохое. Даже мешает. Не могу усидеть на месте, когда слышу хороший джаз, латиноамериканские ритмы, и вообще испытываю постоянную потребность выстукивать любую мелодию. А вот слух – просто хороший, но не более. И потому мне всегда было трудно писать музыкальные диктанты. Поражало, что сидевший со мной Борик – от горшка два вершка – записывал с первого раза наигранную на фортепиано мелодию, а я долго и мучительно проверяла и пропевала каждый звук, прежде чем ее записать.
К тому же оказалось, что и исполнителя-пианистки из меня не выйдет. Я так волновалась на экзаменах и перед выступлениями, что в какой-то момент забывала все, руки дрожали, и требовалось время, чтобы собраться. Я ошибалась и всегда играла на публике хуже, чем на уроках с учительницей или когда играла только для себя. Вспоминается совершенно позорный эпизод из моей «концертной деятельности». Я была уже в четвертом или пятом классе музыкальной школы. Мы давали какой-то благотворительный концерт в московском Доме культуры, не помню где. Я, как всегда, волновалась. Уселась, посмотрела в зал и вдруг заметила в первом ряду ехидного мальчишку. Начала играть. Ошиблась. Начала снова. И тут мальчишка громко засмеялся. Я встала, подошла к рампе, показала ему язык и покинула сцену. Навсегда.
Но зато в музыкальной школе благодаря очень хорошему преподавателю по теории и истории музыки я стала писать маленькие сочинения о тех музыкальных произведениях, что мы «проходили». Учитель меня выделял, поощрял, заставлял писать маленькие рецензии на спектакли в Большом, куда я частенько ходила благодаря папе – у него была какая-то специальная книжечка на каждый месяц, по которой можно было снять «броню» в любой театр Москвы. Помню, как фантазировала по поводу «Танца с колокольчиками» в балете «Красный мак», как придумывала любовные истории после услышанной в Большом «Баттерфляй». Погружалась в мир грез, запиралась в своей комнате, наряжалась в тюлевые занавески и танцевала.
Весной 1954 года я заканчивала музыкальную школу-«семилетку» и девятый класс общеобразовательной десятилетки. Мой любимый учитель как-то оставил меня после уроков и начал серьезный разговор: «Тебе, Ира, надо продолжать музыкальное образование. Дело, конечно, нелегкое. Исполнительской карьеры для тебя я не вижу. Но, мне кажется, ты могла бы поступить в Гнесинское училище (Музыкально-педагогический институт им. Гнесиных. – И. З.) с прицелом на факультет истории и теории музыки в консерватории. Поступать надо этой весной. Диплом у тебя, вероятно, будет отличный. Конкурс огромный, но перспективы есть».
Такого поворота я не ожидала и решила посоветоваться с отцом. Папа выслушал меня внимательно и потом спросил: «Ну и кем же ты будешь?»
– Музыковедом, – сказала я не совсем уверенно. Я, конечно, уже знала, кто такие музыковеды. Ходила с подругой на детские концерты в консерваторию, которые предварялись рассказами экстравагантных тетенек о том, что нам предстоит слушать. Признаться, они мне не очень нравились, хотелось, чтобы они поскорее ушли и дали нам слушать музыку.
– Музыковедом? А может – мужиковедом или музыковедьмой? – съязвил папа. – Нет, дочка, надо кончать десятилетку и учиться в Московском университете. В конце концов, на историческом факультете можешь продолжать изучать историю музыки.
Слова его запали в мои неокрепшие мозги. Да и не хотелось тратить лето на подготовку и сдачу экзаменов. Идею продолжения музыкального образования в Гнесинке я похерила. И может быть, это была моя первая в жизни ошибка. Я предала свою любовь к музыке и зарыла свой талант. А ведь только музыка (еще, может быть, театр) всю жизнь дает мне не просто неизъяснимое наслаждение, но по-настоящему заставляет меня думать, чувствовать, радоваться, страдать, испытывать духовный подъем… Нет, ни литература (я читала мало в детстве и юности, хотя научилась читать очень рано), ни наука, которой я занималась более тридцати лет в Институте мировой экономики и международных отношений, не были моим настоящим призванием. Конечно, мне надо было заниматься театром, музыкой, ну и литературой художественной, хотя бы переводом. Грустно признаваться себе в этом на склоне лет.
Мой первый политический протест
Если в годы моего детства наш двор со своими «понятиями», что хорошо и что плохо, еще соперничал со школой, то уже с третьего класса вся моя жизнь протекала только в школах – обычной и музыкальной.
Папе некогда было мною заниматься, да и проблем со мной не было: в дневнике, как правило, всегда пятерки, меня хвалили учителя. А директор школы доверила мне проводить утром школьную линейку и зарядку. Как же я любила командовать! Это началось с детского сада, где я всегда с нетерпением ждала дежурства, чтобы распоряжаться ложками и тарелками, ну и конечно, приказывать мальчишкам в полном своем праве.
Иногда по вечерам папа читал нам с братом книги, все мы, и даже мама, сидели за круглым столом в гостиной. А еще помню, что папа водил нас с мамой в театр (брат уже учился в Ленинграде в Речном училище). Театр был для меня каким-то волшебством. А мама почему-то тянула нас домой: ей жали новые туфли и вообще было неуютно, она очень не любила быть на людях. Она любила быть дома одна, совсем одна и… вышивать. Здесь она была истинным художником. Брала какую-нибудь классическую картину, например Левитана, перерисовывала ее на ткань. Потом подбирала нитки, красила. Долго, месяцами работала, добиваясь удивительного результата. По цвету это были живые нежные пейзажи. Никаких швов не было видно.
Картины ее не раз отправлялись на выставки народного творчества, ее хвалили, но потом почему-то ее работы к ней уже не возвращались. А потом вообще случилось чудо. Мама перешла на портреты. Самой тонкой иглой, шелковой нитью, разделенной надвое, мелкими, едва заметными точками вышивала, в сущности, рисовала на ткани портрет так, что никто не мог поверить (если не рассматривал работу совсем вблизи или с лупой), что перед ним вышивка. В моей комнате в Переделкино и сегодня висит на стене портрет Льва Толстого ее работы, про которую друзья обычно спрашивают: «А кто художник? Какая интересная графика!»
Мама шила мне красивые платья, украшала их вышивкой, так что все девчонки завидовали. Но я относилась к этому как к должному. Конечно, рада была, могла чмокнуть в порыве благодарности, но по-настоящему оценить мамин труд не умела. Только с возрастом и, к сожалению, только с уходом мамы поняла, что была она художником, как и ее любимая старшая сестра Шура, которая писала маслом. Но с мамой мы никогда не были близки, и я не помню, чтобы о чем-то серьезном говорили.
К тому же я очень рано стала понимать, что дома надо о многом умалчивать. Вот во дворе с ребятами мы говорили обо всем, особенно когда прятались в развалинах разбомбленной церкви, рассказывая всякие ужастики. А иногда пели любимые песни.
А умирать нам рановато
Есть у нас еще дома жена, да не одна…
Но когда я спела одну такую песню папе, он вдруг рассердился, а я даже не поняла почему.
Так что дома мне поделиться было не с кем, а проблемы были. Вот принимали нас в пионеры. Как же было страшно! Учила пионерскую клятву. Ночью вдруг просыпалась и повторяла, повторяла эту чертову клятву. А вдруг ошибусь и меня не примут? Клятву я прочла без запинки. В пионеры меня приняли. Но страх остался.
Однажды мама с вызовом говорит папе: «Ленин ходил в ботинках, а Сталин – в сапогах…» – Она хотела продолжить, и вдруг папа резко ее прервал: «Замолчи и больше никогда не повторяй этой глупости». Я как-то догадывалась, что мама любит дедушку Ленина, который «ходит в ботинках», а Сталина, который «ходит в сапогах» не любит и боится. Но почему Ленин ходит в ботинках, а Сталин в сапогах – я эту загадку разгадать не могла, но каким-то чутьем понимала, что лучше не спрашивать. Сталина я тоже боялась.
Пионервожатая сказала нам, что, когда звучит гимн Советского Союза, каждый пионер, где бы он ни был, должен встать, поднять руку в салюте и простоять весь гимн. Пионервожатая была непререкаемым авторитетом для всех, хотя мне она почему-то очень не нравилась. Но ослушаться я, конечно, не могла. Вот лежу в своей кровати, в своей комнате. Почему-то не сплю. По радио бой курантов, полночь, звучит гимн. И хотя мне очень не хочется, я встаю и поднимаю руку в салюте. Но ведь меня никто не видит, никто не проверит! И жуткий страх: а вдруг сам Сталин увидит? Вот уж подлинно квазирелигиозный страх перед божеством!
Когда по радио сообщили, что Сталин умер, и завыли какие-то гудки, мама мне сказала, что сегодня в школу идти не надо. Отца, как всегда, дома не было. Я обрадовалась, что можно школу прогулять, и, никому ничего не говоря, отправилась на утренний сеанс в кино. Но в нашем кинотеатре «Москва», недалеко от Павелецкого вокзала, почему-то никого не было, а окошко кассы – закрыто.
Постучала. Окошко долго не открывалось, потом показалась встрепанная голова кассирши:
– Тебе чего надо?
– Я хотела купить билет в кино, – начала я неуверенно.
– Какое кино?! Ты что, не знаешь, что товарищ Сталин умер? Ты из какой школы, из какого класса?
Я поняла одно – надо спасаться бегством. И побежала… в школу. Там ребят почти не было, собрались одни учителя, некоторые плакали.
– Молодец, Зорина, что пришла, – похвалила меня классная руководительница. – Иди к портрету товарища Сталина и вставай на пионерское дежурство.
Встала, подняла руку в пионерском салюте. Стояла долго, про меня забыли, а может, некому было меня сменить. Рука затекала, и потому я осталась просто стоять без салюта, а потом тихонько улизнула. А ночью мне приснился товарищ Сталин. Он лежал, как дедушка Ленин в мавзолее, но почему-то странно улыбался и говорил: «Ну, Ирочка, иди сюда, не бойся». Ощущение было мерзкое и страшное. Но рассказать об этом я никому не могла.
Через много-много лет читала я замечательную работу Михаила Зощенко «Перед восходом солнца» и стала вытаскивать из своего детства страхи и некоторые необъяснимые истории, какие-то пароксизмы бешенства, которые иногда вдруг охватывали меня. Об одном таком глупом политическом бунте, случившемся со мной, школьницей младших классов, расскажу.
Декабрь 1949 года. Нам в школе объявили, что в Москву приезжает большой друг советского народа, великий Мао Цзэдун. Меня вызвали к директору и сказали, что, так как я лучше всех читаю стихи, мне поручается ответственное задание: приветствовать товарища Мао от имени всех пионеров нашего района на встрече общественности, которая будет проходить послезавтра в кинотеатре «Москва». На следующий день мне дали напечатанное на бумажке приветствие, которое я должна была выучить наизусть. Я выучила, даже, кажется, во сне повторяла.
На следующий день пришла (а может, меня привезли, не помню) в райком. Меня посадили где-то в коридоре. Бегали какие-то люди, волновались. Я долго ждала, захотелось есть и пить, но на меня никто не обращал внимания. И уже к вечеру кто-то сказал мне: «Иди, девочка, домой. Товарищ Мао к нам не приехал».
Утром пошла в школу, естественно не выучив уроки и даже не зная, что задавали. На уроке русского языка Роза Самойловна вызвала меня к доске. Удивившись, что такая хорошая ученица, отличница Зорина ничего не знает, Роза Самойловна задумчиво сказала: «Что же делать? Не ставить же тебе двойку?»
И тут меня будто черт попутал (и такое со мной потом будет не раз случаться). Я вдруг закричала: «Ну и ставьте двойку! Это все Мао Цзэдун, старый пердун!»

Ира Зорина (слева) – флажконосец. Крым, «Артек». 1949
Лицо бедной нашей училки исказилось до неузнаваемости. Она вдруг потеряла голос и прошептала: «Зорина, иди домой. Тише, дети, тише. Пусть Зорина идет домой».
В жизни моей было немало взрывов бешенства, которые потом дорого мне обходились. Самый нелепый случился в начале девяностых годов.
Меня часто приглашали в Испанию, в Латинскую Америку и в США: семинары, телевизионные дебаты, бесконечные интервью. Говорила я свободно и по-испански, да и по-английски, а главное, была такая свобода – говорила то, что думала, отбросив все формальные клише и цензурные ограничители, к которым мы так привыкли в совковые годы. В институте я бывала редко из-за постоянных разъездов. В 1993 году, озлившись на бесконечные звонки секретаря нашего Отдела развивающихся стран ИМЭМО (мы с Юрой жили уже в Переделкино): «Вам снизят зарплату на 10 рублей, потом еще…» – я выпалила: «Да снижайте вы, сколько хотите. Как вы мне надоели, пошли вы все на…!» Известная нам всем секретарь-информатор тут же побежала к начальнику Нодару Симонии (потом он стал директором) и доложила: «А Зорина послала вас на…» Тот озлился донельзя: «А мы ее пошлем на пенсию». И послали. Так я вышла на пенсию в 55 лет. Но о чем-нибудь просить у них? Да никогда!
Почему истфак
В 9-м классе к нам пришла молодая учительница Рита Петровна Немировская, историк, выпускница истфака МГУ. Она стала нашей классной руководительницей. Началась жизнь прекрасная и удивительная. Оказалось, что история – самая увлекательная наука. Рита Петровна рассказывала нам про Французскую революцию и пела «Марсельезу». У нее горели глаза, и всем нам – ну, может быть, и не всем – хотелось на баррикады. Я представляла себя Гаврошем. А уж как полюбила я Робеспьера, который хотел принести счастье бедным! Конечно, в головах наших была каша (думаю, грешила этим и молодая выпускница МГУ), но как сердца наши воспламенялись от ее рассказов, хотелось всех сделать счастливыми, и, главное, мы любили нашу Риту Петровну.
А потом мы стали делать капустник. Не помню, почему мне надо было упомянуть работу Ленина «Материализм и эмпириокритицизм». Я, конечно, понятия не имела, что такое эмпириокритицизм, и у меня вылетело более привычное «империокритицизм». Рита Петровна расхохоталась. Я надулась, но она вдруг поддержала меня: «Замечательно. Вот так и говори!» И все мы веселились, даже не зная чему.
Тут, с позволения читателя, сделаю важное для себя отступление. Несколько лет назад в нашем переделкинском доме раздался звонок.
– Это Ира Зорина?
Голос молодой и знакомый.
– Да, это я.
– Помнишь ли ты свою учительницу истории?
Меня окатила какая-то тепля волна… Ну конечно, это же наша любимая «историчка»!
– Конечно, Рита Петровна, помню. (Ничего себе – конечно. Прошло 54 года!)
– Вот если бы ты меня не узнала, а вспомнила бы Антонину Игнатьевну, я бы тут же повесила трубку!
Господи, кто это, Антонина Игнатьевна? Вспомнила, она вела у нас уроки истории СССР в десятом классе. Узнаю темперамент! Но сколько же ей теперь лет? Я судорожно считала. Наверное, уже за восемьдесят.
– Рита Петровна, как вы меня нашли?
– Прочитала в журнале «Знамя» отрывки из книги Юрия Карякина «Перемена убеждений», позвонила туда, дали твой телефон. Звоню тебе из Израиля. Не удивляйся. Я уже несколько лет здесь живу. Поехала вслед за сыном и внуками.
А уже через год я сидела в ее маленькой квартирке в доме для пожилых людей в красивом чистеньком поселке Герцилия Питуах, близ Натании, у самого Средиземного моря.
Когда шла по коридору, унылому, напоминающему больницу, волновалась. Что-то там увижу? Нищету, старость… Нет! Уютная квартирка. Балкон на море. Компьютер, полки книг, телевизор, кухонька с микроволновкой и всеми современными приборами и… роскошный стол, накрытый ради гостьи из Москвы. Конечно, моя любимая учительница постарела, отяжелела, но движения те же, стремительные, голова светлая, голос молодой. Я привезла ей свои книги, а она мне в ответ – свою книгу и какие-то самоделки-поделки из дерева.
Говорили долго, перебивая друг друга, будто подруги, давно не встречавшиеся. Вспоминали. Но больше сбивались на современную жизнь.
– Распад Союза – не просто беда, катастрофа!
– Рита Петровна, но это неизбежный финал слишком затянувшейся истории…
Дело шло к полуночи. Надо было возвращаться в Натанию, в гостиницу, откуда наша московская группа отправлялась следующим утром на север страны.
Но если вернуться в те давние школьные года, то честно признаюсь – именно благодаря замечательной Рите Петровне Немировской я решила стать историком и пошла на истфак МГУ.
* * *
Май 1955 года. Окончена школа. Две мои самые близкие подруги решили поступать на биологический факультет. Уговаривали и меня. Но я была непреклонна: только истфак!
Подала документы. Поскольку кончила школу с золотой медалью, должна была лишь пройти собеседование. Побаивалась. А когда пришла на собеседование и увидела, как мне показалась, толпу мальчишек (наверное, все умники!) и много фронтовиков – совсем струсила.
Вызывают меня. Собеседование принимают симпатичный и, мне показалось, уже немолодой Андрей Дмитриевич Ковальченко (как потом узнала, фронтовик, прошел всю войну, специалист по истории России XIX века) и молодой аспирант Андрей Сахаров, насмешливый и недоброжелательный. Из него сначала получился инструктор Отдела пропаганды ЦК КПСС, а потом – директор Института российской истории РАН.
Первый вопрос Ковальченко: «Ну, расскажите нам, почему вы хотите поступить на исторический факультет».
И тут у меня выскочило: «Потому что я люблю музыку!»
– ???
– Да, я хочу заниматься историей музыки. А знать и понимать музыку и культуру нельзя, не зная истории страны.
– Тогда скажите нам, когда и где была поставлена опера Глинки «Иван Сусанин».
– Ну, это элементарно! Она была поставлена в 1836 году в петербургском Большом театре. Но называлась она тогда «Жизнь за царя», потому что в ней рассказывается, как в 1612 году крестьянин Иван Сусанин завел отряд польской шляхты в лес, где все и погибли. И сделал он это ради русского царя и ради России.
Ответ, видимо, понравился. Профессор (я сразу решила, что он профессор) еще поговорил со мной о русской национальной музыке. Я, воспользовавшись моментом, кратко изложила доклад, который делала недавно в своей музыкальной школе о симфонической фантазии Чайковского «Франческа да Римини». Похоже, мы с профессором несколько увлеклись. И тут язвительный молодой Андрей Сахаров (он меня потом дразнил «Индобразилией», потому что я никак не могла решить, заниматься ли мне Индией или Латинской Америкой) задал коварный вопрос о Священном союзе и внешней политике России при Александре I.
Я поняла, что все пропало. Ничего я об этом Священном союзе не знала, но решила начать с серьезной марксистской подоплеки: «Чтобы понять внешнюю политику любого государства, надо обратиться к политике внутренней». Началось мое жалкое бормотание, и, по-видимому, профессору Ковальченко стало меня жалко.
– Достаточно, – сказал он и, не советуясь со своим молодым коллегой, добавил: – Вы приняты.
От этого неожиданного «вы приняты» я просто ошалела, попятилась к двери и уж совсем неприлично открыла ее задом. И тут услышала веселый голос историка русской культуры: «А дверь, милая девочка, надо все-таки открывать рукой».
Господи, неужели меня приняли в МГУ? Примчалась домой, быстренько рассказала маме о своих достижениях, позвонила отцу, не надеясь в скором времени его увидеть (он по-прежнему пропадал в министерстве днями и ночами, хотя главный его начальник – «ночной тиран» Сталин – почил в бозе), и с его, отца, благословения отправилась на Рижское взморье, в Булдури, в санаторий. Конечно, папа заранее побеспокоился о моем отдыхе.
И там, в Булдури, мне был дан первый предупредительный сигнал: «Осторожнее на поворотах! Начинается самостоятельная жизнь, а в ней все устроено не так, как у вас „за забором“!»
История, в общем, банальная. Познакомилась с молодым человеком, который тоже отдыхал в Булдури. Он окончил истфак МГУ, директорствовал в какой-то московской школе и, узнав, что я только что тоже поступила на истфак, решил поговорить со мной серьезно.
Мы катались вдвоем на лодке. Спокойная Лиелупе, желтые кувшинки, солнце пригревает, я уже настроилась на романтический лад, и вдруг…
– Послушай меня внимательно и ни с кем этот разговор не обсуждай, но сама подумай обо всем, что тебе сейчас скажу. Вот ты поступила на истфак и думаешь, главное в жизни сделано. А главное начнется и не будет таким радужным, как тебе теперь представляется. Ты девчонка неплохая, хотя и в меру избалованная. Истфак – это страшное место. Там надо держать язык за зубами. Каждый семинар может превратиться в провокационный допрос. У тебя, конечно, абсолютно советские мозги, но по простоте душевной и ты можешь чего-нибудь ляпнуть. Лучше всего – а у тебя еще есть время и золотая медаль – возвращайся в Москву и поступай в какой-нибудь другой институт, подальше от политики. У тебя как с физикой и математикой?
– В аттестате, конечно, пятерки, но физику я ненавижу, да и в математике не сильна. И потом, мне действительно интересна история.
Он еще что-то говорил, пытаясь меня убедить, что на истфаке будет очень трудно. А я думала: «Какой чудной парень! Солнце светит, вода теплая, кувшинки такие красивые…»
И тут он сказал нечто, весьма мне потом пригодившееся: «Ну ладно. Если уж твердо решила учиться на истфаке, ни во что не лезь, не бери никаких общественных нагрузок, а лучше занимайся спортом, ну и еще, конечно, любовью».
Как ни странно, это напутствие мне очень помогло. Насчет любви у меня не очень-то получилось. Мне всегда казалось, что с моим курносым носом я никому не нравлюсь. Мальчиков было на факультет мало, дружила в основном с девчонками. А вот спорт меня действительно спас.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































