Читать книгу "Кукареку. Мистические рассказы"
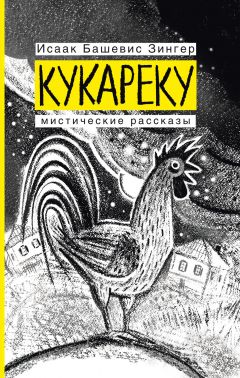
Автор книги: Исаак Башевис Зингер
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 18+
сообщить о неприемлемом содержимом
Пожар
– А могу я вам, йидн[53]53
Евреи (идиш).
[Закрыть], историю рассказать? Не сказку из книги, а быль. Много лет я хранил ее в тайне, но сейчас, в этом жалком приюте, на охапке соломы, с которой мне уж не встать… Да, евреи, я чувствую, что отсюда меня вынесут на тахрэ-брэйтл[54]54
Доска очищения, здесь: погребальные носилки (ивр. – идиш).
[Закрыть]. И не подобает человеку правду в могилу с собой уносить. Послал бы я за ребе с его подручными, чтобы все здесь записали дословно, но у брата моего, знаете, дети остались и внуки, и не хочется, чтобы им стыдно было. А история вот какая.
Родом сам я из Йонева, что под городом Замосьцем. Местечко наше называли вотчиной короля Голытьбинского. В самом деле, богачей там у нас не много. У отца моего, олэвхашолэм, было семеро нас, но пятерых позже не стало – выросли крепкими, что твой дуб, и разом, как по сговору, покинули свет. Три сына и две дочери. Что к чему – толком никто и не понял: подхватили лихоманку – и в дальний путь. Когда младшего, Хаим-Йойнэлэ, похоронили, мама начала таять как свечка. Болезни у нее не нашли. Просто легла в кровать и перестала есть. Соседки, бывало, заходят, спрашивают: «Бэйлэ-Ривке, что с вами?» А она: «Ничего такого, хочу умереть». Приводили врача, пускали кровь, ставили банки, пиявки, заговаривали от сглаза, натирали – не помогло. Помаялась пару недель, вся высохла, мешочек костей. После видэ[55]55
Покаянное признание умирающим своих прегрешений (ивр. – идиш).
[Закрыть] подзывает она меня и говорит: «Лейбуш, братец твой Липэ всегда сухим из воды выйдет, а тебя мне жаль». Дело в том, что отец меня не любил. За что – не знаю. Липэ, тот был повыше меня, в мамину родню, голова у него больше к ученью пригодна была. Но правда, учиться он не хотел. Я-то, скажем, очень хотел, а что толку: в одно ухо, бывало, влетит, в другое вылетит. Все же я и сейчас еще помню немного из Хумэша. Ну, забрали меня из хэйдэра. Братец Липэ был настоящей, как у нас говорили, виньеткой, а я, извините… Если брату случалось чего сглупить, отец отвернется, бывало, и не заметит, а то и подхвалит даже, а меня за любую промашку лупцевал беспощадно. И рука у него, да не зачтется мне в грех, была тяжеленная. Залудит – предков возвидишь. И сколько я себя помню, бил он, бутузил меня. Чуть что – снимает ремень и давай, так что полосы по всему телу. Ни единой малости не прощал. В бесмедреше[56]56
Малая синагога.
[Закрыть], известно, мальчишки всегда балуют, за молитвой толкаются. Стоило ж мне какой «омэйн» пропустить – в ухо. Дома я делал самую тяжкую работу. У нас была ручная мукомолка, так я напролет днями рукоятку вертел. Водоносом был, дрова рубил, топил печь, чистил нужник. Пока мама жива была, заступалась, как могла. А когда умерла, стал я в доме совсем наподобие пасынка. Обидно мне было, конечно, но что я мог? Братец Липэ тоже не прочь был поездить на мне. Лейбуш, подай то, Лейбуш, убери это. Вожжался он с подмастерьями, выпивал с ними. В шинке своим был.
А жила у нас в местечке девушка, Хавэлэ звали, и славилась она своей красотой. Отец ее торговал мануфактурой, настоящий хозяин, и, понятное дело, зятем желал иметь человека из семейства достойного. Вознамерился подкатить к ней, однако, мой брат. И забросил сеть. Подкупил шадхенов, чтобы те, значит, никого ей другого не сватали. А по всей округе слух пустил, будто в семье у них кто-то когда-то повесился, ну и тому подобное. Дружки подсобляли ему, а он угощал их водкой и пирогами с маком. Вскрыл ящик отцовый и брал оттуда, сколько хотел. Язык он имел без костей, сходился с людьми легко. Ну и кончилось тем, что папаша этой Хавэлэ сдался, просто устал. Отдали ему, братцу то есть, первую в Йоневе красавицу. На кнас-мол[57]57
Праздничный обед по случаю заключения брачного договора (ивр. – идиш).
[Закрыть] все местечко гуляло. Обычно жених не вносит приданого, а тут Липэ уговорил отца, и тот выдал ему двести гильденов. Дом им обставили как у богачей. Два оркестра играли на свадьбе – из Йонева и билгорайский. Как говорится, купили билет и въехали в родословную. А мне, между прочим – как-никак жениха всё же младшему брату, – даже одежку к событью не выправили, а уж что за обувь на ногах… Отец, правда, пообещал мне, но все тянул и откладывал, так что когда и купил наконец материал, шить поздно было: портные не успевали. На свадьбе слонялся я как забредший нашарник, оборванец в каких-то обносках. Девушки надо мной смеялись, выдразнивали меня.
Я считал, что конец меня ждет такой же, как у трех моих братьев и обеих сестричек: свалюсь и помру. Но было мне суждено жизнь прожить, и немалую. Липэ женился и вошел в свой собственный дом с правой, как говорится, ноги. Он стал торговать зерном – и ему повезло. Под Йоневом стояла водяная мельница, принадлежала она доброму одному еврею, реб Исруэл-Довиду, сыну, как об этом еще помнили здесь, старой Малки. Братец мой стал сразу у реба Довида, что называется, колвелох – большой поварешкой. И хозяин продал ему мельницу за бесценок. Почему – не знаю. Поговаривали, будто мельник собрался, совместно с родней из Венгрии, в Эрец-Исраэль. Но старик вскоре умер.
Хавэлэ рожала детей, и дети у нее были друг дружки красивей. Люди каждый раз прибегали, смотрели на новорожденного и восхищались. Мой отец, выдав брату на приданое, сам себя подкосил. Остался без денег. Торговля пошла не та. Да и силы его начали таять. Но если вы думаете, что братец Липэ поддержал его, подставил плечо, то вы ошибаетесь. Нет, он прикинулся слабовидящим и сыграл в «моя непонимай». А отец всю горечь свою изливал на меня. Ругался, зверел, проклинал. Чего он хотел от меня, до сих пор не догадываюсь. Так бывает, родитель ненавидит свое же дитя. Что, бывало, я ни скажу – я дурак, что ни сделаю – плохо. Ну а потом отец заболел, и сразу видно было, что добром эта хворь не кончится. Братец весь в гешефты свои ушел, а я отцом занимался. Умывал его, причесывал, купал, горшки выносил. У него желудок попортился, и что он, бывало, ни съест, от всего его рвет. Позже болезнь перекинулась в ноги. Он совсем перестал ходить, и я все подносил ему. А он заедал меня, измывался, просто уничтожал. И так порой становилось невмоготу, что хоть на край света беги. А куда побежишь, да и как бросишь больного отца? Короче, я молчал и терпел. Терпел и молчал. В последние, помню, недели сущий ад разгорелся. Отец беспрерывно стонал и сыпал проклятиями. Братец Липэ раза два появлялся, войдет так бодренько и с веселой улыбочкой спрашивает: «Ну что, папа, сегодня не лучше?» И отец мгновенно преображался – ни охов, ни брани. Да простит ему все это Бог, я-то простил: разве ведал человек, что творил?
Ну, гсисэ[58]58
Агония (ивр. – идиш).
[Закрыть] две недели тянулась. Что-то страшное. Он открывал глаза и с ненавистью меня разглядывал… А после похорон еще выяснилось, что отец меня и наследства лишил, все отписал брату Липэ: дом, шкафы, сундук, мукомолку, даже кухонную посуду. Местечко встревожилось, заговорили, что это нарушение еврейских законов. Отыскали соответствующий посэк[59]59
Предложение, цитата и т. п. из Танаха (ивр. – идиш).
[Закрыть] и предложили брату мне дом уступить. Липэ в ответ расхохотался. Мукомолку и мебель он тоже увез к себе, мне оставил одну подушку. Трудно поверить, но все это – чистая правда, мне бы чистым таким пред Богом предстать.
Пошел я работником к столяру, но платил он – на хлеб не хватало. Спал я в чуланчике. Братец Липэ совсем обо мне забыл. А ведь кто целый год читал по усопшему Кадиш? Я, а не он. Я, видите ли, живу «в городе», а там легче миньян собрать. По субботам он тоже не может: в местечке у нас нет эрува[60]60
Оцепление (веревкой и т. п.), позволявшее в субботу переносить предметы в пределах этого пространства.
[Закрыть]. Мастер был на увертки. Ну, поначалу о нем посплетничали, потом перестали. Начали поговаривать даже, что поделом мне, что «такую палку» я, наверное, заслужил чем-то. Когда человека пинают, всяк норовит ногой приложиться.
Я уже парнем был, бороденка уже пробивалась, но сватать меня и не думали. Один раз, правда, сватали, но такую, прости господи… Врать не стану, нравилась мне одна девушка, дочка сапожника. Я ее иногда видел, по утрам, когда она помойное ведро выливала. Но прочили ее бондарю. А круглый сирота кому интересен? Настолько глуп, чтобы это не задевало меня, я не был. Ночами, помню, не сплю, и меня прямо как от озноба трясет. За что? Почему? Что плохого я сделал отцу? Я даже хотел Кадиш бросить читать – но тут и год траура кончился. И потом: кто же мстит мертвецу?
Как-то вечером в пятницу улегся я в своем чуланчике на куче стружек. День был тяжелый. В те времена к работе приступали с рассветом, а заканчивали уже в сумерки, когда свечи зажигать пора. Так что у меня даже не было времени сходить в баню.
По пятницам на обед горячего обычно не подают, чтобы, значит, приберечь аппетит на вечер, для субботней трапезы. Зато вечером все получили по доброму куску рыбы, и только мне хозяйка положила костистый хвост, которым я сразу и подавился. Бульон был водянистый, без единой жиринки, а когда дошло до курицы, то мне из кастрюли достались две жилистые будыли. Мало что их не разжуешь, они еще плохо влияют на голову. Даже халы мне не досталось. А к цимесу и притронуться не успел. И отправился спать голодным.
Стояли зимние ночи. В чуланчике было холодно, шмыгали мыши. Я лежал, окоченевший, на стружках, накрывшись всяким тряпьем, и гнев меня охватил. Казалось, попадись мне сейчас мой братец – на куски разорвал бы. А жена его Хавэлэ? У приличных людей невестка – ближе, чем сам брат, а эта… Помнит только себя и своих кукленков-детей. Наряжается – панна, а если появится изредка в синагоге на какой церемонии – невесту, к примеру, сопровождать, – то непременно в шляпе с пером. Куда ни пойдешь, только и слышно: Хавэлэ это купила, Хавэлэ то купила. Всех забот у семейки одна – выфрантиться и выпендриться. Хавэлэ заказала себе две шубы и надевала их через раз – то каракулевую, то чернобурку. А всяких на ней финтифлюшек, а всяких на ней побрякушек! А я валяйся тут как собака и слушай музыку в животе… Ну и начал же я их честить! Даже Бога просил, чтоб наслал он на них всяких бед и хвороб. С тем и уснул.
Просыпаюсь среди ночи и чувствую: нет, я должен расквитаться. Точно бес меня за волосы приподымает и орет прямо в ухо: отомсти им, Лейбуш! Отомсти, отомсти! Я встал, в темноте нашарил мешок, набил его стружкой. В субботу заниматься делами запрещено, но я, по правде сказать, и забыл, что еврей. Точно дыбэк вселился в меня. Тихонько оделся, вскинул мешок на плечо, прихватил фитиль и два кремня. И прочь со двора – жечь дом брата своего, жечь мельницу брата своего, жечь амбар брата своего, жечь все, что там еще есть у брата.
Ночь была темная, черная, а дорога – далекая. Я пробирался задними улочками. Дальше – через болото, через луга, где летом коровы пасутся. Через лес и поляны. Я понимал, что я всё для себя потеряю – мир здешний и мир будущий. Вспомнил маму: что она скажет там, лежа в могиле? Но уж если ты дал овладеть собой злобе, то, как говорится, себе же глаз выколешь, только б оба – другому. Я не очень даже опасался, что меня могут увидеть – припозднившийся сельчанин или еще кто. Я был в состоянии, что называется, хосэр-дэйе[61]61
Невменяемость, сумасшествие (ивр. – идиш).
[Закрыть], шел, и шел, и шел дальше. Налетал порывистый ветер, стынь пронизывала тело насквозь. Я застревал по пояс в снегу, выбирался и тут же оказывался в соседнем сугробе. На подходе к Хоинкам – деревенька такая – на меня напали собаки. Оно ведь как: стоит одному псу поднять лай, вся округа сбегается. Озверевшая стая – и за мной! и за мной! Догонят – в куски, в лоскутки разорвут. Чудо еще, что мужики не проснулись, они бы со мной уж разделались, поди убеди их, что не шел я к ним, в столь время ночное, красть лошадей… Несколько раз я хотел уже сбросить мешок и бежать сколько ног хватит, хоть обратно в чуланчик поспать, а хоть просто куда глаза глядят, через всю страну, на край света… Но снова и снова ударяло мне в голову бешенство: иди! иди! Иди отомсти! Теперь или никогда!
И я шел, проваливаясь в намёты, поднимался, шел дальше. Стружки – вещь нетяжелая, но ведь – полный мешок! Спину ломит, потом весь обливаюсь, а – иду. На свою же погибель.
И вот, йидн, что дальше.
Иду я и вижу: небо вдруг как зарделось. Неуж заря брезжит? Дело ж было на короткую пятницу, когда ночи вон как длинны. А смотрю – по приметам и до мельницы недалеко. Я – скорей, только что не бегом…
Ну, что долго расписывать? Подхожу и вижу: горит мельница. И дом брата в огне. Вы о таком когда-нибудь слышали? Я собрался поджечь – а оно уж само горит. Остановился, смотрю как помешанный. И чувствую: мозг в голове шевелится. Все, думаю, свихнулся. Сбросил мешок с плеча – и туда! Стрелой из лука! И что-то ору во весь рот. Метнулся к мельнице, но вспомнил: Липэ! Липэ, Хавэлэ, дети! Влетаю в дом: дым, огонь. И от дыма они, наверно, потеряли сознание. Балки горят. Светло, как на Симхэс-Тойрэ. Жар, как в печи. В спальню вбегаю, подхватываю на руки брата и, высадив раму, выбрасываю его на снег. Хватаю Хавэлэ. Ребенка. Другого ребенка. Все семейство. Сам едва лишь не задохнулся, но всех их спас. И только вынес последнего малыша – рухнула крыша. На снегу угоревших в чувство приводят. Это на вопли мои сбежались окрестные жители. От дома ничего не осталось, груда золы и печная труба. А мельницу почти затушили. Тут я вижу мешок мой, ну и в огонь его.
А уже рассвело. Брат на снегу очнулся, сел и спрашивает: что случилось? И ко мне: «А ты откуда здесь взялся?» А я что ответить не знаю. Невестка как завопит: «Это он поджег! Он!» И бросается на меня глаза мне повыцарапать. Крестьяне меня в круг берут: «Да, каким чертом тебя занесло?» У меня, понимаете, речь отнялась, а они меня палками! Палками! И со злобой такой… Брат мой, когда видит, что я весь в крови уже, говорит: «Довольно, соседи, есть Бог, он его и накажет» – и плевок мне в лицо.
Кое-как я добрался домой. Не ногами шел, а ползком, окровавленный, как подстреленный зверь. Несколько раз садился, прикладывал к ранам снег.
Возвращаюсь домой, а в городе переполох. Все с расспросами: «Ты где был? Ты откуда узнал, что у брата горит?» И при этом, конечно, убеждаются в своих подозрениях. Столяр мой в чуланчик заходит да как завопит оттуда: «Мешок! Его мешка нет!» Йонев шумит, как же: брат брата поджег! Да еще в субботнюю ночь!
Вижу я, дело плохо, засадят еще в тюрьму или привяжут в прихожей бэйскнесэса, где каждому вольно будет ударить меня, оплевать. Взял я и сбежал.
Старый балэголэ меня пожалел и на исходе субботы вывез из Йонева. В тот раз он вез не людей, а груз и товар, а меня усадил между бочками. Ночью мы тихо выехали на Замосьц. Но в Замосьце тоже об этой истории стало известно, и я убрался в Люблин. В Люблине освоил столярное дело. Женился. Жена оказалась нероженкой. Я много и тяжело работал, но работа мне мазл-брохэ[62]62
Благословение, богатство, счастье (ивр. – идиш).
[Закрыть] не принесла. Мой брат Липэ стал настоящим магнатом, пол-Йонева отошло к нему. Мы с ним больше никогда не встречались и не писали друг другу. Он потом породнился с раввинами и богачами. Его уже нет на земле. Прожил жизнь в достатке и почестях.
Раньше я никому про все это не рассказывал, кто поверил бы мне? Я даже скрывал, откуда я родом, врал, что из Щебжешина. Теперь, на смертном одре, не могу больше, йидн, обманывать. И вот рассказал вам всю сущую правду. Одного не пойму: почему пожар у брата случился как раз тогда? А недавно пришло мне на ум, что дом занялся неслучайно – от гнева от моего, а? Вы как думаете, может такое быть?
– Гневом дом не запалишь.
– А вот говорят же: гневом пылает.
– Это только так говорят.
– Да, но, когда я увидел огонь, я ведь сразу все счеты забыл, я же бросился к ним, всех их спас! Ведь если б не я, сгорели б дотла, до черных углей. И теперь, перед смертью, я хочу одного: чтобы люди правду узнали!
Эстер-Крейндл Вторая
В городе Билгорае жил меламед по имени Мэйер-Зисл, коренастый приземистый человек, полнолицый, со щеками как яблоки на Симхэс-Тойрэ, борода черная, окладистая, полный рот крепких зубов, глаза – спелая черешня, на затылок сползающая шевелюра, густая и темная – настоящая звериная шерсть. Мэйер-Зисл любил хорошо поесть, мог выпить зараз полкварты водки, имел голос певучий и зычный и на свадьбах плясал до утра. Для особо подробных наставлений детишкам терпения у него не хватало, но местные богачи все равно отдавали ему в обучение своих отроков, ибо был он во всем остальном человек основательный.
В тридцать шесть лет он овдовел. Жена оставила ему полдюжины деток, так что вскоре женился он на вдове из Крашника, на Рейцэ. Рейцэ – женщина молчаливая, высокого роста, костлявая, с длинным носом и конопатым лицом – служила в девичестве молочницей у одного еврея-тихони, после чего вдруг вышла замуж за богатого семидесятилетнего реб Ижбицера и родила ему девочку. Этот реб Танхум Ижбицер незадолго до смерти своей обанкротился, то есть разорился, то есть вдове ничего не оставил, кроме робкой, всего боявшейся маленькой Симэлэ. Но к тому времени Симэлэ умела уже писать, могла прочитать страницу-другую из тайч-Хумэша, а покуда реб Ижбицер жив был, он всегда привозил ей с ярмарок – кроме всяких там бус и платочков, башмачков и комнатных тапочек – книжку сказок, купленную у бихэр-трейгера, у книгоноши. И вот теперь, когда мать ее вышла замуж, Симэлэ все это привезла с собой в Билгорай, и они стали жить в доме отчима, у Мэйер-Зисла.
А у Мэйер-Зисла, как сказано, было два сына и четыре дочери – крикуны, драчуны, ободранцы, обжоры, замашки имели настоящих мэшумэдов[63]63
Мэшумэд – еврей, принявший другую веру (ивр. – идиш). Близкие соблюдали по нему семидневный траур, как по умершему.
[Закрыть], в любое время готовые что-нибудь выклянчить, высмотреть, прибрать к рукам. У Симэлэ они сразу все отняли. Потом понемногу стали ее поколачивать и дали ей прозвище: панночка. Это потому, что Симэлэ была брезгливой – не доедала с чужих тарелок, и чересчур манерной – не раздевалась при своих сводных сестрах.
Вся в мать – длинноногая, узкие бедра, белая кожа, большие глаза на тонком лице со впалыми щеками, черные как смоль волосы, – такая была Симэлэ. Она сразу прекратила водиться с детьми Мэйер-Зисла, не смогла подружиться и с соседскими девочками и старалась поменьше выходить из дому, потому что уличная босота бросала камни в нее. Весь день просиживала она в углу, перечитывала свои книжки и плакала.
Она с малолетства любила истории. Мать, бывало, ей перед сном что-нибудь расскажет, реб Ижбицер, случалось, присаживался на край постели и сказку читал ей, выбрав какую почудесней да пострашней. А то происшествие вспомнит какое, чаще – из жизни друга его Зораха Липовэра. Зорах Липовэр жил в Замосьце и богатством своим славился на пол-Польши. У него и жена из богатых происходила, и про нее реб Ижбицер тоже рассказывал маленькой Симэлэ, а звали ту жену Эстер-Крейндл. И про детей их рассказывал, и про всю их роскошную жизнь.
Вот возвращается как-то Мэйер-Зисл к обеду домой и приносит ужасную новость: у реб Зораха Липовэра из Замосьца жена умерла. Симэлэ как услышала – затряслась вся, и глаза сразу большие, просто огромные. Почему-то вспомнились тут и рассказы отца, реб Ижбицера, и город Крашник, то прекрасное время, когда была у нее своя комнатенка, кровать с двумя пухлыми подушками и сатиновым покрывалом, и даже домработница, подставлявшая ей к постели сахарки и всякие вкусности. А теперь жила Симэлэ в духоте, дом почти не покидая, в одном и том же износившемся платье и рваных ботинках, в волосах пух какой-то, вся себе самой неприятная, в бане наскоро, толком не мытая, всегда в тесноте, в толчее, в окружении этих просто бандитов, только и ищущих повода, чтобы поизмываться над ней, что-нибудь ей подстроить, наподличать… Ну вот, и когда Мэйер-Зисл вошел с этой новостью, Симэлэ всплеснула руками, закрыла лицо ладонями и заплакала. Она и сама понять не могла, отчего она плачет: то ли покойницу жаль, которой теперь в темной могиле истлевать суждено, то ли себя оплакивает, жить обреченную – жить в этом доме.
2
Сводные братья Симэлэ, отпрыски Мэйер-Зисла не давали ей выспаться по утрам. Место ей выделили на жесткой узкой лавке, с которой она то и дело скатывалась, так что Рейцэ стала забирать дочку в свою постель, но и это было нехорошо, потому что Мэйер-Зисл нередко наведывался к жене по ночам, а Симэлэ уже понимала, конечно, про отношения между взрослыми и лишь притворялась, что спит.
Как-то раз, когда Симэлэ опять спала с матерью, Мэйер-Зисл вернулся, уже за полночь, с какой-то свадьбы, вусмерть пьян, весь раззадоренный и разохоченный. Он сгреб Симэлэ своими двумя лопатищами и перебросил ее на лавку – прямо на кучу мокрого белья, с вечера оставленного там Рейцэ. Вскоре Симэлэ удалось заснуть, а когда она снова проснулась, в комнате стоял храп. Было очень сыро и холодно, и она на ощупь укрылась каким-то мешком. Вдруг послышался шорох, будто кто-то скрёб пальцем по древесине. Кровь у Симэлэ застыла от ужаса, она открыла глаза. Дом наполнен был мраком, а над печью стена светилась какими-то всполохами. Но откуда б им взяться? Ставни плотно закрыты, и свеча не горит. И вот смотрит Симэлэ, а свет на стене начинает дрожать и меркнуть, и постепенно складываться в некий образ. И не успела Симэлэ испугаться, как мерцающие точки и пятна собрались, как на вышивке, в женский облик, настоящий портрет: лоб, глаза, нос, рот, шея. Лицо разомкнуло уста и заговорило голосом, который, наверно, был слышен только ей, Симэлэ:
– Симэлэ, девочка моя, знай, что я – Эстер-Крейндл, жена реб Зораха Липовэра. Покойники – да, пребывают в покое, но мне, Симэлэ, покоя нет, ибо муж мой тоскует по мне, окликает меня днем и ночью, рыдает и никак не может с моей смертью смириться, хотя скорбные дни, отпущенные живому для того, чтобы свыкнуться с горькой утратой, прошли, кончились. Если б могла я встать из могилы и вернуться к нему, я бы, конечно, сделала это, но на мне неподъемная толщь, четыре локтя земли. А черви уже выели мне зрачки. И поэтому я, душа той, что прежде была Эстер-Крейндл, получила соизволение найти для себя другое тело. И я выбрала тебя, Симэлэ. Твой отец реб Танхум и мой муж – побратались, и чужой я себя не почувствую. Сейчас я войду в тебя, и ты станешь мною. Не пугайся, ничего плохого с тобой не случится, утром встанешь, оденешься, покроешь, как женщине следует, голову и сообщишь своим близким, что с тобой ночью произошло. Толстокожие типы откажутся верить и начнут, кто в чем, обвинять тебя, но я, Симэлэ, – во всем и всегда буду тебе заступницей, ты только все хорошо запомни, что я сейчас скажу тебе. Ты отправишься в Замосьц к моему безутешному мужу и станешь ему женой, супругой, возляжешь у чресл его и будешь служить ему верно и преданно, как служила ему я все сорок лет, день за днем. Мой Зорах, может быть, поверит не сразу, но я дам тебе доказательства. И прошу тебя, поторопись, потому что он там жестоко терзается, и если помедлить, то можно и опоздать. А исполнятся сроки – мы станем с тобой двумя скамеечками у его ног в раю. На меня обопрет он правую ногу, на тебя – левую, и будем мы как Рохл и Лея, и дети мои будут твоими детьми, как если бы они вышли из общего нашего лона…
Долго еще говорил светозарный тот лик, поверяя юной Симэлэ всевозможные тайны и всяческие секреты, которые может знать и должна знать только жена. И только когда петух закричал на своем насесте, а между створками ставней вспыхнул луч зари, голос в комнате смолк. И в тот же миг Симэлэ ощутила, словно что-то глубоко проникло ей в ноздри, что-то плотное, твердое, как горошина, поднялось к голове и протиснулось в череп. Мгновенная боль – и сразу все стало в ней разбухать и расти. Она чувствовала, как удлиняются ноги и руки, расширяется грудь, увеличивается живот – тело зрелой женщины. Зрелыми становились и мысли – мысли супруги, матери, бабушки, хозяйки большого дома, распоряжающейся прислугой, кухней, работниками. Слишком было все удивительно, чтобы при этом еще и удивляться. Симэлэ пробормотала что-то о призраках и опять впала в сон. И во сне к ней опять пришла Эстер-Крейндл и оставалась с ней, пока Симэлэ не открыла глаза.
3
Выросшая в доме реб Ижбицера неженкой, Симэлэ по утрам пыталась, коль удавалось, попозже поспать. Но в этот день она проснулась вместе со всеми. Сводные братья и сестры, увидев ее, укрытую мешком из-под муки, стали смеяться и уже собирались поиздеваться над ней – поводить по пяткам соломинкой, облить из таза водой – но Рейцэ отогнала их. Симэлэ села на лавке и добродушно так рассмеялась и сотворила «Мойдэ ани». Вообще-то не принято, чтобы юной девице подавали к постели нэйгл-васэр[64]64
Буквально: вода для ногтей (идиш). После сна и ранней молитвы омовение кончиков пальцев рук, согласно канону, но явно с гигиенической целью.
[Закрыть], но Симэлэ попросила, и мать, пожав плечами, принесла ей воду и таз. Затем Симэлэ оделась, мать дала ей позавтракать – ломоть хлеба и чашку цикория. Симэлэ сказала, что хотела бы сперва помолиться. Она достала субботний платок и повязала голову. В то утро Мэйер-Зисл был дома и пораженный наблюдал за поведением падчерицы. Симэлэ молилась по сидэру, наклонялась, била в грудь себя, после слов «ойсэ шолэм бимроймов»[65]65
«Приносящий умиротворенность» (ивр. – идиш).
[Закрыть] сделала три шага вперед, а произнося «Алэйну», после слов «ибо они поклоняются…», как положено, сплюнула. Перед тем как сесть завтракать, снова вымыла руки по локоть и благословила трапезу. Пацанва в недоумении окружила ее, наперебой тараторя, а она с материнской улыбкой старалась их утихомирить: «Дети, дети, уймитесь, дайте и мне слово сказать!» Младшую девочку поцеловала в голову, потрепала за щечку мальчонку, другого заставила выдуть нос и утерла его своим передником. Рейцэ только глаза таращила, а Мэйер-Зисл сидел и скреб в затылке.
– Что за штуки она выкидывает? Х’лебн[66]66
Чтоб я так жил (идиш).
[Закрыть], ее просто не узнать…
– Так повзрослеть за одну ночь… – пробормотала Рейцэ.
– И молится точь-в-точь как габэтша Трайнэ-Йентэ, раскачивается, – заметил старший из братьев.
– Симэлэ, у тебя что-нибудь случилось? – спросила наконец, отчего-то смущаясь, Рейцэ.
Та не сразу ответила. Она ела, обстоятельно пережевывая еду, и, только проглотив, что было так на нее непохоже, спокойно заметила:
– Я больше не Симэлэ.
– Что? Не Симэлэ? А кто ж ты, по-твоему? – опешил Мэйер-Зисл.
– Эстер-Крейндл, жена реб Зораха Липовэра. Сегодня ночью в меня вселилась ее душа. Теперь вы должны отвезти меня в Замосьц к моему супругу и детям. Хозяйство там без меня пропадает, реб Зораху нужна жена и домоправительница…
Старшие ребята так и прыснули со смеху, младшие рты пораскрыли. Рейцэ вся как мел побелела. Мэйер-Зисл сгреб в кулак бороду:
– В эту девушку дыбэк вселился!
– Никакой не дыбэк, а святая душа Эстер-Крейндл. Она не смогла улежать в могиле, потому что реб Зорах тоскует и мается, а дом приходит в упадок… Она доверила мне все расчеты, поручила вести хозяйство. Если вы мне не верите, то у меня есть все подтверждения.
И Симэлэ открыла им кое-что из того, что сообщила ей Эстер-Крейндл ночью – наяву и во сне. И чем дольше Симэлэ говорила, тем сильней удивлялись Мэйер-Зисл и Рейцэ. Рассуждения, сам тон ее речи были необычными для девушки ее возраста. Это сидела почтенная и опытная в делах женщина, мать взрослых дочерей, у которых есть уже мужья. Слова она употребляла такие, что Симэлэ и произнести не посмела бы, если б даже и знала их, она вспоминала свои болезни, больше всего последнюю, когда знахарки и доктора совсем доконали ее пилюлями, кровопусканиями, притираниями, пиявками. И как это всегда бывает в захолустных местечках, где под дверью у всех подслушивают и подсматривают в замочную скважину, слух разошелся мгновенно, и сбежалась большая толпа.
4
Симэлэ вызвали – срочно! – к раввину. Собрались все парнэйсим[67]67
Парнэс – представитель общины (ивр. – идиш).
[Закрыть] и другие почтенные йидн. Ребецн набросила крючок на дверь, а сам ребе и с ним рошекоол[68]68
Председатель общины (ивр. – идиш).
[Закрыть] и несколько наидостойнейших женщин устроили Симэлэ настоящий допрос, силясь выяснить, не врет ли она, не поселился ли в ней Руэх-ра[69]69
Злой Дух (ивр. – идиш).
[Закрыть] или, по меньшей мере, какой-нибудь лапитут из тех, что всегда норовят одурачить, сбить с панталыку честного, порядочного человека, завлечь его в свою сеть. После долгих многочасовых расспросов все, в конце концов, убедились, что Симэлэ ничего не выдумывает и не врет, что рассказ ее – чистая правда, потому как не только речь, голос и тон, но и выражение лица, улыбка, привычка вдруг нос шейным платком утереть, покачать головой, а также изысканные манеры – все это тютелька в тютельку как у покойной Эстер-Крейндл (которую большинство присутствующих знало). И потом: Нечистый – он ведь гордец, он высокомерен, унижает людей и позорит, а тут – ко всем уважительность, мудрость в ответах, тонкость суждений. Мужчины – те сгребли в кулак бороды, а женщины – одна сидела, вывернув ладони с переплетенными пальцами, другая с тревогой ощупывала чепец, третья потуже затягивала и опять распускала тесемки на фартуке. Прибежали ветхозаконницы из хэврэ-кэдишэ[70]70
«Святой союз», похоронное братство (ивр. – идиш).
[Закрыть], которых, известно, не так просто прослезиться заставить. Но слезы текли у них по мясистым щекам, потому как здесь и слепой бы увидел, что на белый свет возвратилась сама Эстер-Крейндл.
Тут же Зайнвл-балэголэ запряг лошадей в повозку и, прихватив свидетелей, погнал в Замосьц: известить реб Зораха Липовэра о случившемся. Реб Зорах выслушал их и заплакал. Потом сел с дочерьми и сыном в карету, и четверка цугом понесла их в Билгорай, причем кучеру было сказано не беречь впрок кнута. Шлях к той поре уже весь просох, кони летели как на крыльях, и к вечеру реб Зорах с детьми были на месте. А Симэлэ все это время оставалась в доме раввина, жена его за нею присматривала и не давала всяким умникам и зубоскалам к ней приставать. Симэлэ сидела на кухне и вязала чулок для ребецн (а ведь Рейцэ давно уже сетовала, что, смотрите, дочь скоро девушкой будет – а вязать так и не научилась), рассказывая присевшим вокруг нее женщинам про всякие стародавние происшествия, про неслыханные морозы, каких уж теперь не бывает, про ужасные засухи и страшные снегопады в разгар лета, про вот такой вот град, проламывавший крыши, про падающих на землю рыб и лягушек, про ураганный ветер, обрывающий крылья у мельниц. Она выказала обширные познания в том, какие кушанья варят или пекут в богатых домах, размышляла о женских слабостях и недугах, о болезнях молодых рожениц и о всяком таком, что может знать только женщина, сама выносившая и родившая много детей. Все слушали ошеломленные: отроковица разговаривала с ними, как ровня и сверстница. Донесся скрип колес, карета остановилась, и реб Зорах Липовэр с семейством ворвался в дом. Он влетел в кухню, и Симэлэ поднялась со стула, отложила чулок и сказала:
– Зорах, я вернулась.
Женщины разразились рыданиями. Зорах смотрел на нее как одержимый…
Начался новый допрос, затянувшийся за полночь. Те, кто был при этом, рассказывали о той ночи еще многие годы спустя, и, как оно завсегда бывает, одни помнили одно, а другие – совсем другое. Споры вспыхивали и нередко кончались ссорой и руганью. Но в одном все сходились: та, что поднялась со стула навстречу реб Зораху, была не кто иная, как истинная жена его Эстер-Крейндл. Зорах не сразу пришел в себя – больше часа сидел и плакал, сиречь выл, скулил, ревел дурным голосом. Сын Зораха тут же назвал Симэлэ мамой. Сестры его так с наскоку не поддались, одна за другой они подступали к Симэлэ, пытались ее уличить, подозревая в ней проходимицу, желающую присвоить богатство их матери. Но постепенно они убеждались, что все рассказанное – правда. И прежде чем наступил рассвет, две дочери Зораха произнесли наконец-то это слово: «мама».
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































