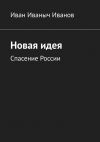Текст книги "Свет, обманувший надежды"

Автор книги: Иван Крастев
Жанр: Зарубежная публицистика, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Новая немецкая идеология
Прошло три десятилетия с тех пор, как тезис о том, что либеральная демократия западного образца стала высшей нормой и формой человеческого существования, перевернул мир внешней политики с ног на голову. Сегодня один из самых уважаемых интеллектуалов Германии Томас Баггер оглядывается, подобно сове Минервы, на давно и дружно похороненную интеллектуальную конструкцию и утверждает, что именно европейцы, а не американцы, истинно верили в окончательную победу либерализма над всеми альтернативными идеологиями. По этой же причине европейцы, и особенно немцы, оказались наиболее уязвимыми перед текущим крахом либерального строя.
По словам Баггера, европейцев, и особенно немцев, в парадигме конца истории более всего привлекло то, что она освободила их и от груза прошлого, и от неопределенности будущего: «К концу века, в котором Германия дважды оказывалась не на той стороне истории, она наконец-то вышла на правильную сторону. То, что десятилетиями казалось невозможным, даже немыслимым, вдруг оказалось не только реальным, но и фактически неизбежным»[114]114
Thomas Bagger, ‘The World According to Germany: Reassessing 1989’, Washington Quarterly (22 January 2019), p. 54.
[Закрыть]. Происходившее буквально на глазах преобразование стран Центральной и Восточной Европы в парламентские демократии и рыночные экономики было воспринято как эмпирическое доказательство обоснованности смелого утверждения о том, что человечество в своем стремлении к свободе должно опираться исключительно на либеральную демократию западного образца.
C немецкой точки зрения все было еще лучше: личностное воздействие и харизма лишались ведущей роли в политике. История склонялась в сторону либеральной демократии. Для страны, настолько израненной ужасающим «фюрером», что сам перевод слова «лидерство» на немецкий звучит двусмысленно, глубоко обнадеживающей стала убежденность в том, что отныне об общем направлении истории позаботятся более масштабные, но абстрактные силы. Личностям отводилась роль второго плана – их задача ограничивалась администрированием наступления неизбежного[115]115
Thomas Bagger, ‘The World According to Germany: Reassessing 1989’, Washington Quarterly (22 January 2019), p. 54.
[Закрыть].
В мире, где господствовал моральный императив, требовавший имитировать непревзойденную модель либеральной демократии западного образца, ни одна страна не должна была пребывать в ловушке своего прошлого или брать на себя ответственность за свое будущее. Сведение политической жизни к более или менее удачной имитации этой полностью отлаженной политической и идеологической «супермодели» давало человечеству в целом и немцам в частности прошлое и будущее сразу – два по цене одного.
К этой обнадеживающей немецкой мечте можно добавить, что имитационный императив – в восприятии (или воображении) Центральной и Восточной Европы – молчаливо подразумевал, что реальным образцом для успешного подражания была именно Германия. Германия стала «паладином» обращения в либеральную демократию, поэтому именно она должна была продемонстрировать посткоммунистическим странам, как работает имитация[116]116
«В то время как многие другие страны мира должны были трансформироваться, Германия могла оставаться такой же, как сейчас, ожидая, пока другие страны постепенно присоединятся к ее модели. Это был всего лишь вопрос времени». – Bagger, ‘The World According to Germany’, p. 54.
[Закрыть]. Исторически и географически самой близкой моделью для вновь освобожденных восточных государств была не Америка, а Германия, страна, которая прежде сама наиболее успешно имитировала Америку. К 1965 г., спустя всего двадцать лет после окончания Второй мировой войны, Западная Германия была не только состоявшейся и зрелой демократией, но и самой богатой и продуктивной страной в Европе. Поэтому после 1989 г. западногерманское чудо оказалось в центре внимания жителей Восточной и Центральной Европы.
Роль Германии как имплицитной модели посткоммунистической политической реформы заслуживает отдельного внимания, поскольку она стала одной из причин негативной реакции Востока на подражание Западу. Раздражение Востока было вызвано не только легко поддающимися политическим манипуляциям опасениями, что от него требуют отказаться от своей культурной идентичности (точнее, от своей избирательной памяти о ней) ради якобы превосходящей ее постэтнической идентичности, завезенной из-за границы. Вторым источником этого раздражения был изначально противоречивый характер навязываемого примера: когда речь заходила о том, чтобы взглянуть в глаза своему проблемному прошлому и примириться с собственной историей, странам Восточной и Центральной Европы предлагали следовать образцу Германии – страны, чей Sonderweg («особый путь») был очевиден для всех. Между процессом послевоенной демократизации в оккупированной войсками союзников Западной Германии, которую агрессивный авторитаризм привел к национальной катастрофе, и процессом демократизации в странах Центральной и Восточной Европы после 1989 г. наблюдалось резкое несоответствие. Изначально несостоятельная попытка заставить вторых подражать первой – еще один фактор, подпитывающий тревожный рост этнического национализма во всем посткоммунистическом мире.
Болгарский художник Лучезар Бояджиев придумал идеальную визуализацию официальной брюссельской точки зрения на «завершающий этап» европейской истории. Его работа под названием «На отдыхе» основана на изображении знаменитой конной статуи прусского короля Фридриха Великого на бульваре Унтер-ден-Линден в Берлине – только без короля в седле. Сняв с коня величавого предводителя народа, художник превратил памятник национальному герою в статую лошади без всадника. Все сложности, связанные с важной, но противоречивой исторической фигурой прошлого, разом исчезли. Идея Европы, которую передает Бояджиев, – это Европа «на отдыхе от истории», без надежды на господство, без страха перед угнетением. Для некоторых, во всяком случае, быть настоящими европейцами в начале XXI века означает бескомпромиссно отказаться от героики – так же, как и от национализма. И немцы сегодня – лучший пример того, как это нужно делать. В конце концов, они с беспрецедентным успехом прошли от авторитаризма к либеральной демократии, и их страна, с точки зрения завистников извне, стала «исключительно нормальной» в западном смысле этого слова[117]117
Возвращаясь к запутанному пониманию «нормальности» в регионе, следует напомнить, что в Западной Германии после Второй мировой войны под «нормализацией» подразумевалось стремление Эрнста Нольте и других консервативных писателей отбросить унаследованную Германией вину за Холокост, против чего решительно выступали близкие к левым демократы, такие как Хабермас. Он считал священной истиной, что Германия никогда не сможет стать «нормальной страной» и будет обречена на постоянное историческое покаяние за преступления нацистов. Все это нисколько не мешало не-немцам воспринимать сегодняшнюю Германию как «нормальную» по существу страну – в менее нравственно и эмоционально нагруженном смысле.
[Закрыть].
Сотрясающая сегодня Восточную Европу политика идентичности представляет собой не естественный и неизбежный рецидив якобы свойственного этому региону антилиберализма (как будто ход посткоммунистического транзита никак не повлиял на последующие процессы). Напротив, это мощная отсроченная реакция на десятилетия начавшейся в 1989 г. вестернизации – то есть политики отказа от идентичности. Естественной реакцией на навязчивое продвижение «безгрешного» универсализма стал агрессивный партикуляризм. В результате популисты повсеместно и с удовольствием поносят, в числе прочего, универсализм как партикуляризм богатых.
Первоначальная готовность некогда порабощенных народов присоединиться к либеральному Западу в 1989 г. была вызвана националистическим по природе недовольством сорокалетней гегемонией Москвы не в меньшей (как минимум) степени, чем глубокой приверженностью либеральным ценностям и институтам. До 1989 г. лозунгом польского антикоммунистического движения было «Wolność i niezależność» («Свобода и независимость») – речь шла о независимости от Москвы. Но в интеллектуальном климате 1990-х гг. моральное неприятие этнического национализма вплеталось в идеал востребованной «нормальности». Этнонационализм был связан и с кровавыми войнами в Югославии. Кроме того, Европейский союз активно экспортировал постнациональную повестку на Восток. Эти факторы не давали в полной мере проявиться вопросу о роли национальных чувств в стремлении бывших коммунистических стран присоединиться к Западу.
Попытки относительно немногочисленных либеральных реформаторов в Центральной Европе преподать своим согражданам «уроки немецкого» дали обратный эффект. Пока либеральные элиты продолжали говорить на языке универсальных прав, их оппоненты-националисты постепенно присвоили национальные символы и национальную риторику. Столкнувшимся с растущей угрозой со стороны правых националистов либералам стоило бы прислушаться к предостережениям румынского писателя Михаила Себастиана о психологической силе символов и знаков[118]118
«Я боялся только знаков и символов и никогда не боялся людей и вещей», – писал Себастиан в начале романа «За две тысячи лет» (De două mii de ani, 1934), удивительной книги, передающей удушающую атмосферу антисемитизма и ядовитого национализма в его стране между двумя мировыми войнами.
[Закрыть].
Имитирование перехода Германии к либеральной демократии требует бесповоротного отречения от этнонационализма, так как его нацистское воплощение ввергло мир в бездну невыразимого насилия. Для реакционных почвенников такое отречение категорически неприемлемо. Вместо этого они подчеркивают жертвы, которые понесла нация, и незаслуженные страдания, которым она подверглась. Отличительная черта популистов-националистов – категорическое нежелание извиняться за то, что их страна когда-либо делала за всю свою историю. Образ действий лиходея, притворяющегося жертвой, – характерная особенность национал-популистского самодовольства.
В условиях демократического транзита фашизм и коммунизм стали считаться двумя сторонами одной тоталитарной монеты. Что касается жестокостей, связанных с практическим воплощением этих идеологий и исповедовавших их режимов, это вполне оправданное сравнение. Но попытка полностью уравнять коммунизм и фашизм приведет к неверному предположению о том, что в демократический век сам национализм (экстремальной и уродливой версией которого является фашизм) в конечном итоге исчезнет так же, как и коммунизм в 1989–1991 гг. Подобное предположение никогда не было реалистичным. Причина в том, что коммунизм был радикальным политическим экспериментом, основанным на отмене наследуемой частной собственности, а демократия предполагает существование политического сообщества в пределах определенных границ и, следовательно, по своей природе является национальной. Национализм не может исчезнуть, как коммунизм, с ростом либеральной демократии, поскольку лояльность к нации (и государству) является необходимым условием для любой стабильной либеральной демократии. В 1990-е гг. считалось, что Россия терпит неудачу в построении демократии, а Польша и Венгрия добиваются успеха, поскольку России не хватает национального единства, сформированного в Польше и Венгрии в результате сопротивления советской оккупации. В отличие от либерализма, демократия в любом случае является исключительно национальным проектом. Вот почему в конце концов «Европа отечеств» Шарля де Голля сумела противостоять любым попыткам «растворить» идентичности отдельных стран-членов в общей постнациональной идентичности[119]119
‘On n’intègre pas les peuples comme on fait de la purée de marrons.’ («Мы не объединяем народы так же, как делаем пюре из каштанов».) Цит. по: ‘La Vision européenne du général de Gaulle’, L’Observatoire de l’Europe (27 January 2010).
[Закрыть]. Либерализму изначально присуща близость к универсализму прав человека, поэтому либерализм больше благоприятствует трансграничной глобализации, чем демократия. Однако либерализм также лучше всего работает в условиях политически ограниченных сообществ. Ведь самой эффективной правозащитной организацией в мире является либеральное национальное государство (или «нация-государство»).
Попытка имитировать отношение послевоенной Германии к истории оказалась проблематичной для жителей Центральной и Восточной Европы по крайней мере в четырех отношениях.
Во-первых, послевоенная немецкая демократия в какой-то степени была основана на опасениях, что ничем не ограниченный рост национализма со временем может привести к возрождению нацизма (Nationalismus führt zum Faschismus – «Национализм ведет к фашизму»). Евросоюз вырос из плана, направленного на то, чтобы предотвратить потенциально опасное восстановление суверенитета Германии, интегрировав эту страну экономически в остальную часть Европы и наделив Федеративную Республику «постнациональным» статусом. В результате бóльшая часть политического истеблишмента (но отнюдь не весь) в послевоенной Западной Германии отреклась не только от мистической идеи германской Rassenseele («расовой души»), но и от этнонационализма в целом[120]120
President Richard von Weizsäcker, ‘Speech during the Ceremony Commemorating the 40th Anniversary of the End of War in Europe and of National-Socialist Tyranny’ (8 May 1985); https://www.bundespraesident.de/SharedDocs/Downloads/DE/Reden/2015/02/150202-RvW-Rede-8-Mai-1985-englisch.pdf?__blob=publicationFile.
[Закрыть]. Странам Центральной и Восточной Европы, напротив, трудно разделить такое всеобъемлюще негативное отношение к национализму, поскольку, во-первых, эти государства были детьми эпохи национализма (они возникли в результате распада многонациональных империй после Первой мировой войны) и, во-вторых, антироссийский национализм сыграл существенную роль в ненасильственных антикоммунистских революциях 1989 г.
Национализм и либерализм в Восточной Европе по историческим причинам понимаются скорее как взаимодополняющие, чем взаимоисключающие явления. Большинство поляков посчитает абсурдной мысль перестать чтить память националистических лидеров, которые погибли, защищая Польшу от Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина. Доктринально резкое осуждение национализма коммунистической пропагандой также обусловило подозрительное отношение жителей Центральной и Восточной Европы к желанию либеральной элиты Германии отделить немецкое гражданство от наследственной принадлежности к этнонациональному сообществу. Югославские войны 1990-х гг. заставили политических лидеров Европы в целом, в том числе Центральной и Восточной Европы, отделить этническую однородность и ксенофобское почвенничество от обоснованного права на национальное самоопределение[121]121
Следует при этом оговориться, что Германия активнее всех «продавливала» в ЕС идею независимости Хорватии. А это наводит на мысль о пределах приверженности Германии антинационалистическим принципам – или о ее лицемерии в этом отношении.
[Закрыть]. Однако в долгосрочной перспективе имплицитная связь либерализма с антинационализмом неотвратимо подорвала поддержку либеральных партий во всем регионе на национальном уровне[122]122
Это касается и России, где либералы, такие как Егор Гайдар, Анатолий Чубайс, Андрей Козырев и Борис Немцов, потеряли поддержку общества еще быстрее и радикальнее, чем их единомышленники в Центральной и Восточной Европе.
[Закрыть]. Либералы-«постнационалисты» склонны рассматривать этнонационализм – веру в то, что нынешние граждане имеют некоторую мистическую нравственную связь со своими биологическими предками, – как иррациональный атавизм. Подобный антинационалистический универсализм – вполне человечная и гуманная позиция. Но на ней редко удается построить хорошую политику. В глазах избирателей с сильными национальными эмоциями и привязанностями постнациональный «конституционный патриотизм» выглядит новой «немецкой идеологией», призванной принизить роль восточной окраины Европы для того, чтобы управлять всей Европой в интересах Берлина[123]123
Elzbieta Stasik, ‘Stocking anti-German sentiments in Poland’, Deutsche Welle (15 December 2012); https://www.dw.com/en/stoking-anti-german-sentiment-in-poland/a-16456568.
[Закрыть].
Во-вторых, послевоенная немецкая демократия была организована так, чтобы не допустить повторения ситуации 1930-х гг., когда нацисты пришли к власти путем конкурентных выборов. Именно поэтому немажоритарные институты, такие как Федеральный конституционный суд и Бундесбанк, входят в число не только самых мощных, но и пользующихся наибольшим доверием институтов Германии. В первые годы после восстановления в 1989 г. давно утраченного суверенитета восторженные жители Центральной и Восточной Европы не считали ограничения в отношении своих избранных правительств попыткой ограничить право народа на самоуправление. В какой-то момент Конституционный суд Венгрии признавался «самым влиятельным высоким судом в мире»[124]124
Gabor Halmai and Kim Lane Scheppele, ‘Living Well Is the Best Revenge: The Hungarian Approach to Judging the Past’ in A. James McAdams (ed.), Transitional Justice and the Rule of Law in New Democracies (University of Notre Dame, 1997), p. 155.
[Закрыть]. Конституционный суд Польши тоже поначалу был относительно эффективным и независимым. Но со временем пришедшие во власть популисты, ссылаясь на суверенную волю народа, начали постепенный демонтаж этих и других «контрмажоритарных» ограничителей своей власти.
После Первой мировой войны новорожденные государства Центральной и Восточной Европы были организованы на базе слияния традиционной немецкой идеи Kulturnation – нации как культурной общности – с французской идеей интервенционистского централизованного государства[125]125
Ivan Berend, Decades of Crisis (University of California Press, 2001).
[Закрыть]. Это наследие отдаленного прошлого со временем, разумеется, поблекло, но из политической чувствительности региона оно ушло не полностью. Это помогает объяснить медленно развивающееся – спустя два десятилетия после 1989 г. – внутреннее сопротивление реорганизации этих государств в соответствии с двумя альтернативными зарубежными моделями: новой немецкой идеей децентрализованного государства и американским мультикультурализмом. Аллергия на обе эти модели была предвестником грядущей антилиберальной контрреволюции, сторонники которой ассоциируют эффективную демократию не с конституционным контролем или ассимиляцией иммигрантов, а с культурной однородностью и исполнительной властью.
В-третьих, делясь с посткоммунистическими странами своим опытом послевоенной трансформации и интеграции с Западом, немцы попали в ловушку. Они гордились успехом перехода от тоталитарного общества к образцовой демократии, но в то же время во многих случаях советовали жителям Центральной и Восточной Европы делать не то, что они сами делали в 1950-е и 1960-е гг., а то, что, по их мнению, они должны были делать в те времена. Немецкая демократия в том виде, в каком она сложилась после Второй мировой войны, выросла в сложных отношениях с нацистским прошлым страны. Хотя после войны нацизм официально осуждался, немцы избегали подробно обсуждать эту тему. Хотя бы потому, что среди послевоенной западногерманской элиты было много бывших нацистов. Но когда пришло время встраивать ГДР в единую либерально-демократическую Германию, подход был совершенно иным. Игра в молчанку превратилась в базарную склоку. На повестку дня была вынесена массовая зачистка бывших коммунистов, и многие восточные немцы, которые сегодня охотно голосуют за крайне правую «Альтернативу для Германии», интерпретировали запущенный после 1989 г. процесс «очищения» не как искреннее стремление к исторической справедливости, а как способ доминирования западных немцев на востоке страны, открывающий «западникам» карьерные возможности за счет бесцеремонного вытеснения «восточных» элит с теплых мест.
И, наконец, в-четвертых, Германия гордилась и гордится как своим социальным государством, так и системой совместного управления, в рамках которой профсоюзам отводится ключевая роль в корпоративном управлении. Но западные немцы никогда не принуждали ЕС экспортировать на восток Европы именно эти аспекты политической системы ФРГ. Официально они объясняли это тем, что жители Центральной и Восточной Европы не могли себе этого позволить, но, вероятно, они также ожидали, что ослабление государственной защиты трудящихся и граждан Центральной и Восточной Европы создаст благоприятные инвестиционные возможности для немецкой промышленности. Конечно, были задействованы и другие факторы, особенно эволюция доминировавшей в мире формы американского либерализма – от доброго и мягкого Нового курса Франклина Рузвельта, обещавшего избавление от страха, к рейгановскому рыночному дерегулированию, призванному ошеломить людей, отобрать у них чувство защищенности их рабочих мест, лишить их пенсий и так далее. Общий отказ вкладывать значительные средства в политическую стабильность (то есть в поддержку экономической значимости профсоюзов) новых стран – участниц ЕС полностью соответствовал господствовавшему духу тэтчеризма. Но это радикально отличалось от послевоенной политики союзников в Западной Германии, направленной, по сути, на поддержку профсоюзов. Наиболее важной причиной такого изменения, вероятно, было исчезновение коммунистической угрозы и, как следствие, отсутствие необходимости прилагать особые усилия для поддержания лояльности трудящихся к системе в целом.
Старый «немецкий вопрос» заключался в том, что Германия слишком мала для всего мира и слишком велика для Европы. Новый «немецкий вопрос» другой. После окончания холодной войны оказалось, что переход Германии к либеральной демократии был слишком уникальным и исторически обусловленным, чтобы тем же путем могли проследовать страны, враждебные – с учетом их собственной недавней истории – самой идее постэтнического общества. Бывшие коммунистические страны Центральной и Восточной Европы отказались строить новую национальную идентичность на основе наполовину подавленного чувства раскаяния за грехи прошлого. Это, по крайней мере, до некоторой степени объясняет их восстание против «Новой немецкой идеологии» внеисторического постнационализма и культурно-нейтрального пресного конституционного патриотизма.
Антилиберализм экс-либералов
В конце 1949 г. книга «Бог, обманувший надежды» (The God That Failed) – антология воспоминаний шести выдающихся интеллектуалов о том, как и почему они стали коммунистами и как и почему они в конечном итоге порвали с компартией, – стала поворотным пунктом в интеллектуальной истории холодной войны. «В конечном счете, мы, бывшие коммунисты, – единственные… кто понимает, в чем суть»[127]127
Arthur Koestler in Richard Crossman (ed.), The God that Failed (Columbia University Press, 1951), p. 2.
[Закрыть], – писал один из авторов, Артур Кёстлер. Только те, кто знал коммунизм изнутри и некогда истово верил в него, обладали ключом к внутреннему устройству репрессивной и исполненной ненависти системы. Достоверность этого утверждения помогает объяснить, почему именно бывшие коммунисты сыграли ключевую роль в делегитимации советской системы. Бывшие приверженцы доктрины, разочаровавшиеся в ней, хорошо знают врага и имеют сильные личные мотивы для низвержения идеологии, которую они когда-то так горячо исповедовали.
Либералы-ренегаты в сегодняшней Центральной и Восточной Европе сыграли схожую роль в делегитимации сформировавшегося в регионе после 1989 г. либерального порядка. Для того чтобы понять, что, как и почему отвратило множество жителей Центральной и Восточной Европы от сложившегося после окончания холодной войны миропорядка, совершенно необходимо взглянуть на процесс посткоммунистического развития глазами этих бывших либералов.
Мы никогда не разгадаем загадку антилиберализма в Центральной и Восточной Европе, если не сможем понять, почему, по словам журналиста и историка Энн Эпплбаум, в числе самых рьяных консервативных интеллектуалов в регионе оказались либеральные матери сыновей-геев или почему в Восточной Европе антикапиталистические настроения часто принимают форму отчаянного антикоммунизма. В сегодняшней Венгрии, если верить опросам общественного мнения[128]128
‘A Public Opinion Survey about János Kádár and the Kádár Regime from 1989’, Hungarian Spectrum (28 May 2013); https://hungarianspectrum.wordpress.com/2013/05/28/a-public-opinion-survey-about-janos-kadar-and-the-kadar-regime-from-1989/.
[Закрыть], многие сторонники воинственно антикоммунистической партии Фидес, как правило, положительно относятся к коммунисту Яношу Кадару, возглавлявшему страну с 1956 по 1988 г. Похоже, они считают самым отвратительным преступлением поведение бывших коммунистов в переходный период. Коммунистов не столь часто обвиняют в том, что они делали в 1970-е и 1980-е гг., сколько в легкости, с которой они превратились в бездушных капиталистов в 1990-е[129]129
Это один из основных тезисов книги Рышарда Легутко The Demon in Democracy: Totalitarian Temptations in Free Societies (Encounter Books, 2018), в которой автор, жонглируя (без указания источников) всеми трафаретными упрощениями и стереотипами из долгой истории европейского антилиберализма, бичует «пороки» и «интеллектуальный тоталитаризм» либеральной демократии.
[Закрыть].
Политическая биография Виктора Орбана предоставляет прекрасную возможность для размышлений о становлении экс-либерала. Это история энергичного, талантливого и лишенного сантиментов неофита, который влюбился в свободу, но в конце концов был порабощен собственной абсолютной властью. Он родился в 1963 г. в бедной деревне Ольчутдобоз, примерно в 50 километрах к западу от Будапешта. Его детство прошло в нищете, и ни о каком революционном романтизме речи тогда не шло. В какой-то момент отец Орбана стал членом Коммунистической партии, но, как отмечает биограф Пауль Лендвай, Орбан-старший был типичным Homo Kádáricus[130]130
«Хомо кадарикус» – «человек эпохи Кадара», венгерский аналог российского уничижительного «хомо советикус». – Прим. пер.
[Закрыть] – трудолюбивым прагматиком, стремившимся сделать все, чтобы он и его семья жили лучше[131]131
Paul Lendvai, Orbán: Hungary’s Strongman (Oxford University Press, 2018), p. 13.
[Закрыть]. Ни мечты о революции, ни политические бури не касались семьи Орбана. Газет не читал никто, и настоящей страстью была не политика, а футбол.
Служба в армии пробудила интерес молодого Орбана к политике, сделав его врагом коммунистического режима. Там он показал силу своего характера, отказавшись сотрудничать с венгерской тайной полицией. Учеба в университете закрепила его противоречивые побуждения и взгляды. Общенациональную известность ему принесла речь 16 июня 1989 г. на церемонии перезахоронения Имре Надя – убитого лидера восстания 1956 г. Некоторые радикалы-антикоммунисты испытывали слишком сильное отвращение, чтобы присутствовать на мероприятии, которое они считали государственной церемонией, маскирующейся под революцию. Но Орбан знал, что его шести– или семиминутная речь будет транслироваться в прямом эфире и что его увидит весь народ. И он был прав. Именно во время перезахоронения Надя молодой студенческий лидер впервые продемонстрировал отличительную черту своего политического образа – способность уловить настроение общества и решимость воспользоваться моментом. Перед перезахоронением все ораторы от оппозиции договорились, что никто из выступающих не будет требовать вывода советских войск из страны, чтобы не раздражать и не провоцировать Москву. Но Орбан, выйдя на сцену, сделал именно это. Это был момент, когда венгерская публика впервые увидела и запомнила его[132]132
Zoltán Kovács, ‘Imre Nagy Reburied, Viktor Orban’s Political Career Launched 25 Years Ago Today’, Budapest Beacon (16 June 2014).
[Закрыть]. Он был смелым, молодым и либеральным. Затем он основал партию молодого поколения Фидес. Первая редакция партийного устава предусматривала, что в партию не будут принимать никого старше 35 лет.
Разрыв Орбана с либерализмом часто объясняют либо как чистый оппортунизм (он переметнулся к правым, потому что там были голоса избирателей), либо как результат его растущего презрения к либеральным интеллектуалам Будапешта, которыми он первоначально восхищался, но которые смотрели на него сверху вниз с нескрываемым чувством превосходства. Эпизод, лучше всего иллюстрирующий натянутость отношений Орбана с венгерскими либералами, происходившими, в отличие от него, из городской интеллигенции Венгрии, – это широко известная история о том, как во время приема известный член парламента от Союза свободных демократов Миклош Харашти подошел к Орбану, одетому как и другие гости, и с высокомерным видом поправил ему галстук. Все присутствующие помнят, как покраснел и заметно сконфузился при этом Орбан. Молодой и честолюбивый политический лидер был оскорблен тем, что с ним обращались как с неотесанным деревенским парвеню. Переживания молодого провинциала в такой момент достойны пера Стендаля.
Соблазнительно, конечно, свести разочарование Орбана в либерализме к его следованию политической целесообразности или к личной обиде на унизительное чванство либеральных интеллектуалов Будапешта. Но причина гораздо глубже. Фактически она заключается в самой сути либерального понимания политики, включая неизменно амбивалентное отношение либерализма к отправлению власти. В то время как либералы Венгрии были озабочены правами человека, системой сдержек и противовесов, свободной прессой и независимостью судебной системы (все это очень ценилось, поскольку накладывало на власть ограничения), Орбан был заинтересован в использовании власти для радикального переустройства политического порядка. Если будапештские либералы хотели побеждать в диспутах, он хотел победить на выборах. Страсть к футболу научила его, что единственное, что по-настоящему имеет значение в любом состязании – будь то политика или спорт, – это беспощадная воля к победе и непоколебимая преданность. Особенно важно, чтобы ваши последователи не оставляли вас, даже когда вы время от времени проигрываете. Образцовый лидер – не тот, кто рационален и справедлив по отношению ко всем, но тот, кто вдохновляет и мобилизует свою собственную команду или племя.
Чтобы сплотить своих сторонников, Орбан вновь и вновь перечисляет стандартный список либеральных прегрешений, совершенных, по его словам, холуйствующими подражателями либеральной демократии, которые два десятилетия после 1989 г. морочили Венгрии голову. Прежде всего, либеральная картина общества как духовно пустой сети производителей и потребителей не могла отразить нравственную глубину и эмоциональную общность венгерского народа. Либералы практически безразличны к истории и судьбе нации. Образцовая антилиберальная риторика Орбана изображает язык либерализма – язык прав человека, гражданского общества и правовых процедур – холодным, безличным и внеисторическим. Либералы слепы к угрозе иммиграции потому, что они отделяют гражданство от этнического происхождения и подменяют идеалы реальной справедливости и общественного блага безликими и абстрактными понятиями процессуальной законности, верховенства права и индивидуальной полезности. С популистской точки зрения космополитическое недоверие к этническому родству заставляет членов подавляющего этнического большинства в Венгрии чувствовать себя иностранцами в собственной стране. Именно так универсализм разрушает единение. Если все вокруг твои братья, то ты – сирота. Вот почему венгерские реакционные почвенники утверждают, что ни один принципиальный либерал не может проявить подлинный интерес к судьбе венгров, живущих за пределами страны.
Так говорят все антилибералы. Однако декламация Орбаном антилиберального катехизиса отражает и некоторые специфически региональные проблемы. Так, за первостепенным вниманием, которое либерализм уделяет индивидуальным правам, незамеченным остается основной вид политических злоупотреблений в посткоммунистической Венгрии – приватизация общественного достояния деятелями бывшего режима. Эта коррупция промышленного масштаба не нарушала индивидуальных прав; более того, с утверждением индивидуальных прав на частную собственность она была фактически закреплена[133]133
Aviezer Tucker, The Legacies of Totalitarianism: A Theoretical Framework (Cambridge University Press, 2015).
[Закрыть]. Именно это Орбан имеет в виду, говоря, что «в Венгрии либеральная демократия была неспособна защитить общественную собственность[134]134
Имеется в виду приватизированная государственная собственность. – Прим. пер.
[Закрыть], которая необходима для существования государства и нации»[135]135
‘Full Text of Viktor Orbán’s Speech at Băile Tuşnad (Tusnádfürdő) of 26 July 2014’, The New York Times (29 July 2014), курсив авторов.
[Закрыть]. Кроме того, утверждает он, либерализм игнорирует социальные вопросы и лишает граждан патерналистской защиты со стороны государства, утверждая, что «свободные» люди должны заботиться о себе сами. Вот почему за два десятилетия, прошедшие после 1989 г.,
Мы постоянно чувствовали, что более слабых притесняют… Диктует всегда более сильная сторона. Банк диктует, какой процент вы будете платить по ипотеке, меняя со временем ставку по своему желанию. Я мог бы долго перечислять примеры того, каково пришлось в течение последних двадцати лет уязвимым и слабым семьям, лишенным – в отличие от других – мощной экономической защиты[136]136
‘Full Text of Viktor Orbán’s Speech at Băile Tuşnad (Tusnádfürdő) of 26 July 2014’, The New York Times (29 July 2014), курсив авторов.
[Закрыть].
Одним из следствий очевидного имитационного императива в Венгрии стало широкое распространение потребительского кредитования. Малообеспеченные семьи занимали часто и много – в швейцарских франках. Вероятно, таким образом они имитировали модели потребления, подсмотренные на Западе. В результате безрассудной и бесполезной попытки догнать западные страны и повторить их уровень жизни задолженность домохозяйств только взлетела. К сожалению, после радикальной девальвации венгерской валюты неосторожным заемщикам пришлось возвращать стремительно растущие ежемесячные платежи в обесценивающихся форинтах. По данным государственной статистики, почти миллион человек взяли кредиты в иностранной валюте, из которых 90 % было выдано в швейцарских франках. Именно это имеет в виду Орбан, говоря, что «либеральное венгерское государство не защитило страну от сползания в долговую пучину». Либеральная демократия, заключает он, «не смогла защитить семьи от кабального труда»[137]137
‘Full Text of Viktor Orbán’s Speech at Băile Tuşnad (Tusnádfürdő) of 26 July 2014’, The New York Times (29 July 2014), курсив авторов.
[Закрыть]. Такое тяжелое бремя усиливает ощущение того, что интеграция в глобальную экономическую систему – это деградация и обнищание, а не свобода и процветание, обещанные ярыми сторонниками либерализма.
Более того, либерализм оправдывает экономическое неравенство, скрывая за приукрашенным мифом о меритократии центральную роль удачи в произвольном распределении богатства в обществе; этот унизительный для проигравших в экономическую лотерею маскарад потворствует самомнению победителей, позволяя им приписывать свой успех незаурядному таланту и колоссальным личным усилиям. Миф о меритократии еще более оскорбителен в историческом контексте региона из-за того, что после 1989 г. привилегированный доступ к экономическому успеху получили те, кто занимал высокие политические посты в прежней репрессивной системе. Революция 1989 г. отличалась от всех предыдущих революций простотой, с которой якобы «свергнутые» элиты сумели сохранить свою власть и влияние. Причины очень просты. Старые элиты участвовали в демонтаже прежней системы и внесли важный вклад в мирный характер переходного процесса. В результате они оказались в наиболее выгодном положении для преобразования своего символического капитала в финансовый и политический. Они были лучше образованны и обладали обширными связями, и они знали Запад гораздо лучше, чем кто-либо из их сограждан – даже те оппозиционные лидеры, которые клялись Западу в вечной любви.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?