Текст книги "Иррациональное в русской культуре. Сборник статей"
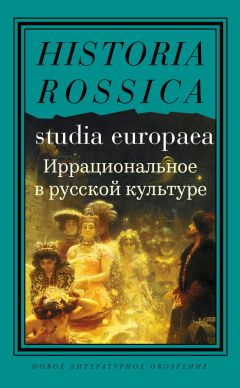
Автор книги: Коллектив авторов
Жанр: Зарубежная прикладная и научно-популярная литература, Зарубежная литература
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 15 страниц)
Фрейд и Розенталь обнаруживают поразительное сходство друг с другом в плане того, что оба они находят у Достоевского истерию, но помимо этого, Фрейд прибегает и к довольно натянутому стереотипу об иррационализме русской души. Как считает Фрейд, крайняя амбивалентность эмоционального характера Достоевского имела своим источником его отношения любви-ненависти с отцом. Понятие аффективной амбивалентности впервые было введено в психоанализ швейцарским психиатром Эйгеном Блейлером (1857–1939), писавшим об «одновременном присутствии противоречащих друг другу чаяний, установок и чувств, например любви и ненависти, по отношению к одному и тому же объекту»294294
Laplanche J., Pontalis J.-B. Das Vokabular, 55.
[Закрыть].
В этой связи имеет смысл вновь обратиться к письму Фрейда Стефану Цвейгу от 19 октября 1920 года, в котором Фрейд за семь лет до публикации своего эссе излагал суть своих представлений о Достоевском. В этом письме Фрейд объяснял, что причиной амбивалентности Достоевского было его «двойственное отношение к отцу». Кроме того, Фрейд объявлял эту амбивалентность «наследием психической жизни первобытных рас, которое у русских намного лучше сохранилось и более доступно для сознания, чем у каких-либо других народов, как я показал несколько лет назад при подробном разборе истории болезни типичного русского пациента»295295
Письмо Фрейда к Цвейгу от 19 октября 1920 года // Bennett J., Lindken H.-U., Prater D. (Hrsg.). Stefan Zweig: Briefwechsel, 166.
[Закрыть]. Этим типичным русским пациентом был не кто иной, как человек-волк Сергей Панкеев, самый знаменитый из пациентов Фрейда. В сознании последнего Панкеев и Достоевский сливались в единый русский тип, отличающийся невротизмом и амбивалентностью. Этот аргумент подчеркивался в том же самом письме: «Даже тем русским, которые не являются невротиками, свойственна ярко выраженная амбивалентность, характерная для персонажей почти всех романов Достоевского»296296
Bennett J., Lindken H.-U., Prater D. (Hrsg.). Stefan Zweig: Briefwechsel, 167.
[Закрыть]. Фрейд не только объяснял патологию Достоевского в том числе и ссылкой на русскую душу; помимо этого, он объявлял амбивалентность важной чертой этой души297297
См.: Rice J. Freud’s Russia, 164. Райс рассматривает эти провокационные заявления о русской душе в контексте интереса Фрейда к расовой психологии, которой тот посвятил ряд работ, включая «Тотем и табу», «По ту сторону принципа удовольствия», «Будущее одной иллюзии».
[Закрыть].
Александр Эткинд отмечал, что диагноз, поставленный Фрейдом Достоевскому, отражает традиционные культурные стереотипы в отношении русских, согласно которым те являются эмоционально амбивалентными людьми, отличающимися сильным нарциссизмом, готовностью к моральным компромиссам и бисексуальными наклонностями298298
Эткинд А.М. Эрос невозможного, 94.
[Закрыть]. Из-за этих так называемых «типичных русских черт», считавшихся характерными и для невротиков, в русских видели особенно подходящий материал для исследования универсальных механизмов бессознательного. Русский человек превратился в «существо, необычайно близкое к бессознательному»299299
Там же, 95.
[Закрыть]. В глазах психоаналитиков русские с их близостью к бессознательному представляли собой идеальный объект для изучения.
В этом отношении Достоевский в эссе Фрейда воплощал в себе сущность русского человека с характерными для него аффективной амбивалентностью, невротизмом и близостью к бессознательному. Таким образом, в основе психоаналитического образа, предложенного Фрейдом, лежали традиционные предрассудки и представления, обычно ассоциировавшиеся с русскими у западных наблюдателей и в целом подпадавшие под ярлык иррационального. Как будет показано ниже, оценка Фрейда заметно отличалась от мнения его русских последователей.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Все три психоаналитика, о которых шла здесь речь, испытывали глубокий интерес и к противоречивой, загадочной и иррациональной фигуре Достоевского как человека, писателя и гения, и к его столь же захватывающим литературным шедеврам. Как мы уже видели, Фрейд и Розенталь подходили к Достоевскому с позиций медицины, рассматривая его как историческую личность и клинический случай. Выше было показано, что оба они изменили диагноз Достоевского с «эпилепсии» на «истерию», что может свидетельствовать о возможном влиянии Розенталь на Фрейда, и тем самым заявили о своих правах на Достоевского как на объект для психоаналитических интерпретаций. С учетом тогдашнего состояния медицинских знаний и доступности биографических сведений о Достоевском такой совместно поставленный медицинский диагноз не противоречил психоаналитической теории. Осипов же в своей работе абстрагировался от Достоевского как исторической личности и изучал литературно-психологического двойника на абстрактном уровне. Однако оба русских автора использовали такие психоаналитические термины, как «регрессия», «проекция», «подавление», в качестве продуктивных инструментов для интерпретации литературных произведений и рассуждали о взаимодействии литературы и психиатрии.
Наиболее поразительной чертой работ Осипова и Розенталь о Достоевском является общая для них идея о терапевтическом эффекте творческого самовыражения. Оба автора были убеждены в том, что Достоевский избавился от своих страданий, проецируя свои страхи на таких литературных персонажей, как Голядкин и Ордынов. И если двойник погибает в своем безумии, то Достоевскому-писателю такой прием позволил вырваться из нарциссической изоляции. Оба автора были согласны и в том, что подобное самоизлечение под силу лишь гению. Из этого анализа вытекал пересмотр отношения к страданиям и болезням, рассматриваемым уже не в качестве разрушительных сил, а в качестве стимула для создания визионерских произведений Достоевского. В отличие от них, Фрейд ничего не говорил ни о каком-либо положительном воздействии творческого процесса на болезнь Достоевского, ни о его способности к самоизлечению, что указывает на довольно статичное понимание Фрейдом феномена болезни.
При изучении того, как в этих работах отразилась концепция иррационального, выясняется, что для их авторов иррациональное нашло воплощение в различных психологических явлениях, описанных в произведениях Достоевского, включая галлюцинации, фобии, эдипов комплекс и болезнь самого писателя. В смысле откровенности своих размышлений об иррациональном Осипов предстает самым независимым мыслителем из всех троих рассматриваемых нами. Свойственное ему углубленное понимание иррационального весьма проницательно и с точки зрения самосознания раннего русского психоанализа как такового. Осипов рассматривал иррациональное как позитивную силу, «импульс, фермент для размышлений» и проявлял интерес к такому возможному расширению сознания. Осипов-врач называл это постижение при помощи иррационального полезным дополнением к обедненному научно-рационалистическому мировоззрению. Более того, Осипов призывал психоаналитиков изучать иррациональное научными методами – и тем самым рационализировать его. Однако он предупреждал, что рационализация иррационального может быть лишь частичной. Кроме того, Розенталь и Фрейд признавали ограниченные возможности научного метода, соглашаясь с тем, что анализу неподвластен и творческий гений.
Эта концепция иррационального позволяет понять то, к чему пришли Осипов и Розенталь в своих статьях о Достоевском. Объяснение и классификация болезни Достоевского, предложенные Фрейдом и Розенталь, представляли собой попытку осмыслить иррациональное, переведя его в медицинские категории. Осипов аналогичным образом использовал такую же стратегию научного изучения при деконструировании различных образов двойников, таких как капли дождя, в качестве псевдодвойников. Следствием этого стала дедемонизация двойника. Осипов и Розенталь в своем подходе к иррациональному уравновешивали рациональный анализ иррационального позитивным восприятием последнего и даже любопытством по отношению к его сохраняющейся сложности и тревоге, порождаемой его существованием. Эта установка в равной мере соответствовала и общей позиции психоанализа как посредника между «полюсом мифа и полюсом разума», и представлениям символистов о «здоровой болезни» Достоевского300300
Rattner J., Danzer G. Literatur und Psychoanalyse. Würzburg, 2010, 12.
[Закрыть].
Перевод Николая Эдельмана
В ПОИСКАХ ОРФЕЯ: МУЗЫКА И ИРРАЦИОНАЛИЗМ В ПРЕДРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ (1905–1917)
Ребекка Митчелл
В январе 1905 года Российскую империю потряс революционный взрыв. Волнения, спровоцированные кровавой расправой в Петербурге над мирными людьми, несшими петицию царю, быстро охватили и крупные города страны, и деревню. В самый разгар беспорядков петербургский композитор и музыкальный критик Александр Петрович Коптяев (1868–1941) выразил свою потребность в том, что, по его мнению, могло спасти Россию в эти смутные времена: в композиторе. В июне 1905 года он призвал к появлению «музыканта-поэта, который дивными созвучиями объединил бы общество в его борьбе за новый, лучший порядок»301301
Koптяев А.П. Композитор-рабочий // Эвтерпе: второй сборник музыкально-критических статей. СПб., 1908, 8–9.
[Закрыть]. Среди хаоса, наступившего в 1905 году, аналогичную надежду выражал в написанной для журнала «Перевал» статье о музыке Борис Михайлович Попов: «Быть может, и в наши дни, дни надвигающегося мирового переворота, в предрассветные дни, когда еще царствует черный ужас, быть может, уже зреет титаническая мысль, и обновленное человечество услышит нового Бетховена, и осуществится мечта Вагнера о великом Произведении Будущего»302302
Мизгирь [Попов Б.М.]. Письмо о музыке // Перевал. № 1. 1906, 42–46.
[Закрыть]. В глазах этих авторов музыка являлась абсолютной иррациональной, объединяющей силой, способной преодолеть социальные противоречия нынешней эпохи. Они ждали современного Орфея, который сумел бы использовать эмоциональную заряженность музыки для достижения социального и духовного единства303303
Миф об Орфее восходит к древнегреческой мифологии. Согласно различным традициям, Орфей был фракийским певцом, «отцом песни» или жрецом «дионисийских мистерий». В качестве его родителей называли то музу Каллиопу и Эагра, то самого Аполлона. Из числа множества сюжетов, связанных с Орфеем, самыми распространенными являлись его злосчастное нисхождение в загробный мир в попытке вернуть к жизни свою жену Эвридику и его гибель от рук фракийских вакханок. Общей чертой этих мифов служила связь Орфея с mousike, «искусством муз». Об образе Орфея в поэзии предреволюционной Российской империи см.: Гервер Л. Музыка и музыкальная мифология в творчестве русских поэтов: первые десятилетия XX века. M., 2001, 30–52.
[Закрыть].
Стремление к социальным и духовным преобразованиям, осуществляемым иррациональными средствами, было общим местом в культуре предреволюционной России. Потребность в преображенной реальности, отличающейся единством, а не конфликтами, выражали философы, писатели, журналисты, учителя и политики. Реакция русского общества на позитивизм и материалистическую культуру начала набирать силу в 1890-е годы, давая импульс экспериментам в литературе и искусстве, возрождению идеалистической философии и возобновлению поисков духовности в русском обществе в целом, – эта тенденция освещается в статье Пейдж Херлингер, написанной для настоящего сборника304304
См.: также: Coleman H. Russian Baptists and Spiritual Revolution, 1905–1929. Bloomington, 2005; Coleman H., Steinberg M. (Ed.). Sacred Stories: Religion and Spirituality in Modern Russia. Bloomington, 2007; Hamburg G.M., Poole R.A. A History of Russian Philosophy 1830–1930: Faith, Reason, and the Defense of Human Dignity. Cambridge, 2010.
[Закрыть]. Однако в идеях Коптяева о дионисийской фигуре нашло особенно поэтическое выражение убеждение более общего плана, до сих пор в целом избегавшее внимания исследователей: речь шла о крайней потребности современного общества в музыкальном спасителе305305
Широкий интерес к музыке и фигуре Орфея в предреволюционной России отмечали некоторые литературоведы и музыковеды. См., например: Левая Т. Русская музыка начала XX века в художественном контексте эпохи. М., 1991; Она же. Скрябин и художественные искания XX века. СПб., 2007; Гервер Л. Музыка и музыкальная мифология.
[Закрыть]. Музыка, особенно в силу ее эмоционального (в противоположность интеллектуальному) заряда, представлялась средством спасения от разобщенности и хаоса современной жизни306306
Российский государственный архив литературы и искусства (РГАЛИ). Ф. 2319. Оп. 1. Ед. хр. 21. Л. 1–5, здесь л. 1. (Бакунин М. [Михаил Багриновский]. Григ // Театральная Россия. 1904).
[Закрыть]. Утверждалось, что Россия ждет музыкального гения, нового Орфея, который воплотит в себе эту пророческую мечту; его лира преодолеет нарастающие социальные и культурные разногласия, возродит утраченные духовные основы человечества и откроет новую эру человеческой истории. В данном исследовании это музыкальное мировоззрение будет называться музыкальной метафизикой307307
Mitchell R. How Russian was Wagner? Russian Campaigns to Defend or Destroy the German Composer during the Great War (1914–1917) // Belina-Johnson A., Muir S. (Ed.). Wagner in Russia, Poland and the Czech Lands – Musical, Literary, and Cultural Perspectives. Aldergate, 2013; Eadem. Music and Russian Identity in War and Revolution, 1914–1922 // Frame M., Kolonitskii B., Marks S., Stockdale M. (Ed.). The Cultural History of Russia in the Great War and Revolution, 1914–1922. Bloomington, 2014; Eadem. Nietzsche’s Orphans: Music, Metaphysics, and the Twilight of the Russian Empire. New Haven, 2016.
[Закрыть].
Ранее исследователи литературы и истории культуры признавали господство иррационального мировоззрения в литературе и музыке предреволюционной России (что, в частности, было связано с расцветом русского символизма), а музыковеды отмечали, как это подчеркнутое внимание к нерациональной, эмоциональной стороне музыки отражалось в реальных музыкальных произведениях308308
Rosenthal B.G. The Spirit of Music in Russian Symbolism // Russian History. Vol. 10. 1983, 66–76; Read C. Religion, Revolution and the Russian Intelligentsia 1900–1912: the Vekhi Debate and its Intellectual Background. London, 1979; Carlson M. „No Religion Higher than Truth“: A History of the Theosophical Movement in Russia, 1875–1922. Princeton, 1993; Engelstein L. The Keys to Happiness: Sex and the Search for Modernity in Fin-de-Siècle Russia. Ithaca, 1992; Evtuhov C. The Cross and the Sickle: Sergei Bulgakov and the Fate of Russian Religious Philosophy. Ithaca, 1997; Гайденко П.П. Владимир Соловьев и философия Серебряного века. M., 2001; Morrison S. Russian Opera and the Symbolist Movement. Berkeley, 2002; Taruskin R. Defining Russia Musically. Historical and Hermeneutical Essays. Princeton, 1997.
[Закрыть]. Меня как историка интеллектуальной жизни в первую очередь интересует, каким образом в то время выстраивались и применялись при интерпретации смыслового содержания музыки относящиеся к ней концептуальные категории. Данный подход представляет собой сочетание научных подходов, основывающихся на истории понятий в ее варианте, представленном школой Райнхарта Козеллека, и на современных музыковедческих работах, посвященных истории восприятия309309
Applegate C., Potter P. (Ed.). Music and German National Identity. Chicago, 2002; Koselleck R. Begriffsgeschichte and Social History // Futures Past: On the Semantics of Historical Time. New York, 2004.
[Закрыть]. Понимая музыку как один из аспектов более широкого феномена – принятия иррационального мировоззрения, мы получаем возможность организовать диалог между ней и другими культурными практиками, вдохновлявшимися той же целью: преодолением чрезмерно узкого, согласно тогдашней точке зрения, позитивистского подхода к реальности и устранением противоречий в современной жизни. В предреволюционной России музыка обещала возможность выйти за рамки повседневной обыденности, разделяя такой статус с религиозным мистицизмом.
В начале данной статьи будет дан обзор того, каким образом в музыкальной прессе предреволюционной России осуществлялась концептуализация музыки как иррациональной и объединяющей силы. Несмотря на общее согласие в отношении того, что музыка воздействует не на рациональный интеллект, а на иррациональную сферу эмоций, музыкальные критики и композиторы придерживались разных мнений по вопросу о том, содержится ли в музыке нравственный компонент; в конечном счете представления о связи между русской идентичностью, иррациональностью и христианством обеспечили преобладание такой интерпретации музыки, которая усматривала различие между «высшими» и «низшими» формами музыкального восприятия. Вторая часть посвящена вопросу о понимании музыки как партиципаторного феномена, способствующего насаждению единства. Музыкальная элита, духовенство, фабриканты и учителя, несмотря на свою принадлежность к различным социальным кругам и институтам, разделяли идею о том, что участие русского народа в музыкальном творчестве в состоянии укрепить социальные узы, рвавшиеся вследствие модернизации, а также революционных событий 1905 года. Впрочем, вопреки этому акценту на массовом участии, роль композитора как Орфея (мессианской фигуры, которая при помощи индивидуального творчества привнесет единство в дух простого народа при помощи трансцендентального приобщения к высшим сферам) занимала важное место в публичном дискурсе того времени. Темой третьего раздела служит повсеместный поиск современного Орфея, способного сыграть сложную роль, приписываемую музыкальному творчеству. Русских композиторов неоднократно возносили на пьедестал и ниспровергали с него в зависимости от представлений о том, решали ли они своим творчеством задачу Орфея. С учетом чрезмерных ожиданий, выдвигавшихся по отношению к музыке, разочарование было неизбежным. Сгущавшиеся тучи войны и последующая революция в итоге положили конец этим поискам современного Орфея после того, как ни один из композиторов, в которых его видели, так и не сумел оправдать ожиданий. Отдельные моменты этого мировоззрения какое-то время продержались и после революции; тем не менее иррациональная основа музыкальной метафизики едва ли могла ужиться с получившей официальное признание якобы более рациональной эстетикой, основанной на марксистских интерпретационных категориях.
ИРРАЦИОНАЛЬНАЯ СИЛА МУЗЫКИ
Размышляя в 1909 году о природе человеческой души, композитор Владимир Иванович Ребиков (1866–1920) утверждал, что музыка обеспечивает уникальную связь между личностью и внешним миром. Как подчеркивал Ребиков, душа выражает себя не в интеллектуальных концепциях, а посредством иррациональных чувств и настроений. Соответственно, музыка, будучи «языком эмоций», представляет собой единственное средство прямой связи с душой311311
Прокофьев Гр. Музыка чистой эмоции (по поводу вечера настроений из произведений В. Ребикова) // РМГ. № 5. 1910, 136–141; Ребиков В. В.И. Ребиков о себе // РМГ. № 43. 1909, 945–951; Он же. Музыкальные записи чувства // РМГ. № 48. 1913, 1097–1100.
[Закрыть]. И Ребиков был не одинок в такой оценке. В предреволюционной российской периодике часто встречаются статьи, авторы которых высоко оценивают присущую музыке особую возможность обращаться напрямую к человеческому духу. Музыка, представляя собой мощную иррациональную силу, могла таинственным образом преодолевать обыденную реальность. Развивая эту тему, Никифор Михайлович Ерошенко завершал статью для «Музыкального самообразования» словами о том, что музыка с ее способностью формировать самые основы души «есть чистейшая и полнейшая выразительница чувства»312312
Ерошенко Н. Пение и музыка как орудие воспитания человека на всех ступенях его жизни // Музыкальное самообразование. № 1. 1906, 11–13.
[Закрыть]. Композитор Федор Степанович Акименко описывал заседание Общества друзей искусства, на котором некий ученый дал рациональный, чисто «научный» ответ на вопрос о том, что представляет собой звук в природе. Но прослушав исполнение сонаты Бетховена, этот ученый, охваченный эмоциями, попросил, чтобы от него не требовали давать какое-либо истолкование этой замечательной музыки, ограничившись репликой: «Бетховен лучше вам скажет, чем мы, ученые, – не спрашивайте!»313313
Акименко Ф. Из книги «Жизнь в искусстве» // РМГ. № 13–14. 1912, 329–332, здесь 332.
[Закрыть] Н. Молленгайер в статье, опубликованной в 1910 году в журнале «Оркестр», высказывал аналогичное мнение о том, что музыка благодаря своей связи с эмоциями играет роль соединяющего звена между духовными и материальными реалиями, нити, «которая делает для нас эти миры равно реально существующими»314314
Молленгайер Н. Музыкальное искусство и христианская религия // Оркестр. № 18. 1910, 12–21, цитата 21.
[Закрыть].
Это представление об иррациональном воздействии музыки на чувства не означало, что русские обозреватели того времени утратили надежду выяснить, в чем суть влияния музыки; напротив, предпринимались неоднократные попытки оценить влияние музыки посредством философских концепций. Опираясь на метафизическую интерпретацию музыки, предложенную Артуром Шопенгауэром в книге «Мир как воля и представление» и нашедшую отражение у Фридриха Ницше в «Рождении трагедии из духа музыки», предреволюционные русские мыслители обычно видели в музыке и символ единства, утраченного в современном обществе, и иррациональное средство, дающее возможность восстановить это единство315315
См., например: Коптяев А.П. Музыкальное миросозерцание Ницше // Музыка и культура: сборник музыкально-исторических и музыкально-критических статей. М., Leipzig, 1903, 57–109, здесь 108–109; Эйгес К.Р. Музыка и эстетика // Статьи по философии музыки. М., 1912, 13–19, здесь 17, 19; Он же. Вступительная статья // Артур Шопенгауер: о сущности музыки. Выдержки из сочинения Шопенгауера. M., 1919, iii–xv.
[Закрыть]. По утверждению Ницше, музыка служит наиболее совершенным выражением дионисийских (коллективных) побуждений, по самой своей природе противоположных аполлоновским (индивидуалистическим) побуждениям. Это разделение представляло собой переосмысление более ранних идей Артура Шопенгауэра, выделявшего две стороны реальности: представление и волю316316
Шопенгауэр А. Мир как воля и представление. М., 2015.
[Закрыть]. Ницше считал такое дионисийское искусство, как музыка, художественным воплощением «изначального единства», стремящегося преодолеть индивидуализирующее влияние со стороны явленного мира. Тем самым ставился знак равенства между дионисийскими побуждениями и состоянием существования, предшествовавшим явленному миру, – состоянием бытия, в котором все предметы представляли собой единое целое.
Это ницшеанское понимание иррациональной силы музыки проникло и в предреволюционные российские публикации. В 1900 году А.П. Коптяев утверждал, что в Ницше «таился прежде всего музыкант <…> что общее его мировоззрение было прежде всего мировоззрением музыканта»317317
Коптяев А.П. Музыкальное миросозерцание Ницше, 57–109. Первоначально издано в: Ежемесячные сочинения. № 2–3. 1900; РМГ. № 18. 1900, 504–507; РМГ. № 19–20. 1900, 538–539.
[Закрыть]. По мнению Коптяева, Ницше воплощал в себе зарождающуюся дионисийскую культуру, в которой музыка играет особенно важную роль. Музыка рассматривалась не просто как порождение, а как сама основа культуры: как то, что создает культуру. В современной жизни верх взяла рациональная, сократовская культура, «культура знания, а не интуиции», подавляющая иррациональные побуждения, составляющие саму жизнь общества318318
Коптяев А.П. Музыкальное миросозерцание Ницше, 102.
[Закрыть]. Одна лишь музыка, полагал Коптяев, в состоянии преодолеть это проклятье современной эпохи, играя роль преобразующего импульса, необходимого для воссоздания жизни и обновленного существования человечества на принципиально новой основе. В том же духе музыкальный критик Taciturno в статье 1906 года для журнала «Перевал» писал, что музыка, в прошлом – всего лишь «аксессуар и служанка трагедии», отныне благодаря блестящим теориям Ницше обрела независимое существование как «эстетическое» искусство, свободное от этических ожиданий, прежде возлагавшихся на него319319
Taciturno. Искусство прошлого и искусство будущего // Перевал. № 2. 1906, 50–52.
[Закрыть].
В контексте предреволюционной России предложенная Ницще дионисийская концепция единства зачастую неявно включала в себя две дополнительные концепции: теургию и соборность. Теургия, заимствованная из философии Владимира Соловьева и активно развивавшаяся в идеях русских поэтов-символистов, подразумевала способность искусства трансформировать саму реальность и при помощи иррациональных средств вкладывать в сферу греховного физического существования высший, духовный смысл. Соборность – концепция, почерпнутая из православной теологии и осмыслявшаяся в XIX веке писателями-славянофилами, – предполагала общинное или коллективное существование, единство в многообразии. Все эти три концепции (единство, теургия и соборность) отразились в представлениях о музыке, получивших распространение в предреволюционной России: музыка понималась как абсолютная иррациональная и соборная форма искусства, допускавшая ее коллективное восприятие или исполнение и имевшая возможность трансформировать саму реальность как физически, так и духовно. В качестве абсолютного символа единства музыка представлялась формой искусства, в наибольшей степени способной преобразовывать хаотический опыт современной жизни в единое духовное (а соответственно, и нравственное) целое посредством коллективного творческого процесса.
Композиторы и музыкальные критики предреволюционной России были не одиноки в своем отношении к музыке как к наивысшему символу единства. В равной мере о мистической силе музыки говорили философы, поэты и художники. Русский философ Владимир Соловьев утверждал, что музыка представляет собой наиболее «прямое или магическое» выражение Красоты, когда «глубочайшие внутренние состояния, связывающие нас с подлинною сущностью вещей и с нездешним миром (или, если угодно, с бытием an sich всего существующего), прорываясь сквозь всякие условности и материальные ограничения, находят себе прямое и полное выражение в прекрасных звуках и словах»320320
Соловьев В.С. Общий смысл искусства // Философия искусства и литературная критика. М., 1991, 73–89, цитата 84.
[Закрыть]. Таким образом, в трактовке Соловьева ницшеанская «дионисийская воля» заменялась бытием an sich («в себе»). Русский литературный символизм начала XX века, исходя из взглядов Соловьева, был склонен подчеркивать метафизические, едва ли не магические свойства музыки вместо того, чтобы рассматривать ее специфический аудиальный характер. Такие писатели и теоретики искусства, как Вячеслав Иванов, Андрей Белый, Александр Блок, Сергей Дурылин и Василий Кандинский, были заворожены уникальным свойством музыки: ее существованием во времени, сочетавшимся с явным отсутствием физической формы321321
Представления этих авторов о музыке подробно разбираются в: Bartlett R. Wagner and Russia. Cambridge, 1995; Morrison S. Russian Opera and the Symbolist Movement. Berkeley, 2002; Ljunggren M. The Russian Mephisto: A Study of the Life and Work of Emilii Medtner. Stockholm, 1994; Гервер Л. Музыка и музыкальная мифология; Левая Т.Н. Русская музыка начала XX века; Она же. Скрябин и художественные искания XX века; Steinberg A. Word and Music in the Novels of Andrei Bely. Cambridge, 1982.
[Закрыть]. Музыка существовала во времени, но не в пространстве. Она воплощала саму суть движения и процесса. Музыка пребывала в вечном становлении. Эти ее качества вдохновляли поэтов и художников на попытку подражать музыке в своих собственных произведениях в стремлении преодолеть различия между видами искусства322322
Андрей Белый сочинил четыре литературные «симфонии»: Первую симфонию (1900), Вторую симфонию (1901), Третью и Четвертую симфонии (1902): Bartlett R. Wagner in Russia, 142. Кандинский подражал музыкальным формам, называя свои произведения «композициями» и «импровизациями» и пользуясь в своих теоретических работах такими определениями, как «мелодический», «симфонический», «гармония», «диссонанс», «ритмичный», «неритмичный». Более того, в 1912 году он писал, что танец и живопись должны научиться от музыки тому, «что всякий звук и созвучие прекрасны (целесообразны), если вытекают из внутренней необходимости». Цит. по: Кандинский В. О духовном в искусстве. М., 1992, 94.
[Закрыть]. Вячеслав Иванов в своих работах утверждал, что музыка – «могущественнейшее из искусств»323323
Иванов В.И. Символика эстетических начал // По звездам: статьи и афоризмы. СПб., 1909, 21–32, здесь 31. В книге «По звездам» собраны статьи Иванова, первоначально опубликованные в 1904–1907 годах в нескольких символистских журналах. Влияние Ницше на Иванова разбирается также в: Bartlett R. Wagner in Russia, 118, 121; Morrison S. Russian Opera, 5.
[Закрыть] и что поэт-учитель новой эпохи «учительствует музыкой и мифом»324324
Иванов В.И. Поэт и чернь // По звездам, 33–42, здесь 34.
[Закрыть]. Для Иванова музыка предвещала рассвет новой эпохи и символизировала тайную сущность жизни, забытую современными людьми325325
Он же. Символика эстетических начал, 31.
[Закрыть]. Для воссоединения общества и возвращения человеческому существованию смысла требовался новый, музыкальный пророк. И этот дионисийский дух следовало искать прежде всего в музыке, а не в мысли326326
Он же. Ницше и Дионис // По звездам. C. 1–20, здесь 5.
[Закрыть]. Аналогичным образом величайшим из всех искусств провозглашал музыку Андрей Белый, в то время как Александр Блок прославлял «дух музыки», на котором держится само человеческое существование327327
Андрей Белый развивает свое представление о музыке как о метафизическом символе в статье 1903 года «Символизм как миропонимание». См.: Белый А. Символизм как миропонимание // Арабески. М., 1911; Левая Т.Н. Скрябин и символизм: взгляд на искусство // Скрябин и художественные искания XX века, 9. Левая отмечает историческое соответствие между созданием 1-й симфонии Скрябина и ранними произведениями Блока, утверждая, что это не просто совпадение: Там же, 11. Об отношении Блока к музыке см.: Хропова T., Дунаевский М. (Сост.). Блок и музыка: хроника, нотография, библиография. М., 1980.
[Закрыть].
Если такие критики, как Коптяев и Taciturno, высоко ценили дикие побуждения и экстаз дионисийского опьянения, выражаемого через музыку, то в глазах многих предреволюционных русских авторов центральное место все же занимал вопрос о нравственности музыки. Для философа Соловьева человеческая художественная креативность была тесно связана с идеей «теургии» или «божественного действия»: произведения искусства не только преобразуют, но и одухотворяют реальность. Подчеркивая грань между духовной (вечно совершенной) и материальной (существующей) реальностью, Соловьев видел в искусстве воплощение Красоты, связывающей друг с другом обе эти сферы. Предназначение «Красоты» – преображать материальную реальность через «воплощение в ней другого, сверхматериального элемента»328328
Соловьев В.С. Красота в природе, 38; Paperno I. The Meaning of Art: Symbolist Theories // Paperno I., Grossman J.D. (Ed.). Creating Life: The Aesthetic Utopia of Russian Modernism. Stanford, 1994, 13–23, здесь 13.
[Закрыть]. Соловьев видел в своей эстетической теории специфическую, христианскую миссию: «превращение физической жизни в духовную»329329
Paperno I. The Meaning of Art, 14. Цитата из: Соловьев В.С. Общий смысл искусства // Философия искусства и литературная критика, 73–89, здесь 82.
[Закрыть]. Таким образом, преобразующая сила искусства непосредственно увязывалась с нравственной целью: Красота всегда служит для достижения Истины и Добра; более того, красота – «ощутительная форма добра и истины»330330
Соловьев В.С. Судьба Пушкина // Философия искусства и литературная критика, 271–300, здесь 282. См.: также: Paperno I. The Meaning of Art, 15.
[Закрыть]. Соловьев говорил о находящей выражение в истории человечества «бесконечной борьбе космического (гармонизующего) начала с хаотическим в процессе космогенеза»331331
Бычков В.В. Русская теургическая эстетика. М., 2007, 81.
[Закрыть]. В рамках этого гностического представления о реальности акцент делался на постепенном одухотворении (гармонизации) материального мира с течением времени и превращении людей в богочеловечество332332
О концепции «богочеловечества» у Соловьева см.: Gustafson R. Soloviev’s Doctrine of Salvation // Kornblatt J.D., Gustafson R.F. (Ed.). Russian Religious Thought. Madison, 1996.
[Закрыть]. Важная роль в этом процессе отводилась искусству, символизировавшему привнесение формы в изначальный хаос и иррациональными (а не рациональными) средствами осуществлявшему сам процесс преобразований. В противоположность формообразующей деятельности художника, создающего новое произведение искусства, Соловьев связывал мгновения хаоса с различными формами разрушения, смерти и зла333333
См., например: Соловьев В.С. Общий смысл искусства, 79.
[Закрыть]. Аналогичные дискуссии о нравственном влиянии музыки получили широкое распространение и в музыкальной прессе предреволюционной России. Н. Молленгайер сравнивал музыку с Богом, утверждая, что человек не в состоянии осмыслить ни то, ни другое, в то время как Ф.С. Акименко посвятил несколько статей в «Русской музыкальной газете» раскрытию связи музыки с трансцендентальным духовным опытом334334
Акименко Ф.С. Афоризмы художника // РМГ. № 47. 1909, 1091–1094; Он же. Жизнь в искусстве // РМГ. № 44. 1910, 961–964; Он же. Из книги: Жизнь в искусстве // РМГ. № 6–7. 1912, 163–166; № 10, 233–235; № 12, 297–304; № 13–14, 329–332; № 35, 673–676; № 38, 753–757; № 12. 1913, 295–300; Он же. Искусство в мироздании (Meditation) // РМГ. № 3. 1914, 65–67; Молленгайер Н. Музыкальное искусство и христианская религия // Оркестр. № 18. 1910, 12–21.
[Закрыть].
Не все авторы были убеждены в том, что сила музыки по определению позитивна. Указывалось, что ее нравственное воздействие требует тщательной оценки, следствием чего стали многочисленные дискуссии о значении различия между «высшими» и «низшими» разновидностями эмоционального опыта. Лев Толстой в своем трактате 1897 года «Что такое искусство?», исходя из своей собственной противоречивой реакции на музыку, определял искусство как «заражение» эмоциями, передающимися от композитора к исполнителю и далее к аудитории335335
Толстой Л.Н. Что такое искусство? // Собрание сочинений: В 22 т. Т. 15, 41–221, passim.
[Закрыть]. Из-за непредсказуемой природы этого влияния, зависевшей исключительно от типа вызываемых им эмоций, «музыка для него [Толстого] становилась греховной субстанцией, чем-то опьяняющим человека и лишающим его своей свободной воли»336336
Сабанеев Л.Л. Толстой в музыкальном мире // Воспоминания о России. M., 2005, 122.
[Закрыть]. Напротив, Молленгайер, указывая на уникальную способность музыки вызывать эмоции любых типов, делал вывод о том, что хотя «„музыкальное искусство“ является единственным, в своем роде, феноменом, имеющим, более чем что-либо иное, возможность сильного и непосредственного влияния на духовную сторону человека», музыка воспринимается человеком через «инстинкт», а не «сознание»337337
Молленгайер Н. Музыкальное искусство и христианская религия // Музыкальный труженик. № 16–17. 1910, 1–5, здесь 4–5.
[Закрыть]. Из-за этой связи с инстинктом, предупреждал Молленгайер, музыка способна взывать как к «зверскому», так и к «доброму» началу в человеке. Соответственно, для того чтобы музыка могла служить своему фундаментальному, христианскому предназначению, инстинктивная эмоциональная реакция, порождаемая ею, должна дополняться у слушателя или художника сознательной оценкой услышанных им звуков. Таким образом, Молленгайер считал, что иррациональную силу музыки следует обуздывать путем рациональной оценки.
В аналогичном ключе композитор В.И. Ребиков проводил различие между «высшими» и «низшими» формами мистицизма в своем рассказе «Орфей и вакханки» (1909). Описывая диалог между музыкантом Орфеем и одним из его учеников, Ребиков подчеркивал противоречивую природу двух взаимно противоположных типов музыки: первый тип, «песни крови», связывался им с греховными, физическими побуждениями природы, а второй, «песни души» – с высшими нравственными и духовными устремлениями человечества. Юный ученик, признавая, что его влечет к себе музыка поклонников Вакха, признает, что лишь музыка Орфея пробуждает в нем высокие чувства, и говорит учителю: «Когда звучит твоя лира, я становлюсь добрее <…> я чувствую надежду, стремлюсь к высокому идеалу – значит? ты знаешь, как звуками лиры передать мне эти чувства»338338
Ребиков В.И. Орфей и вакханки: рассказ // РМГ. № 1. 1910, 6–15, здесь 9–10.
[Закрыть]. И напротив, в чисто физической музыке Вакха, по словам ученика, он не слышит «ни добра, ни надежды»339339
Там же, 11.
[Закрыть]. Для Ребикова, в отличие от Молленгайера, основой для суждения служила не рациональная оценка, а иррациональные эмоции.
Это мистическое проявление иррациональной силы музыки нашло наиболее законченное выражение в философской системе, созданной московским музыкантом и писателем Константином Романовичем Эйгесом (1875–1950), утверждавшим, что ключевая задача музыки состоит в преобразовании связи слушателей с реальностью путем воздействия на них Красоты340340
Эйгес К.Р. Статьи по философии музыки. М., 1912.
[Закрыть]. По его словам, в Красоте сливаются в единое целое все взаимно противоположные аполлоновские и дионисийские принципы ницшеанского дуализма. Этот процесс происходит благодаря тому, что искусство пробуждает в аудитории определенное настроение и тем самым уводит нас «из пределов феноменального бытия, поднимает с земли <…> по сю сторону мира вещей и явлений»341341
Он же. Красота в искусстве // Золотое руно. № 11–12. 1909, 61–68, здесь 67.
[Закрыть]. Источником этого трансцендентального опыта, мистического по своей сути, служит не разум, а чистая интуиция. Такой специфический акцент на религиозном компоненте ставил музыкальную эстетику Эйгеса в один ряд с философскими идеями Владимира Соловьева, а задача музыки при этом оказывалась тесно связана с образом высокой нравственности342342
Он же. Музыка, как одно из высших мистических переживаний // Золотое руно. № 6. 1907, 54–57, здесь 54.
[Закрыть].
Эйгес утверждал, что мистика в целом (и музыкальная мистика в частности) могла проистекать как из высоких, так и из низких побуждений. «Низшая мистика», «проявляющаяся как опьянение, бред, переживания ужаса и пр.», представляла собой мистику хаоса343343
Там же, 54.
[Закрыть]. Эйгес подчеркивал, что чистейшим проявлением «высших» мистических побуждений служит творчество, в то время как «низшие» мистические побуждения находят свое наиболее явное выражение в разрушении. Музыкальное творчество, указывал Эйгес, отличается от других разновидностей художественного творчества. Лишь композитор воплощает в себе и низшие («дионисийские»), и высшие («аполлоновские») мистические побуждения. Если прочие художники вдохновляются предметом или идеей в явленном мире, отражающем небесную красоту, то «творчество композитора имеет другой характер: сильное возбуждение, переходящее в опьянение, охватывает его, когда в момент вдохновения он не только неопределенно чувствует „касание мирам иным“, но как бы вступает в этот иной мир всей душой и созерцает трансцендентное, как особый звуковой миропорядок во всей его внемирной красоте»344344
Он же. Музыка и эстетика // Золотое руно. № 5. 1906, 60–62.
[Закрыть]. По словам Эйгеса, композитор, входя в этот иной мир, испытывает чисто дионисийские переживания, уничтожение границ между индивидуумом и внешним миром. В этот момент его воля объединяется с «первобытно-единым»345345
Он же. Основные вопросы музыкальной эстетики // Статьи по философии музыки. М., 1912, 65–94, здесь 91.
[Закрыть]. Притом что такое непосредственное переживание иррационального, дионисийского единства отличает музыкальное творчество от всех других видов художественной деятельности, оно в то же время делает музыкальное вдохновение особенно опасным, поскольку композитор вступает в сферу низшего мистического опыта346346
Он же. Музыка, как одно из высших мистических переживаний, 54.
[Закрыть].
С целью анализа этого процесса Эйгес (опираясь на Ницше) ввел в свою философию музыки две новые концепции: «волю к звукам» и «музыкальное настроение»347347
Концепцию «музыкального настроения» выдвинул Ницше в «Рождении трагедии из духа музыки» (часть 5), ссылаясь на Шиллера.
[Закрыть]. Дионисийское состояние, в котором находится композитор, порождает импульс к тому, чтобы выразить это ощущение в наиболее непосредственной форме из всех возможных: в звуке. Тесная связь между «первобытно-единым» (ощущаемым в дионисийском состоянии) и музыкой и находит воплощение в этой «воле к звукам», посредством которой это неистовое, экстатическое состояние получает выражение в явленном мире. Согласно этой интерпретации, зарождающаяся воля Ницше и Шопенгауэра обретает цель: стремление к звуку, и в первую очередь к звуку музыкальному.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































