Текст книги "Иррациональное в русской культуре. Сборник статей"
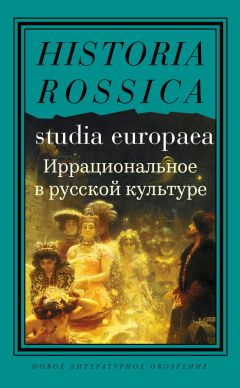
Автор книги: Коллектив авторов
Жанр: Зарубежная прикладная и научно-популярная литература, Зарубежная литература
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 15 страниц)
Перевод Николая Эдельмана
СВЕРХРЕАЛЬНОЕ В БЛОКАДНОМ ТЕКСТЕ: ТЕЛЕОЛОГИЯ И РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ
Полина Барскова
Город-фронт – чудовище прекрасное и многогранное.
Из блокадного дневника Эсфири Левиной
Душа, защищаясь, прикидывалась деревянной.
Дмитрий Максимов
Рассматривая сегодня блокадные источники, мы видим, что такие категории, как «фантастическое», «невероятное» и даже «сюрреалистическое», постоянно встречаются при описаниях катастрофы, соперничая с травматическими понятиями ужаса и страдания. Таким образом, центральный вопрос данного исследования – каким образом ощущение «разрыва», непреодолимого различия между ожидаемым и испытываемым, постижимым и загадочным репрезентировалось в разных регистрах блокадного письма – художественном и документальном, подцензурном и не предназначавшемся для публикации в советских источниках. В рамках этой статьи я обращаюсь в первую очередь к трем видам блокадного письма – личному дневнику, стихам, очевидно не предназначавшимся для печати в официальной советской прессе, и к художественному произведению (повести), переосмысляющему личный дневник с целью официальной публикации. Во всех этих текстах возникают категории «ирреального» и «иррационального», но их осмысление, назначение и художественная реализация различны. Что же такое блокадное «ирреальное» – область сознания, поврежденная травмой, или именно точка воздействия, момент соприкосновения сознания с окружащим? Каким образом это ощущение может находиться в диалоге с «сознательностью», одной из центральных категорий советской субьективности?
Для демонстрации актуальности обсуждаемых явлений для блокадного дискурса мы обратимся к эпизоду из воспоминаний ленинградского художника Валентина Курдова. Для Курдова, как и для многих других персонажей этих заметок, блокада стала переломным моментом личной и творческой биографии: в 1920–1930-х годах он был связан с ленинградским авангардом, принадлежал к кругу Владимира Лебедева, однако эта группа подверглась суровым идеологическим проработкам за «формализм» и безыдейность – и во время войны он сблизился с наиболее «политически корректной» частью Ленинградского союза художников под началом «серого кардинала» блокадного официального искусства Владимира Серова, и его карьера стала гораздо более официозной. В воспоминаниях Курдова о войне достаточно места отведено воспеванию героизма и стоицизма создателей художественной пропаганды «города-фронта» (воспоминания создавались для публикации и очевидно содержат черты советской блокадной мифологии)416416
Здесь я опираюсь в основном на: Kirschenbaum L. The Legacy of the Siege of Leningrad, 1941–1995: Myth, Memories, and Monuments. Cambridge, 2009.
[Закрыть]. Однако одним из наиболее примечательных аспектов этих воспоминаний является именно профессиональный взгляд художника, которым свидетель пытается осознать и соразмерить травматические противоречия блокадной ситуации и блокадного городского пейзажа. Курдов пишет:
Ночью, освещенный луной, город становился фантастически прекрасен… Кружево заиндевевших деревьев и скверов придавало строгим архитектурным ансамблям волшебную театральность… Я привык к завернутым или зашитым в простыню замерзшим мумиям. Не было страшно, это было обыденным, и только иногда я косил глаза при виде неожиданной позы замерзшего путника, окоченевшего у стены в житейской позе. Каждый день приезжали машины, собирая по городу свою добычу. Фургоны, набитые доверху поленницей переплетенных рук, ног, с развевающимися по воздуху волосами, мчались по пустынным улицам на Пискаревку. Смотря им вслед, я вспоминал о Гойе… Идя мимо зашитого досками памятника Петру I, у низкой решетки на углу набережной, в четырех шагах от моей тропинки я вижу упаковочную картонную коробку из-под американских галет с обычными для рекламы подписями и цифрами. В ней лежало замерзшее тельце младенца. На морозе он походил на замерзшего розового амура с заиндевевшими белыми ресничками… Я остановился, пораженный странной и необъяснимой красотой увиденного. Великолепная классическая архитектура нашего города казалась несовместимой с торговой американской рекламой и лежащим трупом ребенка. Несоответствие лишь подчеркивало торжество сверкающего зимнего дня. Мне показалось все ирреальным, похожим на видение. Я осознал, что столкнулся в жизни со сверхфантастической реальностью, не предусмотренной никакой разумной логикой. Значит, может быть правы и художники-сюрреалисты, сверхреалисты, стоящие над реальным…417417
Курдов В. Памятные дни и годы. СПб., 1992, 182–183.
[Закрыть].
В ярком городском описании Курдова меня в первую очередь интересуют категории несовместимости и необьяснимости исторических явлений: ощущение «ир-» или «сверхреального» появляется у рассказчика именно из-за очевидной для него неадекватности его языковых средств для описания семантического и эстетического «разрыва» – зрелища прекрасной смерти, зияющего контраста между ужасом и красотой, ужасом военной реальности и эстетической урбанной гармонией, «обрамляющей» этот ужас. Не в состоянии соединить эти явления в гомогенное, «естественное», привычное впечатление и высказывание, художник исключает наблюдаемое им за рамки реальности и, надеясь, что «страшное», таким образом, перестанет быть таковым, травма утратит свой аффект. При этом именно «несоответствие» имеет потенциал затрагивать наблюдающего, у которого уже возникло привыкание к рутинной встрече со смертью: «мумии», замечает Курдов, уже не пугают его, так как наступило травматическое онемение. Каким образом блокадная личность справляется с этим несоответствием?
За последнее время возникли убедительные архивные исследования, связанные с темой «стратегии выживания» во время блокады Ленинграда. Такие исследователи, как Ричард Бидлак, Никита Ломагин, Джеффри Хасс, Владимир Пянкевич, выдвигают убедительные предположения о прагматических стратегиях выживания, политических и социоэкономических (среди них – трудоустройство на фабриках и заводах с целью получения рабочей карточки, связи с привилегированными прослойками общества, участие в черном рынке и других криминальных структурах, производство информации, слухов и т.д.)418418
Особенно важными здесь являются следующие работы упомянутых авторов: Bidlack R. Survival Strategies in Leningrad during the First Year of the Soviet-German War // Thurston R., Bonwetsch B. (Ed.). The People’s War: Responses to World War II in the Soviet Union. Urbana; Chicago, 2000, 84–108; Пянкевич В. Рынок в осажденном Ленинграде // Жизнь и быт блокадного Ленинграда. Сборник научных статей. СПб., 2010, 122–163; Hass J.K. The Experience of War and the Construction of Normality: Lessons from the Blockade of Leningrad // Ломагин Н.А. (Ред.). Битва за Ленинград: дискуссионные проблемы: по материалам международной научно-технической конференции «Блокада Ленинграда: спорное и бесспорное». СПб., 2009, 240–277; Ломагин Н.А. Неизвестная блокада. СПб., 2002.
[Закрыть]. При всей очевидной важности этих стратегий мое исследование обращено к стратегиям, возможно, менее материальным, но, согласно свидетельствам очевидцев, не менее важным: речь пойдет о психологических, эмоциональных, эстетических способах выживания – тех, о которых ленинградский писатель Леонид Пантелеев (которому, поскольку он был вынужден скрываться от местных органов власти, пришлось пережить блокадную зиму без карточек) выразил предположение: «Что-то все-таки подпирает дух, а если дух не подпирал, люди умирали»419419
Пантелеев Л. Приоткрытая дверь. Л., 1980, 383.
[Закрыть]. С целью демифологизации примечательного высказывания Пантелеева данная статья посвящается посвящаются детальному анализу психологического сопротивления блокадной травме и текстуальным последствиям этого сопротвления.
Вместе с другими современными исследователями блокадной повседневности и репрезентации я задаюсь вопросами о дискурсивных механизмах выживания: какие трансформации происходили в сознании субъектов блокадной травмы и какие нарративные механизмы отражали эти трансформации? В своем исследовании блокадной этики Сергей Яров анализирует разнообразный спектр психологических практик, позволявших блокадникам защищать свою личность от испытаний истории (причем иногда современному «наблюдателю» истории эти стратегии могут показаться противоречащими друг другу, как, например, радикальное сужение своего жизненного круга с целью экономии жизненных сил и эмпатическое служение другому, пристальное самонаблюдение и различные стратегии эскапизма)420420
Яров С.В. Блокадная этика: представления о морали в Ленинграде в 1941–1942 гг. СПб., 2011.
[Закрыть].
В то время как официальная ленинградская медицина по очевидным цензурным причинам стремилась минимизировать влияние блокадной травмы на формы бытования и самоопределения субъекта в условиях блокады (так, в статье профессора В.М. Мясищева «Психические расстройства при дистрофии в условиях блокады» утверждается, что «количество случаев нервного и психического расстройства было несравнимо малым по сравнению с количеством истощенных людей, не страдавших такими расстройствами»421421
Мясищев В.М. Психические расстройства при дистрофии в условиях блокады; см.: Dzeniskevich A. Medical Research Institute during the Siege // Barber J., Dzeniskevich A. (Ed.). Life and Death in Besieged Leningrad: 1941–1944. Hampshire, 2005, 86–123.
[Закрыть]), сами блокадники в своих свидетельствах постоянно обсуждают разрушительные последствия этой исторической катастрофы для их сознания: в многочисленных дневниках мы читаем, как блокадники наблюдают – чаще у своих близких, реже у себя – ухудшение психического состояния, нередко ведущее к полному разрушению личности и самоубийству422422
Феномен блокадного самоубийства нередко описывается в свидетельствах очевидцев, но до сих пор не нашел должного отражения в исторической литературе. См., например: Глинка В.М. Воспоминания. Архивы. Дневники. СПб., 2006.
[Закрыть].
«ПРИЗНАНИЕ РЕАЛЬНОСТИ НЕРЕАЛЬНОСТЬЮ И НАОБОРОТ»: МЕХАНИЗМЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЭСКАПИЗМА НА СТРАНИЦАХ ДНЕВНИКА
Переводчица, автор примечательно противоречивого и проницательного дневника (1911–1968) и неудавшийся, хотя и амбициозный литератор Софья Островская на протяжении самых тяжелых месяцев блокады постоянно анализирует найденный ею способ самосохранения, сопротивления катастрофе:
[29 ноября 1941 года.] События кровавой драмы разворачиваются вполне реально с полной закономерностью реальной войны, реальной осады города, реального голода. Я же, видя и зная все это, наблюдая и оценивая, переживаю все это так, словно мое участие в этой реальности само по себе не вполне реально. Я не до конца верю в возникшую неожиданно вокруг меня реальность опасности, ужаса <…> Мне очень часто кажется, что настоящее – это часы затишья, <…> а бомбежки, тревоги <…> – это, <…> что не может быть настоящим – просто потому, что для меня во всем этом ясно видны признаки неестественности, невозможности бытности такого в реале, непостижимости <…> Призраки становятся для меня гораздо более реальными, чем сама действительность, а действительность, оборачиваясь призраком, превращается в нечто нереальное423423
В оригинале пассаж, выделенный здесь курсивом, написан по-французски (Прим. ред.).
[Закрыть] <…> Может быть, это дороги спасения – такое бегство в признание реальности нереальностью и наоборот. <…> Поэтому и прибегаю к спасительным маскировкам: сохраняя свое равновесие <…> В фантоматическом городе живет некий веселый фантом, откликающийся на мое имя424424
Островская C.К. Дневник. М., 2013 [29 ноября 1941 года] // https://www.e-reading.club/chapter.php/1036426/27/Ostrovskaya_-_Dnevnik.html, 05.11.2019.
[Закрыть].
Наблюдения Островской указывают на один из центральных психологических императивов блокадной ситуации – необходимость радикального, срочного «настраивания» сознания на катастрофу, масштабы и неожиданность которой были таковы, что жертвы катастрофы часто были не в состоянии анализировать ее в терминах реального и рационального, что приводило к переосмыслению понятий, риторическим «перестановкам»425425
О теме блокадного «бесстрашия» (часто трактуемого как травматическое эмоциональное онемение) см.: Гинзбург Л.Я. Проходящие характеры: Проза военных лет. Записки блокадного человека. М., 2011.
[Закрыть]. Островская настойчиво объясняет свое блокадное состояние спокойствия способностью усилием воли и воображения поменять местами «зоны» реального и ирреального. Так же как и Курдов, она сопоставляет психологические категории страшного (оказывающегося связанным с «реальным») и ирреального – того, что не может причинять травматический урон человеку. Дневниковая деятельность Островской, как и в подавляющем большинстве блокадных дневников, во многом направлена на саморегулирование – на моделирование, корректирование и сохранение собственной личности в ситуации исторической катастрофы. При этом она приходит к выводу, что, чтобы сохранить свою личность, она должна ее защитить путем дублирующей подмены – так блокаду проживает уже не она, а «веселый фантом». Дневниковая практика Островской любопытна с точки зрения публикаторской телеологии – она нацелена на производство исторического свидетельства и на терапевтический эффект текста в настоящем, при этом автор сознает, что может рассчитывать на публикацию только в отдаленном будущем. Непосредственной задачей Островской является прежде всего именно выработка приемов сопротивления травме.
Формулирование стратегий сохранения личности наблюдается в такой специфической области блокадного дневникового письма, как отклики блокадников на их читательскую практику. Изучая стратегии блокадного чтения, мы видим, что эскапизм (отвлечение от блокадной реальности) часто являлся здесь первоочередной задачей, однако он своеобразным образом сочетался с поиском в чтении способов защиты от блокадной реальности. Цель чтения была парадоксально двоякой – защищаться, уходить от блокадной реальности и настраиваться на нее, учиться ей. Именно с этой необходимостью освоить «фантастический» мир блокады как «реальный», то есть как систему, с которой необходимо постоянно находиться в контакте, связана в значительной степени востребованность Эдгара Аллана По среди блокадных читателей426426
Барскова П. Вес книги: стратегии блокадного чтения // Неприкосновенный запас. № 6. 2010 // http://magazines.russ.ru/nz/2009/6/ba5.html, 05.11.2019.
[Закрыть]; та же Софья Островская энтузиастически соглашается с высказыванием своего брата Эдуарда: «Для Ленинграда нужны только Гойя и Эдгар По. Великолепно! Не люди, не город, призраки, фантомы, гиньоль, паноптикум, морг под открытым небом»427427
Островская C.К. Дневник [27 апреля 1942 года] // https://www.e-reading.club/chapter.php/1036426/29/Ostrovskaya_-_Dnevnik.html, 05.11.2019. При этом состояние самого брата, комментирующего внерациональный характер блокадной реальности, Островская расценивает как патологическое, близкое к психологическому распаду: «Эдик выглядит ужасно – желто-зеленый, худой, с провалами на небритом лице: зол, раздражителен, настроен трагически, близок к отчаянию, к моральной гибели». Там же.
[Закрыть].
К перечитыванию По обращались именно ради навыка совмещать в одной когнитивной системе реальное и «сверхреальное», непостижимое с точки зрения нормативной повседневности. Можно привести наблюдение художницы Татьяны Глебовой в ее блокадном дневнике о принципиально новой для нее в ситуации блокады актуальности новеллы По «Разговор Моноса и Уны»:
Эти записи должны постепенно приобрести характер беседы из рассказов Эдгара По («Беседа Моноса и Уны» – разговор жизни и смерти), потому что то, что происходит сейчас в нашем городе, навряд ли понятно тем, кто уехал, и все наши ощущения, переживания должны им казаться столь же необычными428428
Глебова Т. Рисовать как летописец: страницы блокадного дневника // Панорама искусств. № 2. 1991, 30.
[Закрыть].
В этой новелле протагонист По рассказывает своей возлюбленной о том, что с ним случилось после смерти, причем из этого рассказа явствует, что грань между жизнью и смертью крайне размыта и то, что живым кажется смертью, мертвым кажется мучительной и загадочной формой продолжения жизни; это то, что Ролан Барт называет «мнимой смертью у По»429429
Барт Р. Семиотика. Поэтика. Избранные работы. М., 1989. С. 497.
[Закрыть]: «Но не все ощущения исчезли: летаргическое наитие оставило мне что-то немногое. Я сознавал ужасные перемены, которым теперь подвергалась плоть…»430430
По Э. А. Беседа Моноса и Уны (цит. по: Сборник «Рассказы» 1845 // http://ogrik2.ru/b/edgar-allan-po/sbornik-rasskazy-1845/3237/beseda-monosa-i-uny-38-39/5, 05.11.2019.
[Закрыть]. Речь здесь, как нередко у По, идет о «размывании границ» традиционного семантического поля смерти: смерть у него может оказываться прекрасной, творческой, желанной и, как мы видим, может оказываться вообще не смертью. Характерно, что подобное движение мы находим и в непосредственных блокадных записях. Так Островская описывает смерть своей матери: «Мамы нет в жизни, но для меня мамы нет и в смерти. Она где-то рядом со мною, в какой-то неведомой мне промежуточной стадии»431431
Островская С. Дневник [20 августа 1942 года] // https://www.e-reading.club/chapter.php/1036426/29/Ostrovskaya_-_Dnevnik.html, 05.11.2019.
[Закрыть]. Потрясенная уходом любимой матери после месяцев отчаянных усилий, направленных на ее спасение, Островская пытается сформулировать особое «промежуточное» состояние между жизнью и смертью, между возможным и невозможным, рациональным и иррациональным, которое могло бы стать местом спасения ее матери – равно как и ее местом, в котором она могла бы «спрятаться» от невыносимых крайностей блокадной ситуации.
Подобное размывание понятийных границ в результате сопоставления противоположностей по своей природе оксюморонно – именно этот аспект восприятия блокадной реальности, «невозможное» сочетание несочетаемого, чаще всего приводил к диагнозу наблюдателей: «Такая реальность вне рационального», как мы видим и в воспоминаниях Курдова. Реальность блокады обезболивается посредством эстетизации зрелища изменившегося города: город, сравниваемый с произведениями Гойи и сюрреалистов, утрачивает (хотя бы частично) острую непосредственность воздействия на того, кто его наблюдает и «практикует».
Одним из наиболее острых блокадных оксюморонов является смертоносная красота города – категория, постоянно появляющаяся в блокадных текстах, как дискурсивных, так и визуальных, причем мы видим этот оксюморон и в частных, и в публичных текстах – у той же Островской, в ее дневнике, предназначенном для читателя «из будущего» («Пышная, нарядная, жестокая зима. Пейзажи великолепны. Люди мрут легко и быстро»432432
Там же [4 февраля 1942 года].
[Закрыть]), так же как в «Пулковском меридиане» Веры Инбер, одном из центральных официальных текстов блокадной пропаганды:
Зима роскошествует. Нет конца
Ее великолепьям и щедротам.
Паркетами зеркального торца
Сковала землю. В голубые гроты
Преобразила черные дворы.
Алмазы. Блеск… Недобрые дары!..
Закат сухумской розой розовеет…
Но лютой нежностью все это веет433433
Инбер В. Пулковский меридиан – Душа города. Л., 1979, 17–18.
[Закрыть].
И в пародийной эпиграмме художника Александра Никольского:
Определение этих контрастирующих элементов блокадной реальности – один из наиболее важных/частотных топосов блокадных дневников и художественных текстов. В результате возникают риторические фигуры вроде «лютой нежности», где именно оксюморонное столкновение приводит к возникновению «промежуточной» области, своего рода буфера для воспринимающего. Таким образом, в дневниковом письме оксюморонный механизм саморегуляции функционирует посредством смещения и сопоставления зон реального и «непостижимого», манипулируя ими с целью создания эффекта смягчения воздействия катастрофы. С помощью дневника субъект в условиях блокады анестезирует себя.
Я – ВЫСТРЕЛ К БЕЗУМЬЮ: ИРРАЦИОНАЛЬНОЕ В ПОЭЗИИ БЛОКАДНЫХ ПОСТОБЭРИУТОВ
Крайне редко мы видим в блокадных дневниках лингвистический метакомпонент, попытки регистрировать изменения языка, происходящие вследствие блокадной травмы435435
Исключением здесь можно считать блокадные записи Лидии Гинзбург, уделяющей значительное внимание аберрациям языка блокадников.
[Закрыть]. Только в последнее время путь к читателю нашли (и все еще ищут) тексты блокадных неподцензурных поэтов, ставивших перед собой задачу воспроизведения языка, способного отразить историческую катастрофу и полноту ее воздействия на человека. В своем романе «Блокада» (1946) – единственном известном на данный момент объемном художественном тексте о блокаде, не предназначавшемся для советской печати, начатом непосредственно во время блокады и опубликованном во внесоветском контексте вскоре после нее, – Анатолий Даров высказывает мысль о возможности формирования особого блокадного языка: «Апокалиптяне говорят – будто каждый сам с собой: заплетающимся языком будто пьяные. Но легко понимают друг друга, не переспрашивают. Продлись блокада десятилетие – выработался бы полуживотный язык, стали понимать бы с полуслова и полувздоха и полувзгляда»436436
Даров А. Блокада. Нью-Йорк, 1964, 299.
[Закрыть].
Однако мы находим различные версии этого языка блокадной патологии у ленинградских неподцензурных поэтов-постобэриутов, один из которых, Павел Зальцман, пишет с горечью: «Нет, я ничего не понимаю // В своем голодном вое»437437
Зальцман П.Я. Сигналы Страшного Суда. М., 2011, 125.
[Закрыть]. Зальцман принадлежал к кругу авторов, возводивших свою творческую методологию к творчеству поэтов круга ОБЭРИУ: Геннадий Гор, Павел Зальцман и Владимир Стерлигов находились в первую очередь под влиянием Даниила Хармса, Дмитрий Максимов и Сергей Рудаков – Константина Вагинова. Как и Курдов, многие «постобэриуты» (за исключением Рудакова, который погиб на войне в 1944 году) смогли успешно занять свои ниши в иерархии послевоенных культурных институций – Гор как писатель-фантаст и отчасти искусствовед, Зальцман как художник на Алма-Атинской киностудии, Максимов как филолог, специалист по творчеству символистов. Никто из них многие десятилетия (практически до конца жизни) не пытался публиковать свои блокадные стихи, которые в самом деле и по форме, и по содержанию вопиюще не укладывались в рамки официальной блокадной поэзии438438
Прижизненно свои блокадные стихи увидел опубликованными только Дмитрий Максимов, выпустивший сборник под псевдонимом Карамов И. Стихи. Лозанна, 1982.
[Закрыть]. В официальной советской литературе о блокаде невозможно себе представить ни то, о чем писали эти поэты, ни то, как они писали. Тематически в этих стихах изображены такие табуированные аспекты блокадной истории, как каннибализм, преступность, черный рынок, проституция. При этом все это изображается через «оптический аппарат» человека, пораженного блокадой, – чтобы передать степень повреждения блокадной психики, поэты этого круга стремились воссоздать поврежденный блокадой язык.
Олег Юрьев в комментарии по поводу первой значительной публикации Гора (произошедшей в Австрии в 2007 году) отмечал: «В блокадном Ленинграде, в ситуации абсолютного экзистенциального ужаса он безо всяких оговорок и ограничений вдруг заговорил на каком-то другом языке, на языке, применительно к которому несколько стыдный вопрос об отношениях формы и содержания просто-напросто не встает»439439
Юрьев О. Заполнение зияния–2 // Новое литературное обозрение. № 89. 2008 // http://magazines.russ.ru/nlo/2008/89/ur20.html, 05.11.2019.
[Закрыть]. Абсолютный ужас освободил поэта от страха расправы и дал возможность открытия новых поэтических возможностей для работы с предметом истории, притом что, как опять нельзя не согласиться с Юрьевым, описание блокадных реалий является «скорее кошмарным отражением, заостренной возможностью, чем переработкой запредельно кошмарного, но все-таки быта»440440
Там же.
[Закрыть].
Фрагментация субъекта (как его тела, так и его сознания) является одной из главных тем и риторических фигур в блокадных стихах Гора, при этом она принимает разные сюжетные и стилистические окраски – от декораций темного романтизма à la Эдгар Пo до конфессиональных моментов самодиагностирования:
<…> С холодной луною в душе
Я выстрел к безумью. Я – шах
И мат себе. Я – немой. Я уже
Ничего и бегу к ничему.
Я уже никого и спешу к никому
С воздушной волною во рту,
С холодной луной в темноте,
С ногою в углу, с рукою во рву,
С глазами, что выпали из глазниц,
И пальцем, забытым в одной из больниц,
С ненужной луной в темноте441441
Гор Г. Красная капля в снегу. Стихотворения 1942–1944 гг. М., 2012, 47.
[Закрыть].
Притом что эти тексты напрямую соотносятся с блокадными реалиями, главным достигаемым эффектом является трансляция внутреннего, а не внешнего состояния того, кто производит речь, хаос речевого процесса отражает хаос блокадного бытия: «Я уже никого и спешу к никому». Именно так двухуровнево, буквально и метафорически, следует читать строку «Я выстрел к безумью»: здесь говорится и о последствиях для блокадника бомбежки и обстрела, несущих, как мы знаем, не только гибель, увечье, но и поражения психики, и о стремительности погружения в безумие; распад здесь дан как физический в результате бомбежки, так и душевный. Происходит процесс буквализации фигур речи, который Гинзбург описала как одно из существенных проявлений блокадного бытования и блокадного языка:
Откровенное социальное зло реализовало переносные метафизические смыслы, связанные с комплексом нищеты, заброшенности, унижения. Но все это оказалось далеко позади по сравнению с той ужасающей прямотой и буквальностью значений, которую пришлось пережить сейчас. Если существовала формула – «делиться со своими ближними куском хлеба», – то оказалось, это означает, разделить ли хлеб, полученный по рабочей и по иждивенческой карточке, пополам или оставить себе на 100 или 200 грамм больше. <…> формула приобретает новую этимологию <…> и совершенно новую буквальность442442
Гинзбург Л.Я. Проходящие характеры, 17.
[Закрыть].
В блокадном триптихе другого поэта, связанного с «заумным» направлением ленинградского авангарда, Дмитрия Максимова, мы также видим перемежающиеся зоны реального и ирреального:
Cтихи, написанные в темноте.
Война.
Декабрь 1941-го. Ленинград. Ночью под ватником в стационаре на Васильевском острове. Душа, защищаясь, прикидывалась деревянной. Света не было.
1.
Она разводит паучков
Они висят над головой
Головки виснут над землей
И странен очерк синевы
В сетях паучьей головы
Она бездомные глаза
Моих померкнувших домов
Заткала белыми крестами
И от полей со всех концов
Тянулись шеи пришлецов.
Она сожрала нашу кашу
И опустели души наши.
А наши бабушки и дочки
Свернулись в белые комочки.
Она надела полушубки
На нас и мы от этой снежной рубки
Летим по ветру, как скорлупки
И плачут девушки-голубки.
Знай, не свернув себе салазки,
Она еще расскажет сказки!
2.
Не хватило тебе каши
И под шубой чуть дыша
Мы увидели с Наташей
Как рвалась ее душа.
Как налезли воры тати
Сели к тете на кровати
Как явились палачи,
Отобрали калачи.
Так на зов из тьмы безмерной
Друг пришел нелицемерный.
И она смежила вежды
Не взглянула тетя зря
Как несли ее к надежде
На щите богатыря
Не взглянула, не хотела
Не слыхала, как орлы
В невозбранные пределы
Возносили ей хвалы.
Как три брата-океана
Лили слезы у дивана
Там, где я теперь стою.
Где в потемках вспоминаю
Тетю милую мою.
3.
Полуоткрыли,
Хватило сил.
За бури были
Перевалил.
С таких недугов
С таких потерь
Ты в сердце друга
И в рай поверь.
С такого бденья
С таких обид
Уже решенье
Судьбы гремит!
И наши души
С таких утрат
Какие суши
Не озарят?
И без тревоги
Придя домой
Дотянешь ноги
Уже другой443443
Максимов Д. Стихи. СПб., 1994, 43–45.
[Закрыть].
Мы наблюдаем у Максимова коллажное соединение разных семантических слоев: в диалоге оказываются соположены документальное воспроизведение исторических блокадных реалий, заумное письмо, связанное с воспроизведением детской речи, опустошенная, десемантизированная романтическая дикция, стилизирующая поэтический язык Вагинова. В отличие от заумных конструкций у Хармса и Введенского (где мир поэтического языка целиком является вызовом нормативной семантике), деградация смысла в тексте Максимова развивается постепенно – и в этом мы усматриваем намерение воспроизводить афатическое ухудшение, распад блокадного языка444444
Об афатических чертах в поэзии Гора и Зальцмана см.: Барскова П. Гимн действительной свободы: Обращения к поэтической традиции ОБЭРИУ в блокадных текстах // Гронас М., Шерр Б. (Сост.). Лифшиц / Лосев / Loseff: Сборник памяти Льва Владимировича Лосева. М., 2017, 162–182.
[Закрыть]. В первой части трилогии мы видим реалистическое воспроизведение новых явлений блокадного городского пейзажа осени 1941-го – заграждений (паучками, равно как и слонами, назывались заградительные аэростаты), камуфляжа и заклеенных окон. Одним из явлений этой новой блокадной реальности является специфический конструирующий блокадный язык (противоположный деконструирующему языку фрагментации), производящий термины для новых явлений – паучки, слоны, подснежники/цветы и так далее445445
О специфическом словаре блокадников см.: Бианки В. Город, который покинули птицы // Лихолетье. СПб., 2005.
[Закрыть]. Стихотворный документ-наблюдение в триптихе сменяется миром страшной инфантилизирующей сказки, постепенно здесь также возникают смысловые нарушения: в строках «тянулись шеи пришлецов… свернуть салазки» (салазки и шея здесь как бы «заменяют» друг друга, путаясь в жутком каламбурном qui pro quo).
В третьей части, написанной неадекватно «бодрым» двухстопным размером, связь с исторической реальностью ослаблена, язык же сведен до романтических клише: «Ты в сердце друга и в рай поверь». За этой романтической бессмыслицей читатель может лишь угадывать сюжет стихотворения – чудесное спасение протагониста – лирического героя из клаустрофобической ситуации, его путь домой и духовное преображение в результате этого испытания. Само противоречие между формой (и романтической памятью формы) и содержанием в этой части воспроизводит динамику нарушения логики, как исторической, так и нарративной, которую обсуждает в своих воспоминаниях также и Курдов.
В блокадной поэзии друга Хармса, художника Владимира Стерлигова, оппозиция рациональное/иррациональное оказывается связанной с преодолением пространства:
А я король. В рубашке белой
Лежу, сознаньем возвышаясь,
<…>
И веселюсь, что стены нам непроходимы.
<…>
Шатая вдруг пространства коридоры,
Как <бы> руками трогая предметы,
Как будто нет на них запрета,
Как будто кожа содрана на них.
(вариант)
Как мне смешно, что крыша, стены
Для нас совсем непроходимы,
Когда, вперед раскинув руки,
Я прыгнул в сумерки ничком446446
Я благодарю Алену Спицыну за предоставление текстов Стерлигова для публикации.
[Закрыть].
Попытка постобэриута описать состояния своей личности в ситуации блокады показывает, что эта личность связана (и пародически, и болезненно-трагически) и с идеей сублимации (сознаньем возвышаясь), и с идеей безумия (стерлиговский король определенно наследует свой престол у короля Испании в «Записках сумасшедшего» Гоголя). Последствием этого болезненного состояния сознания является желание поэта вырваться любой ценой за пределы сковывающего его пространства. Проблема изолирующего и изолированного пространства по понятным причинам является одной из основных для тех, кто оказался в блокаде, но именно в творчестве поэта, связанного с традициями «зауми», эта проблема принимает характер «надреального»: возвышенно-искаженное сознание делает возможным если не реальное, то ментальное преодоление пространства, притом что контакт с этим пространством мучителен (отсюда образ содранной кожи). Возвышение сознания, которое должно обозначать риторическое явление сублимации, играет у Стерлигова иную, гротескную роль: надреальное состояние здесь ведет к одной последней свободе – свободе самоубийства.
В отличие от конструктивных задач дневника, задачей заумной блокадной поэзии является не перенос субъекта катастрофы в анестезированное пространство ирреальности, но воспроизведение воздействия ощущения блокадной ирреальности на процесс производства и разрушения языка и субъекта.
«ТЫ СХОДИШЬ С УМА! БЕРЕГИСЬ!»: БЛОКАДНОЕ БЕЗУМИЕ ПО ЗАКОНАМ СОЦРЕАЛИЗМА
Поскольку все ранее обсуждаемые здесь тексты категорически не предназначались для публикации в советской ситуации и для контакта с советской цензурой, возникает вопрос: возможна ли вообще была репрезентация оппозиций реальное/ирреальное и рациональное/иррациональное в официальных текстах о блокаде? Каким образом воздействие катастрофы на психику блокадника могло стать частью официального советского блокадного текста, по своему стилю не могущего не относиться к своду стилистических и идеологических требований соцреализма, где одним из главных сюжетов был рост сознательности, а не ее распад? Удивительным образом один из вариантов такой репрезентации мы видим в повести Ольги Матюшиной «Песнь о жизни» (1946). Матюшина, вдова одного из лидеров петербургского авангарда начала века Михаила Матюшина, на склоне лет пережила ряд разительных метаморфоз. Ослепнув в результате блокадного взрыва, она из художника стала писателем, причем писателем вполне официального толка. Можно предположить, что здесь не обошлось без влияния ее квартиранта блокадных лет Всеволода Вишневского.
Мы видим в ее «Песни о жизни» систему приемов, направленных на структурирование блокадного безумия как состояния, которое происходит с Другим. При этом нарратив Матюшиной нацелен на преодоление болезни «в рамках» соцреалистического нарратива. Как пишет в своем исследовании советской субъективности сталинского периода Йохен Хелльбек, сознательность провозглашалась тем механизмом, который отвечал за контроль над личностью, превращение ее в образцового подданного и сотрудника сталинского общества447447
Hellbeck J. Revolution on My Mind: Writing a Diary Under Stalin. Cambridge, 2009, 18.
[Закрыть]. В рамках этого подхода сознательность и ее травматическое искажение оказываются в любопытных отношениях диалога: «образцовый» блокадник наращивает и укрепляет свою сознательность методом наблюдения и сопереживания тому, кто погружается во внерациональное состояние. Сопротивление блокадному безумию становится социально и идеологически обусловленной доблестью.
Остранение своего Я, согласно недавним исследованиям, являлось критически важным механизмом психологического самосохранения во время блокады. Свидетели указывали на возникновение особенной, «дистрофической» личности с ее особой симптоматикой. Примечательный взгляд на эту проблему выражен, например, в дневнике архитектора Эсфири Левиной:
Люди потеряли свой характер <…> Фантазирую: жил человек, пережил войну, и дистрофия перестала быть модной. Человек должен погибнуть или найти свой характер. Он отправляется на поиски себя и вот при самых различных обстоятельствах находит куски своего «я»: свой пол, возраст, честь, мораль, свои привязанности и привычки; он собирает себя – получается нечто совершенно новое (перековка войной). Интересны обстоятельства, при которых терялись отдельные свойства, отдельные свойства могли так и не найтись – можно прийти к трагедии или полному обновлению448448
Левина Э.Г. Дневник // Человек в блокаде. Новые свидетельства. СПб., 2008, 167.
[Закрыть].
В своих работах Эмили Ван Баскирк занимается проблемой фрагментирования дистрофической личности на материале блокадного творчества Лидии Гинзбург, Алексис Пери на материале дневников Ольги Матюшиной и Елены Мухиной449449
Buskirk E.V. Recovering the Past for the Future: Guilt, Memory, and Lidiia Ginzburg’s Notes of a Blockade Person // Slavic Review. Vol. 69. 2009, 281–306; Peri A. The War Within // Diaries from the Siege of Leningrad. Cambridge, 2017.
[Закрыть]. Я, в свою очередь, в своих предыдущих занятиях рассматривала это явление на материале отношений блокадников со своей травматической телесностью, от которой одновременно необходимо и невозможно было отрешиться, при этом именно Другой часто оказывался индикатором состояния собственной личности. В своих уже процитированных блокадных воспоминаниях художник Валентин Курдов наблюдательно описывает эти попытки проанализировать свое состояние, «отражаясь» в Другом:
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































