Текст книги "Иррациональное в русской культуре. Сборник статей"
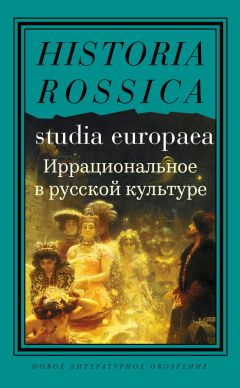
Автор книги: Коллектив авторов
Жанр: Зарубежная прикладная и научно-популярная литература, Зарубежная литература
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 15 страниц)
<…> палата при рассмотрении всех обстоятельств моего дела возымела подозрение о расстройстве умственных способностей моих, а господа Доктора Больницы Всех Скорбящих аттестовали меня человеком ограниченных умственных способностей (!!) (1, Л. 99 об.)
Это подозрение превратилось в достоверность чрез законное освидетельствование меня в С. Петербургском Губернском правлении, членами Физиката в присутствии Г. Гражданского Губернатора и Г. Дворянского Предводителя 3 ноября 1850 года. В следствие чего я признан был Законным образом безумным и отправлен 12 декабря 1850 года в Больницу Всех Скорбящих или Дом умалишенных, где и пробыл три месяца по 10 марта 1851 года (1, Л. 105).
То, что произошло с ним дальше, Квашнин-Самарин называет «выздоровлением», но для медиков и чиновников это изменение влекло за собой совершенно определенные последствия. Можно предположить, что по истечении трех месяцев состояние Квашнина-Самарина было вновь переквалифицировано и его отправили в тюрьму – теперь уже как безусловно виновного в совершенных преступлениях (на этот раз речь шла о подделке служебного аттестата).
Поскольку вся процедура переквалификации была непрозрачной, не сопровождалась повторным освидетельствованием и не документировалась, Квашнин-Самарин жаловался и протестовал: его подвергали тюремному наказанию как здорового, в то время как ранее определили как умалишенного и отправили в сумасшедший дом!
По выздоровлении моем по истечении сего срока меня надлежало бы освободить от суда и следствия на основании свода законов уголовных тома 15 статьи 148-й, в коей сказано:
«Преступление учиненное в безумии или сумасшествии не вменяется в вину, когда безумие или сумасшествие доказано будет с достоверностию и порядком для сего в Законах установленным».
<…> Следовательно, обстоятельство признания меня безумным, и заключения меня в продолжение трех месяцов в дом умалишенных вменяется мне ни во что и на статью 148 свода законов том 15 не обращено ни малейшего внимания (1, Л. 105–105 об.).
Конец всем этим «промежуточным» толкованиям должно было положить жесткое распоряжение наследника престола, Александра Николаевича, по-видимому, в 1853 году вместо отца решавшего некоторые дела государственного управления в связи с начавшейся Крымской войной. На одном из листов дела читаем: «Государь наследник цесаревич повелел: освидетельствовать и ежели окажется поврежденным в рассудке, то отправить в Архангельск без наказания; если же окажется в здравом рассудке, то за побег придать суду» (1, Л. 170). Но и эта инициатива не имела успеха, так как освидетельствование вновь не внесло в дело особенной ясности:
<…> по свидетельству, произведенному 9го сего октября в Общем присутствии Губернского Правления, оказался так же, как и по прежнему освидетельствованию, бывшему 19го января 1851 г., не подвержимым действительному сумасшествию, но только будучи от природы, как полагать должно, ограниченных умственных способностей, в многих случаях бывает странным и имеет о некоторых предметах, по ограниченности ума, превратные суждения и даже действия (1, Л. 186–186 об.).
Определение о «неподверженности сумасшествию», согласно распоряжению наследника, закономерно должно было повлечь за собой не ссылку, а уголовное наказание. Однако Санкт-Петербургский военный генерал-губернатор, основываясь на отрицательном результате освидетельствования, пришел все же к выводу о том, что Квашнина-Самарина следует отправить в ссылку как поврежденного в уме (1, Л. 196 об. – 197).
Помимо материалов, собранных в архиве III Отделения, мы располагаем еще двумя развернутыми характеристиками нашего героя – их дали племянница Квашнина-Самарина (дочь его сестры Анны) Софья Михайловна Мельгунова и ее муж – известный литератор и театрал Валериан Александрович Панаев. Оба эти свидетельства сохранились в мемуарах Валериана Панаева. Панаев женился на Софье Мельгуновой в 1850 году и только с этого времени свел знакомство с родственниками жены, в том числе и с ее экстравагантным дядюшкой. Его рассказы о личных впечатлениях от Квашнина-Самарина и о биографии нового родственника, относящиеся к периоду после 1850 года, находят массу подтверждений в материалах дела. Однако то, что рассказывается о событиях, произошедших до 1850 года, зачастую материалам противоречит – скорее всего, это пересказы семейного предания, лишь отдаленно фиксировавшего реальные исторические события и гиперболизировавшего некоторые детали215215
Так, например, Панаеву остались неизвестны ни арест и дело 1837 года, ни ссылка, к которой был тогда приговорен Квашнин-Самарин; мемуарист утверждает, что дядя его жены писал много сатир на высших государственных чиновников и приносил их лично героям своих сочинений, за что и поплатился ссылкой… в 1850 году! (Панаев В.А. Воспоминания В.А. Панаева // Русская старина. Т. 107. 1901, 311).
[Закрыть]. Не очень достоверным выглядит и короткий мемуар Софьи Мельгуновой-Панаевой. Далее мы будем еще не раз обращаться к этим источникам, однако здесь в связи с двойственным, неоднозначным характером медицинского диагноза Квашнина-Самарина приведем лишь одну цитату – она открывает панаевский рассказ о нем: «Человека этого нельзя было признать рехнувшимся, но он был оригинал и во всяком случае человек ненормальный. Несколько раз он подвергался официальному освидетельствованию докторов и однажды несколько месяцев сидел на испытании в правительственном доме душевнобольных; но доктора не признавали его помешанным»216216
Там же, 310.
[Закрыть].
Из дальнейших обращений Квашнина-Самарина в III Отделение мы узнаем, что его еще несколько раз помещали в больницы для умалишенных, однако ни разу на сколько-нибудь продолжительный срок. К середине 1870-х годов его письма выдают следы уже явного душевного расстройства, которое я, своим непрофессиональным взглядом, взялась бы определить как навязчивые страхи, больше всего напоминающие манию преследования. Об этом пишет и Валериан Панаев: «<…> надо признать, что в это время (1860-е годы. – М.М.) уже обнаруживался пункт некоторого помешательства, который он тщательно скрывал перед посторонними: это боязнь, что его постоянно преследуют, отчего глаза его блуждали, и вообще заметно было на лице выражение испуга»217217
Там же, 312.
[Закрыть]. Это свидетельство полностью подтверждается материалами дела, в котором содержится множество писем Квашнина-Самарина 1870-х – начала 1880-х годов, где он многократно упоминает о том, как его преследуют «враги его жулики».
Однако письма и показания Квашнина-Самарина 1830–1840-х и даже 1850-х годов не выдают никаких следов этого недуга и вряд ли могут быть расценены как однозначные свидетельства душевной болезни.
2
Было ли неоднократно использованное Бенкендорфом и чиновниками III Отделения и полицейских ведомств слово «слабоумие» строгим медицинским термином или просто оценочной характеристикой, указывавшей на слабую социальную адекватность и ограниченную вменяемость их подследственного?
Обратимся к медицинской и судебно-медицинской литературе той эпохи. В «Кратком изложении Судебной медицины для академического и практического употребления», опубликованном Сергеем Громовым в 1832 году (эта книга, очевидно, служила основным справочным пособием в судебной психиатрии 1830-х – начала 1840-х), слабоумие определяется как состояние, которое «предполагает несовершенство либо всех вообще душевных способностей, к[ак] т[о] представления, внимания, соображения, памяти, воображения, суждения <…> начинаясь от обыкновенной простаковатости <…> может оно простираться до совершенной тупости чувств и ума»218218
Панаев В.А. Воспоминания В.А. Панаева // Русская старина. Т. 107. 1901, 312.
[Закрыть].
Современная психиатрия различает слабоумие врожденное (олигофрению) и приобретенное (возникающее, например, вследствие органических поражений мозга, часто в старости, но иногда и в активном возрасте). Российская психиатрия и судебная медицина середины 1830-х, чей диагностический аппарат мог быть в общих чертах знаком Бенкендорфу и его сотрудникам, в конце 1837 года, когда выносились первые решения по делу Квашнина-Самарина, еще не знали этой дефиниции. Ее введет в 1838 году французский психиатр Жан-Этьен Доминик Эскироль в своей работе «О душевных болезнях»219219
М. Фуко показывает, что разработка проблемы градации уровней умственной отсталости началась в XVII веке и была связана прежде всего с юридическим определением правоспособности субъекта. Изучая этот вопрос, выдающийся итальянский врач, философ и поэт Паоло Дзаккиас (Zacchias) (1584–1659) предложил очень тонкие дефиниции, предвосхищающие работы французских психиатров XIX века. Однако на практике при решении вопроса об изоляции больного от общества в ту же самую эпоху использовались гораздо более расплывчатые и приблизительные определения (Фуко М. История безумия, 156–157).
[Закрыть].
Не только в 1837 году, но и много позже, когда приобретенное слабоумие стало предметом психиатрических дискуссий, никто из чиновников, определявших участь Квашнина-Самарина, так и не задал вопросов о том, какие причины и заболевания, кроме пресловутого «характера», могли привести их подопечного к «слабоумию». Не интересовались они и тем, прогрессирует ли это состояние, как оно может быть излечено или как можно приостановить его развитие. «Слабоумие», таким образом, выступает в их текстах скорее как «эссенциальная» характеристика, врожденное свойство, с которым ничего невозможно сделать – только «принимать во внимание»220220
В другой популярной психиатрической книге 1830-х о слабоумии сказано, что оно «по большей части почитается неизлечимым» (Проект устава для Санкт-Петербургского дома ума лишенных (ныне Больницы Всех Скорбящих), составленный лейб-медиком Рюлем. СПб., 1832, 19).
[Закрыть].
По сути, «слабоумие» под пером высокопоставленных чиновников 1830–1850-х представляет собой допустимый в бюрократических жанрах эвфемизм слова «дурак». Однако сам факт использования наукообразного, а не разговорного термина свидетельствует об их хотя бы и поверхностном знакомстве с психиатрической и судебно-медицинской терминологией. Даже будучи омонимом медицинского диагноза, этот термин должен был восприниматься в медицинском или судебно-медицинском контексте. В устах врачей, впервые освидетельствовавших Квашнина-Самарина в начале 1850-х, «слабоумие» превращается в констатацию «ограниченных умственных способностей» – этот диагноз несколько раз приводит нашего героя в клиники для душевнобольных.
Если медицинский контекст термина оказывал влияние на судьбу нашего героя, то его, несомненно, нужно прояснить и установить степень его влияния на принятые решения.
Диагноз «слабоумие» в судебной медицине той эпохи имел не вполне четкие правовые последствия. Психиатр С.А. Громов и другие его российские коллеги различали три степени слабоумия: «1) тупость <…> 2) глупость <…> и 3) совершенное безумие или бессмыслие <…>»221221
Проект устава для Санкт-Петербургского дома ума лишенных (ныне Больницы Всех Скорбящих), составленный лейб-медиком Рюлем. СПб., 1832, 243.
[Закрыть]. Люди, страдающие слабоумием первой степени, являются, по мнению Громова, дееспособными и «должны подлежать ответственности за учиненные ими противозаконные действия; могут равномерно пользоваться и правами, всякому гражданину предоставленными, то есть вступать в супружество, располагать имением своим, делать завещания и т.п.»222222
Там же, 246.
[Закрыть]. Однако само описание этого состояния мало похоже на те необычные черты характера и поведения Квашнина-Самарина, которые констатировались в материалах его дела:
<…> неспособность души обращать внимание свое вдруг на многие предметы и с надлежащею скоростию распознавать и различать оные. <…> при новых предметах и чрезвычайных встречах [подверженные тупости люди] легко приходят в замешательство, а иногда и совсем теряются. Бывают вообще застенчивы, упрямы и недоверчивы к другим; если же кто однажды успеет войти к ним в доверенность, тот может из них все делать, что захочет. Нередко забывают они время, место и те лица, с которыми они находятся, и забавным образом смешивают настоящее с прошедшим или будущим223223
Проект устава для Санкт-Петербургского дома ума лишенных (ныне Больницы Всех Скорбящих), составленный лейб-медиком Рюлем. СПб., 1832, 243.
[Закрыть].
Некоторое (впрочем, поверхностное) сходство с характеристиками и текстами Квашнина-Самарина можно обнаружить скорее в описании второй степени слабоумия, или глупости:
[Больные бывают. – М.М.] весьма набожны, боязливы и совершенно преданы тому, к кому имеют доверенность; в предприятиях своих медленны, нерешительны, либо напротив того скоры и опрометчивы; беспрестанно почти перебегают от одного предмета к другому, разговаривают с собою, даже и при посторонних; пристрастны к спиртным напиткам и другим сильным раздражениям; чувствительны к обидам, даже и там, где совсем оных нет; легко приходят в гнев, ярость и самое бешенство и проч. 224224
Там же, 244.
[Закрыть]
Фрагменты этого или какого-то похожего определения могли прийти на память Бенкендорфу и его сотрудникам при работе с делом отставного поручика. Однако диагностированная вторая степень слабоумия уже не предполагала дееспособности и влекла за собой лишь ограниченную ответственность за совершение уголовных преступлений225225
Там же, 246.
[Закрыть].
Можно предположить, что чиновники, знакомые с правоприменением по делам слабоумных, по-разному градуировали «диагноз» Квашнина-Самарина и, следовательно, применяли к нему разные дисциплинарные меры: в одних случаях более адекватной формой изоляции для него считали ссылку, а в других – заключение в клинику для душевнобольных.
Иначе говоря, в истории Квашнина-Самарина мы видим несколько иную ситуацию, не похожую на те, что анализирует Фуко. Согласно Фуко, «классическая эпоха [до начала XIX века. – М.М.] не стремилась установить строгие границы между безумием и заблуждением, между сумасшествием и злонамеренностью»226226
Фуко М. История безумия, 166.
[Закрыть]. Установление таких границ и медикализация психической болезни в XIX веке становится возможной только после завершения «классической эпохи». В случае Квашнина-Самарина, рассматривавшемся, согласно Фуко, уже в эпоху медикализации сумасшествия, российские чиновники не хотели брать на себя ответственность за определение того, насколько вменяем субъект, с которым они имеют дело. Этот отказ от ответственности вкупе с готовностью изолировать Квашнина-Самарина от общества вносит некоторые дополнительные штрихи в разработанную на европейском материале концепцию Фуко.
Другой важной особенностью медицинского контекста этой истории являются новые идеи и методы, пришедшие в российскую психиатрию к концу 1840-х годов под влиянием работ уже упомянутого французского психиатра Ж. Эскироля, его учителя Филиппа Пинеля и коллеги и последователя Шарля Кретьена Анри Марка. Обобщив опыт европейской психиатрии 1830-х – начала 1840-х, российский медик Алексей Назарьевич Пушкарев выпустил в 1848 году книгу «О душевных болезнях», в которой, вослед Эскиролю и Марку, предложил радикально новый взгляд на психические недуги, разделив их на 1) болезни воли, 2) болезни разума и 3) страсти227227
Пушкарев А.Н. О душевных болезнях в судебно-медицинском отношении. СПб., 1848, 74.
[Закрыть]. Из этой классификации, не ограничивавшейся «болезнями разума», вытекал и новый подход к процедуре освидетельствования – ее сочли недостаточной для того, чтобы определить подверженность/неподверженность обследуемого психическому заболеванию: «<…> одни правильные ответы на предложенные вопросы не составляют еще доказательства здорового состояния умственных способностей»228228
Там же, 38.
[Закрыть]. И теперь, чтобы принять адекватное решение по каждому из людей, подвергаемых освидетельствованию, «<…> для точного определения помешательства <…> необходимо не менее шести месяцев»229229
Там же, 63.
[Закрыть]. Таким образом, в психиатрическую практику входит процедура «испытания».
Наш герой был впервые подвергнут освидетельствованию в 1850 году, два года спустя после выхода книги Пушкарева. И хотя сам Квашнин-Самарин заявляет, что оказался в больнице, поскольку «был признан законным образом безумным», не исключено, что прав был его родственник Панаев, писавший о том, как дядя его жены «однажды несколько месяцев сидел на испытании в правительственном доме душевно-больных; но доктора не признали его помешанным»230230
Панаев В.А. Воспоминания, 311.
[Закрыть]. Следовательно, можно предположить и другое объяснение странной последовательности его ссылок, тюремных заключений и инкарцераций – оно будет связано с наметившимся в конце 1840-х изменением подхода к выявлению душевных болезней.
Помимо этих двух гипотез, можно предложить и третий путь описания взаимоотношений нашего героя с дисциплинарными инстанциями. Не могло ли то, что наводило чиновников из разных ведомств и губерний на мысль о слабоумии и неустойчивости характера Квашнина-Самарина, быть специфической чертой его социального поведения? Можно ли увидеть в его поступках, вне зависимости от наличия/отсутствия у него психического заболевания, нечто вроде социального невроза? Не поэтому ли его поведение большинству наблюдателей казалось аномальным, в то время как медицинское освидетельствование не фиксировало психической патологии?
Для этого нам понадобится выйти за рамки истории психиатрии и обратиться к проблематике социального поведения.
3
Сразу же после первого ареста нашего героя (1837) дознаватели III Отделения обратили внимание на то, что для человека столь невысокого социального положения и достатка Квашнин-Самарин слишком часто отправлялся в путешествия, а еще чаще планировал их. По этому поводу ему даже пришлось давать отдельные письменные объяснения (1, Л. 3 об. – 4). Характерно, что экстракт его показаний по этому вопросу А.Х. Бенкендорф счел нужным включить в представление этого дела государю231231
«В 1836 году ездил за границу (единственно по любопытству, как он показывает), был несколько дней в Париже, все путешествие его продолжалось 34 дня, ибо он, отбыв отсюда на пароходе 16го июля, возвратился 19го августа. После того, по охоте своей к путешествиям, хотя и располагал съездить в Архангельск, а другой раз в Дерпт, но никоторой из сих поездок не совершил по встретившимся препятствиям. Ни в Архангельске, ни в Дерпте знакомых не имеет» (Высочайший доклад… Л. 11 об.).
[Закрыть]: любовь к путешествиям выглядела как настораживающий и даже опасный симптом.
Эти показания интересно подсвечиваются не во всем достоверными воспоминаниями Софьи Мельгуновой-Панаевой – эти воспоминания, очевидно, основаны на рассказах третьих лиц:
Второй мой дядя, Александр Александрович, в юных годах подавал много надежд, учился превосходно и мечтал сделаться вторым Суворовым, но, поступив в Артиллерийское училище, он совершенно опешил. Избалованный мальчик, выросший на деревенском просторе, он скучал и томился в тесном школьном мире до того, что убежал из училища; молодца скоро поймали и опять водворили в школу, где с грехом пополам он кончил курс и вышел в офицеры. Как только его выделили, так он сейчас же вышел в отставку и начал чудить. Ему досталась, между прочим, великолепная усадьба, в которой всегда прежде жила его семья и всё было устроено на славу. Дом с флигелями и службами, сады, оранжереи, парк, называемый, в честь бабушки, Екатеринвальдом, – всё было роскошно. Дом внутри был богато убран и полон дорогими вещами, собранными поколениями: картины, мозаика, мебель, фарфор.
Взойдя во владение, А.А. сейчас же продал это имение, которое теперь ценится во сто тысяч рублей серебром, за пятнадцать тысяч ассигнациями. Книги из богатейшей библиотеки он выбросил во двор, где дворовые крестьянские ребятишки растащили их. Смеясь, он резал ножом картины, чтобы они не достались Рыжкову (так была фамилия покупателя имения). Фарфор разбивал, бросая с балкона, и, наконец, совершив всё это, он уехал за границу. Доехал он до Парижа с комфортом; прожив там все свои денежки, он пустился обратно, на родину, уже пешком. Тогда не было железных дорог, а сообщение в дилижансах было довольно дорого. Пройдя всю Германию с котомкой на спине, туристом, он на родине поселился в своем небольшом еще Крестецком имении232232
Панаев В.А. Воспоминания, 304–305.
[Закрыть].
Понятно, что за месяц пребывания за границей (ссылаясь на отметки в заграничном паспорте, Квашнин-Самарин показывал, что все путешествие продолжалось с 16 июля по 19 августа 1836 года) вряд ли можно было прожить столь значительное наследство; да и обернуться за это время из Петербурга в Париж, совершив обратный путь пешком, тоже невозможно. Поэтому и к рассказанному здесь эпизоду продажи имения нужно относиться с большой осторожностью – скорее всего, само это событие имело место, однако ценность имения и характер обращения с семейными ценностями могли быть преувеличены мемуаристкой. Как бы то ни было, рассказ Панаевой выдает все те же знакомые нам черты: странность и чудаковатость, природную одаренность, неспособность долго находиться на одном месте – особенно если это результат не добровольного выбора, а предписания. Возможно, что известия о том, как Квашнин-Самарин обошелся со своим имением, в той или иной форме дошли во время проведения следствия и до III Отделения и повлияли на решения, принятые по этому делу.
Хотя подозрения в том, что Квашнин-Самарин мог ездить за границу или по городам губернии для того, чтобы встречаться с другими «крамольниками» или распространять «крамолу», явно не оправдались, сам факт внимания к его перемещениям, накануне ареста совершенным, свидетельствует о том, что в сознании дознавателей такого рода активность плохо согласовывалась с привычным (воспользуюсь тут терминологией Пьера Бурдье) габитусом живущего случайными заработками отставного офицера младших чинов. Как ни странно, интуиция эта была верной: именно склонность Самарина постоянно менять место жительства стала главной трудностью для надзирающих инстанций в последующие 20 лет их работы с этим странным ссыльным.
Поясню, как в 1830-е годы обычно осуществлялась ссылка и – в ряде случаев – возвращение III Отделением лиц, попавших в опалу из-за политической неблагонадежности или неблаговидных поступков (шулерства, использования поддельных векселей, «развратного образа жизни» и т.д.). Во-первых, по большинству этих дел не проводилось ни досудебного расследования, ни собственно суда. Более того, доказательная база зачастую была односторонней и малосостоятельной. Однако суждение Бенкендорфа, а затем и ракурс, в котором дело представлялось в докладе императору, оказывались важнее, чем наличие или отсутствие твердых доказательств: высочайшим повелением, которое передавалось обычно и в Министерство внутренних дел, и начальникам соответствующих губерний, лиц, признанных III Отделением виновными, ссылали: кого-то из столиц – в окрестные губернии, кого-то – в северные, кого-то – в сибирские. Возможность смягчения наказания и длительность и дальность ссылки напрямую зависели от тяжести преступления, но в целом сценарий обычно предполагал вступление в службу по месту ссылки, похвальный отзыв местных начальников, прошение о переводе в более «цивилизованное» место (как правило, в связи с необходимостью получать консультации от опытных врачей) или сразу в столицу. Все эти прошения и перемещения занимали иногда три года, иногда – пять, но верховная власть редко была неколебимой в отстаивании первоначального наказания.
Иными словами, Квашнин-Самарин, послужи он в Новгородской губернии два-три года без нареканий и конфликтов, имел все шансы вернуться в Петербург или в крайнем случае в Москву уже к концу 1840 – началу 1841 года. Однако он как будто бы сознательно пресекал подобное развитие событий. Можно предположить, что чиновников совершенно обескураживал такой тип реакции на ссылку, которая при спокойствии и благонамеренности подвергнутого ей субъекта в течение года-двух могла счастливо для него завершиться, но в результате оборачивалась новыми расследованиями, тюремными заключениями и высылками. Вести себя так, с их точки зрения, мог только «слабоумный» человек233233
Отмечу, что слово «слабоумный» впервые появляется в деле Квашнина-Самарина до его первого побега, и поэтому нельзя исключать, что какие-то другие, более «объективные» факторы его облика и поведения могли подсказывать чиновникам именно такую характеристику, однако и первоисточник его дела – передача на прочтение «политического» стихотворения несамостоятельной, находившейся под контролем родителей девице – тоже выглядел как сознательное провоцирование репрессивных мер, которое, с точки зрения следователей, вряд ли могло быть вызвано чем-то иным, кроме слабоумия.
[Закрыть].
Вся цепочка побегов-выдворений, которую отразили страницы дела Квашнина-Самарина, выдает и крайнюю неповоротливость государственной машины: местные чиновники всякий раз не могут заранее предположить, что человек, высланный в их губернию под надзор, будет сознательно ухудшать свое положение побегом и обрекать себя на тюремное заключение или унизительное заточение в больнице, – и не устанавливают за ним постоянного наблюдения. Только после третьего его побега, в 1850 году, информация о том, что ссыльный Квашнин-Самарин покинул определенное ему место проживания, впервые достигла Петербурга раньше, чем он успел сам наведаться в полицейское или жандармское присутствие: во всех предыдущих случаях последовательность была обратной.
За побегами Квашнина-Самарина из мест ссылки, как правило, не следовало никаких розыскных мер и возвращения его в предписанные высочайшими указами губернии. Тюремные заключения или помещение в дома умалишенных тоже происходили только после того, как наш герой сам объявлялся в тех или иных присутственных местах – лично или посредством письма-прошения. Из его пояснительной записки можно узнать, что свое первое место ссылки, Боровичи Новгородской губернии, он покинул всего два месяца спустя после выдворения из столицы и пробыл после этого в Петербурге более года, пока не обратился к Санкт-Петербургскому военному губернатору Петру Кирилловичу Эссену с прошением об определении в службу.
Точно такой же, только значительно более длительный эпизод последовал в 1839–1841 годах: сперва Квашнин-Самарин вступил в службу в Новгородской губернии, затем без санкции властей переехал в Вильну и вступил в службу там, а потом, в 1841 году, вернулся в Петербург, где спокойно прожил буквально под носом у III Отделения вплоть до конца 1848 года, пока вновь не решил поправить собственное материальное положение и обратиться с ходатайством к графу Орлову – и был оскорблен в самых лучших чувствах, когда за этим обращением последовали новый арест и ссылка. Ведь, как сам он выразился в очередной своей жалобе, «хотя он в продолжение этого времени написал несколько сот рукописей разного рода (из коих три романса напечатаны) но по странному превращению обстоятельств не только не был взят III Отделением, но и не ощутил никакого в занятиях своих препятствия!!!!???» (1, Л. 50). На эти многочисленные вопросительные и восклицательные знаки III Отделению было нечего ответить: оно не могло ни подтвердить, ни опровергнуть рассказа о службе в Вильне и переезде в Петербург, ибо не располагало на сей счет никакими сведениями (1, Л. 54).
Квашнин-Самарин был твердо убежден в том, что все наказания, которые он претерпел после своего письма к графу Орлову 1848 года, последовали только за то, что он осмелился обратиться к главе III Отделения с просьбой о денежном вспомоществовании, а отнюдь не за давний побег из ссылки. За этим убеждением стояла простая логика: если за семь с половиной лет жизни в столице полицейские инстанции ни разу не обратили на него внимания и могли бы не замечать его в течение еще многих лет, то предшествовавший этому побег из ссылки не является преступлением – он не повлек за собой затруднений ни в делопроизводстве соответствующих ведомств, ни в жизни столицы, в которой отставной подпоручик поселился после побега. Были ли эти убеждения следствием умственной ограниченности, самовнушения или сознательного искажения сути дела, сказать сложно, но в них можно увидеть известную последовательность.
Каждый следующий эпизод побега Квашнина-Самарина все более настойчиво приводит к мысли о том, что эти поступки были для него своего рода «симметричными ответами» на сам факт ссылки без приговора суда и без развернутых мотиваций. История следующего побега, произошедшего уже в 1849 году, полностью подтверждает это предположение. Рассказывая о том, каким образом их подопечный вновь оказался без разрешения в Петербурге, чиновники III Отделения оказываются вынуждены описывать его мотивацию:
<…> Самарин, вспомнив все несправедливые с ним поступки высшего начальства, решился, в подражание оному, сделать подобное же нарушение законов, и, списав на гербовой бумаге копию с подлинного своего аттестата и приложив вырезанную им же, Самариным, печать <…> прибыл в С. Петербург в Благовещение, но на Страстной неделе был арестован полициею и потом отправлен к Следственному приставу 3й Адмиралтейской части, а оттуда в какой-то тесный душный подвал; что здесь он, Самарин, сделался болен и его перевели в лазарет; видя же, что его хотят уморить, он ушел из лазарета в первый день Пасхи, 3го апреля, в два часа пополудни, и беспрепятственно достиг до Валдая (1, Л. 88).
Только после побега из орловской ссылки в 1853 году Квашнин-Самарин был впервые принужден письменно ответить на вопрос о причинах его поступка, и материалы дела передают нам следующий его ответ: «<…> тамошнее начальство по чрезвычайной своей мнительности (а может быть и по не совсем чистой совести) возненавидело меня, почитая тайным наблюдателем их поступков, а потому явным образом выживало меня из г. Орла» (1, Л. 165).
Идея несправедливо понесенного наказания, усугубившаяся неопределенностью с квалификацией его то ли как душевнобольного, то ли как здорового, укрепила Квашнина-Самарина в мысли, что III Отделение несет полную ответственность за все беды и мучения, которые ему довелось пережить, и уже в 1853 году он начинает настоятельно требовать денежной компенсации за перенесенные страдания (1, Л. 130–131).
В 1860-е годы III Отделение приняло эту аргументацию, положив начало более чем двадцатилетней «социальной помощи» своему подопечному.
4
Один из самых интересных аспектов дела Квашнина-Самарина – его литературное и переводческое ремесло. Хотя этот человек является автором более чем десятка опубликованных брошюрок с разного рода стихотворными сочинениями, он не удостоился отдельной статьи в соответствующем томе словаря «Русские писатели 1800–1917» – очевидно, в силу низкого художественного уровня этих текстов. Однако если сфокусироваться не на роли «беглого стихотворца» в литературном процессе 1830–1870-х годов, а на том, как он систематически пытался эксплуатировать и обратить себе на пользу социальные и политические функции литературы, историко-литературный анализ его сочинений (включая и его письма в III Отделение) может оказаться вовсе даже небесполезным.
Начать следует с самого первого известного нам текста – того самого стихотворения, которое послужило «спусковым крючком» всей этой длинной истории. Несмотря на многочисленные заверения автора в том, что он написал «глупость», «пародию», которой не следует предавать большого значения, острый политический месседж этого текста останавливает на себе внимание любого читателя. Квашнин-Самарин фактически утверждает, что российская армия 1830-х годов слаба и деморализована, не может выдержать не только сравнения, но и малейшего столкновения с армиями европейских стран и одерживает победы только над малопрофессиональными азиатскими армиями. Причиной этого состояния он полагает оскуднение патриотических чувств и «продажу» народа на рынке: слова о немецкой аптеке должны навести читателя на мысль, что инициаторами этой продажи стали инородные силы.
Чиновник III Отделения не случайно сразу же включил в дело выписку из веденного Квашниным-Самариным в его парижском путешествии дневника – он увидел в нем явные параллели с идеями «предосудительного» стихотворения:
Пришед в Канцелярию думал найти там Русских и поговорить по Русски; но увы! все чиновники Канцелярии Иностранцы; кажется, французы, и Секретарь Шпис тоже; – Срам! – Горе! да и только. – Ах Русаки, Русаки, что с Вами делают? Боже мой Боже. Русской пришел в свое посольство предъявить Русскому Посланнику свой паспорт; его принимают французы; печать с орлом Российским в руках какого-нибудь Mr Spies, или Mr Firmiu, срам, поношение Русскому имени (1, Л. 10–10 об.).
Стихотворение, таким образом, однозначно толковалось как свидетельство «антинемецких» настроений его автора. Из работ О.А. Проскурина мы знаем, что III Отделение очень пристально следило за распространением этих настроений в среде московского и петербургского дворянства и опасалось их едва ли не сильнее, чем роста революционных или антимонархических идей234234
Проскурин О.А. Незадачливый наследник: Как Александр Пушкин помог Михаилу Дмитриеву написать донос в стихах и что из этого вышло // Литературные скандалы пушкинской эпохи. М., 2000, 302–360.
[Закрыть], прежде всего потому, что объектами неприязни и критики в этом случае становились так называемые русские немцы – немецкие и остзейские дворяне, предки которых некогда вступили в русскую службу. К числу «русских немцев» принадлежали и шеф III Отделения А.Х. Бенкендорф, и его непосредственные подчиненные К. фон Фок и А. Дубельт, и близкие родственники Бенкендорфа – семья Ливен.
Хотя существование «немецкой партии», равно как и существование их оппонентов – «русской партии», до сих пор подвергается сомнению235235
См. рецензии на работу О.А. Проскурина: Панов С. Скандалисты и новаторы. Рец. на кн.: Проскурин О. Литературные скандалы пушкинской эпохи. М., 2000 // Новое литературное обозрение. № 47, 2001, 365–377; Рейтблат А.И. Видимо (постскриптум к рецензии Сергея Панова) // Новое литературное обозрение. № 47. 2000, 377–379.
[Закрыть], можно констатировать, что сами эти конструкты, родившиеся в умах, с одной стороны, национальных дворянских элит, а с другой – высокопоставленных чиновников иностранного происхождения, были важной частью социальной реальности. Иными словами, нам не так важно, действительно ли существовали «русская» и «немецкая» партии, важнее, что в тех или иных социальных и политических феноменах противоборствующие стороны были готовы увидеть вмешательство одной из этих партий. Квашнина-Самарина, несомненно, сочли адептом «русской партии» – этим и объясняется активность и расторопность доносителя и следователей, работавших по представленному им доносу.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































