Текст книги "Иррациональное в русской культуре. Сборник статей"
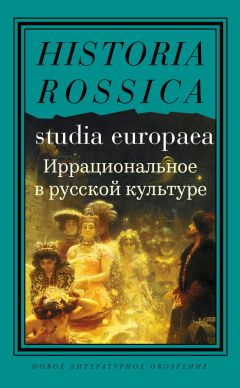
Автор книги: Коллектив авторов
Жанр: Зарубежная прикладная и научно-популярная литература, Зарубежная литература
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 15 страниц)
Другой важный аспект крамольного стихотворения – проведенная в нем пунктиром тема посрамленной славы русского оружия, противопоставление современного состояния страны и армии «былой России», а главное, «былой армии» («Того орла, что на знамена / Российской кровию облит. – / Который в тысячи сраженьях / Штыками пулями пробит»). Более отчетливо эта тема звучит в скопированном в дело (вновь, конечно, не случайно!) фрагменте самаринского дневника, рассказывающем о впечатлениях его заграничного путешествия: «Наполеоновских гренадеров усатых и молодцов вовсе не видать, мелочь и годные только в стрелки и егеря. Вообще для французов прошло время воевать; оборонять свою землю могут, но наполеоновских походов им уже не видать как ушей своих» (1, Л. 9 об.).
Ближайшая литературная параллель этих строк – хрестоматийное «Да, были люди в наше время / Не то, что нынешнее племя <…>». Лермонтовское «Бородино» было написано буквально в те же месяцы, что и «Песня» Квашнина-Самарина, – стихотворение Лермонтова напечатали в шестом томе «Современника» за 1837 год. Совпадение это не случайно. В 1837 году исполнялось 25 лет событиям войны 1812 года: вспоминая о них, и Квашнин-Самарин, и Лермонтов – оба военные (хотя Квашнин-Самарин уже пять лет как в отставке!) – безоговорочно отдавали предпочтение старому, «могучему и лихому» войску, «русской» идее и «александровской старине».
Читая корявое, местами даже откровенно безграмотное стихотворение Квашнина-Самарина, нельзя не отдать справедливости его социальной проницательности: диагноз, который он поставил в начале 1837 года русской армии, полностью оправдался в период Крымской войны. Это странное сочетание литературного дилетантизма, если не сказать графомании, с чутким социальным и идеологическим слухом – первый из симптомов, указывающих на сложный, с трудом поддающийся аналитическому описанию феномен литературного сознания нашего героя.
Другая особенность, обращающая на себя внимание исследователя, проявилась не в литературных сочинениях, а в письмах и жалобах, которые Квашнин-Самарин регулярно отправлял в III Отделение. Эти тексты не просто намеренно олитературены – они олитературены утрированно, почти пародически. Цель, с которой такого рода описания вводятся в прагматические, деловые, по сути, бумаги, тоже вполне очевидна: подчеркнуть бедственность собственного положения и показать исключительность пережитых испытаний.
Анализируя феномен наивного авторства, Н. Козлова и И. Сандомирская проницательно указали на то, что само письмо является «социальной технологией власти», в рамках которой «правильно пишущий» становится хозяином, а пишущий «неправильно» – рабом. Замечания исследовательниц можно, кажется, в полной мере отнести и к Квашнину-Самарину:
И правила письма, и «слова», которыми человек пишет, не им заданы. Письмо «маленького человека» – всегда языковая игра на чужом поле. Человек этот – не историческое извращение, не монстр, каким он кажется порой производителю нормы. Но он не действует в истории как автономный субъект, и это как раз то его свойство, которое так не нравится политикам и интеллектуалам. Описывать его – рассуждать об «интенциональности без субъектности» (М. Фуко), о несубъектной рациональности236236
Козлова Н., Сандомирская И. «Я так хочу назвать кино…»: «Наивное письмо»: опыт лингво-социологического чтения. М., 1996, 47–48.
[Закрыть].
Применительно к текстам Квашнина-Самарина я бы предложила говорить все-таки не о полном отсутствии субъектности, но скорее об особом типе субъектности, в котором пишущий воспринимает сам процесс письма как неотъемлемое свойство собственной личности, не мыслит жизни без письменной коммуникации любого рода, будь то жалобы, письма, переводы или оригинальные литературные сочинения. Иногда ему с трудом удается нащупать даже не собственный стиль, но лишь оригинальный угол зрения на изображаемые объекты, и затем эти находки надолго теряются под чужими стилистическими масками.
Приведу в пример лишь несколько из сотен фрагментов писем Квашнина-Самарина, в которых он пытается играть по «чужим правилам» на «чужом поле» – в меру имеющихся у него языковых и образных ресурсов:
Не получив же на то милостивого разрешения Вашего Сиятельства, и не имея, по вышеизложенным причинам возможности вступить в военную службу, должен я буду погибнуть в позорном бездействии (июнь 1839, 1, Л. 25–25 об.);
Умоляю Ваше Сиятельство, не отказать мне в сей просьбе моей, и не придавать меня в жертву злополучной моей участи, в коей я неминуемо должен буду остаться ежели не определюсь к просимой мною должности (декабрь 1839, 1, Л. 37);
<…> между тем как один я, забыт, оставлен без внимания, и предан горькой моей участи <…> (л. 44);
<…> дошел до крайней степени нищеты и Бэдности <…> и ведя притом самую безприютную и кочующую жизнь <…> (1848, 1, Л. 48 об.);
<…> сей несправедливо преследуемый судьбою чиновник Самарин был формально III Отделением прощен и помилован (!!??) (1, Л. 49 об.).
Некоторые особенно часто используемые Квашниным-Самариным формулы производят впечатление намеренной эксплуатации им новой и достаточно злободневной для литературы второй половины 1830-х годов темы «маленького человека». Идентифицировавший себя как «человек письма», промышлявший переводами и литературной поденщиной, Квашнин-Самарин должен был оперативно знакомиться с литературными новинками той эпохи – возможно, даже тогда, когда находился в ссылке. Напомню, что гоголевские «Шинель» и «Записки сумасшедшего» были опубликованы в 1835 и 1842 годах соответственно, а «Медный всадник» (пусть и не полностью) – в год первого ареста Квашнина-Самарина (1837)237237
Мы точно знаем, что в 1835 и 1842 годах Квашнин-Самарин жил в Петербурге.
[Закрыть].
Язык, которым говорит «маленький человек» Квашнина-Самарина в текстах жалоб в III Отделение, очень мало похож на гоголевские описания Акакия Акакиевича или даже на дневниковые записи Поприщина. Скорее это язык массовой беллетристики, идущей вослед сентименталистской традиции. В параллель письмам Квашнина-Самарина можно поставить разве что переписку двух собачек из «Записок сумасшедшего»: то, что для Гоголя было объектом умелой пародии, для нашего героя составляло неотъемлемую черту авторского стиля – во всяком случае, стиля тех его сочинений, которые адресовались власть имущим и призваны были смягчить его участь.
Простите, с свойственным всем Высоким Особам великодушием что столь ничтожный человек, как я осмеливается беспокоить Ваше Сиятельство нижеследующею всепокорнейшею просьбою (1, Л. 17, 1838);
Осмеливаюсь подкрепить мою просьбу еще тем, что я кроме случайного сочинения выше означенных стихов никаких предосудительных поступков не только в С. Петербурге, но нигде не делал, вел и веду, тихую и уединенную жизнь и столь малый и ничтожный человек, что вовсе незаслуживаю даже и того чтобы начальство считало меня вредным, и опасным (1, Л. 18).
Лишь единственный раз стилизация Квашнина-Самарина явно восходит к гоголевскому источнику: «Сделайте милость, Ваше превосходительство, соблаговолите удостоить меня Вашим покровительством. За чем меня срамят так и угнетают? Какое преступление я сделал?» (декабрь 1848, 1, Л. 75 об., под этим письмом стоит характерная подпись: «Злополучный узник»)238238
Ср. в последних абзацах «Записок сумасшедшего»: «Они не внемлют, не видят, не слушают меня. Что я сделал им? За что они мучат меня? Чего хотят они от меня, бедного? Что могу дать я им? Я ничего не имею. Я не в силах, я не могу вынести всех мук их…» (цит. по изд.: Гоголь Н.В. Записки сумасшедшего // Полное собрание сочинений: [В 14 т.] Т. 3. Повести / Ред. В.Л. Комарович. М.; Л., 1938, 214).
[Закрыть].
В остальном же и на уровне лексики, и на уровне концептов, к которым апеллирует Квашнин-Самарин, его «литературные жалобы» очень архаичны и порой напоминают пародии на монологи героев классицистических трагедий. На самом деле, конечно, их непосредственными источниками являются произведения массовой беллетристики начала XIX века – любовные, «готические», авантюрные романы и повести:
Злополучная судьба моя, подвергнувшая меня совершенно безвинно четырех недельному Тюремному Заключению и нестерпимым от оного душевным и физическим страданиям, угрожающим мне совершенным разрушением бренного состава моего, вынуждает меня вторично обратиться к Вашему Сиятельству как к первейшему образцу Правосудия и Милосердия во всей Российской Империи (1849, 1, Л. 78);
<…> не заслуживаю нисколько быть выгнану как изверг и негодяй из Столицы или содержаться как злодей и преступник в душной и мрачной темнице убивающей меня совершенно!!! (1849, 1, Л. 79 об.).
Если в стихах Квашнина-Самарина наиболее ярко проступает сочетание дилетантизма и точной социальной диагностики, то в литературных фрагментах его жалоб – намеренная архаизация и романизация стиля при обращении к отнюдь не старинной, а, наоборот, «горячей» литературной теме «маленького человека».
Третья интересная черта литературного творчества Квашнина-Самарина проявилась в художественных текстах, которые он публиковал и посылал в III Отделение по возвращении из своих многочисленных ссылок, то есть со второй половины 1850-х годов, а преимущественно – в 1860–1870-е. Литературное качество этих произведений едва ли не ниже, чем «Песни» 1837 года. По большей части все эти стихи – консервативно-патриотического толка, целят в либеральных и революционно-демократических публицистов и рассчитаны на одобрение и поощрение со стороны III Отделения. Они не заслуживали бы отдельного разговора, если бы не два примечательных обстоятельства.
В продолжение двадцати семи лет, последовавших с момента первого ареста до снятия полицейского надзора (1837–1864), III Отделение, специально не ставя перед собой такой цели, совершенно убедило Квашнина-Самарина в исключительном политическом и идейном значении его литературного творчества.
Попробую реконструировать логику, стоявшую за этим его убеждением: если одно «непатриотическое» стихотворение могло вызвать такую нескончаемую цепь репрессивных санкций, то сколь многими поощрениями способна одарить благонамеренного поэта та же самая организация за каждый «патриотический» и особенно направленный против оппонентов правительства текст! Ожидая, что государственная машина, столь строго преследовавшая его за неблагонамеренное стихотворение, при знакомстве с сочинениями противоположного толка развернется на 180 градусов, Квашнин-Самарин буквально осаждал канцелярию III Отделения своими многочисленными опусами. Однако ни одно из его «патриотических» и «антиреволюционных» стихотворений так и не было одобрено к публикации..
Второе обстоятельство связано с тем, что, выступая против демократов и «поджигателей», Квашнин-Самарин без устали говорит об их «разбойничестве», «воровстве», пьянстве и разврате, но больше всего – о том, что люди, исповедующие революционно-демократическую, нигилистическую или даже либеральную идеологию, – клинические безумцы. Без малейшего сомнения он называет своих политических оппонентов сумасшедшими, придавая термину «сумасшествие» одновременно клинический и политический статус. Метафора сумасшествия разворачивается и буквализируется на глазах у читателей – и вот уже бунтарям, революционерам и нигилистам (например, студентам, вышедшим 6 декабря 1876 года на демонстрацию перед Казанским собором, Н.Г. Чернышевскому, Вере Засулич) предсказывается та же участь, которая в свое время постигла самого Квашнина-Самарина, – освидетельствование и заключение в дом умалишенных!
В одном из писем 1878 года Квашнин-Самарин подробно объяснил, почему следует объявить революционных демократов сумасшедшими и почему эта идея так для него принципиальна.
Гедель и Нобилинг, точно, или Сумасшедшие или Агенты Французов, и Вера Засулич, точно, или Сумасшедшая, или Агент наемный тайного общества Столичных мошенников. Это верно! Как дважды два четыре! – Свидетельствовавшие Засулич доктора, медики не признали ли ее страдающею Расстройством умственных способностей! У французов это всегда делается так в случае без причинного, бессмысленного убийства. Медики свидетельствуют Арестованного, подсудимого, и если признают его сумасшедшим, то избавляют от законного наказания, от смертной казни Гильотиною! Но <…> отправляют!… Куда? Да в больницу умалишенных, для содержания там в заперти, под крепким караулом! – не выпускать сумасшедшего никуда! Все это описано очень хорошо в находящейся у меня французской книге «De la Folie, considerée dans ses Rapports avec les Questions Mecico-Judicaires par C.C.H. Marc, premier Medecin du Roi. Paris, 1840», которую я советую прочесть со вниманием, членам нашего С.П. окружного суда, и Г. присяжным! <…>
Зачем вы не приказали при себе и у себя в Штабе, освидетельствовать Веру Засулич, в состоянии умственных ее способностей Господам Медикам? – Может быть она точно Сумасшедшая? В таком случае, ее следует отправить в больницу Всех Скорбящих Для Умалишенных! Туда! За Нарвскую заставу, и держать там в заперти, как безумную Дуру! И не за Границу гулять, в Женеву!..
Меня, совершенно разумного, здорового, и невинного, жулики запирали обманом в Больницу всех скорбящих в 1852 году и в 1860 году. Я ничего худого не сделал и не стрелял в Генералов. Я никогда не забуду этого и буду мстить врагам моим жуликам! И стоит мстить! (2, Л. 149, 155).
Попробуем восстановить контекст высказываний Квашнина-Самарина, прокомментировав упомянутые в этом письме исторические реалии. Эмиль Макс Гедель – прусский рабочий, совершивший 11 мая 1878 года неудачное покушение на короля Вильгельма I, но случайно застреливший при этом прохожего. Гедель был признан судом виновным и казнен 16 августа 1876 года. Карл Эдуард Нобилинг – прусский доктор, буквально через три недели после Геделя также совершивший неудачное покушение на кайзера, хотя на этот раз Вильгельм I все-таки пострадал и был легко ранен. Поняв, что попытка не принесла успеха, Нобилинг застрелился на месте преступления. Оба покушения дали основание канцлеру Германии Отто фон Бисмарку провести в 1878–1881 годах серию жестких законов против социалистических партий и группировок.
Имя Веры Засулич хорошо известно даже по школьному курсу российской истории, однако стоит напомнить, что ее покушение на петербургского градоначальника Ф.Ф. Трепова произошло в том же 1878 году (но чуть раньше, в феврале). Суд присяжных, в который было передано дело Засулич, полностью оправдал ее, и она была освобождена прямо в зале суда. Когда на следующий день приговор был опротестован и Засулич объявлена в розыск, она уже успела скрыться и бежать за границу – в Швецию, а потом в Швейцарию.
Хронологическая близость прусских и российских покушений на высших лиц государства дополнялась еще одной странной рифмой: Трепов, по распространенным в обществе слухам, был незаконнорожденным сыном прусского кайзера Вильгельма.
Комментария заслуживает также французская книга, упомянутая в письме Квашнина-Самарина. Это объемный труд французского психиатра Марка, посвященный навязчивым идеям, или мономаниям (в России 1840-х этот термин переводили как «однопредметное умопомешательство»). Это тот самый Шарль Кретьен Анри Марк и та самая книга, к которым неоднократно обращался на страницах своей работы Алексей Назарьевич Пушкарев, внедрявший в России концепцию «болезней воли» и практику долговременного испытания для постановки или отрицания психиатрических диагнозов.
Круг замкнулся – Квашнин-Самарин оказался внимательным читателем тех самых работ, появление которых оказало некогда влияние на его собственную участь. Когда именно изданная в 1840 году книга доктора Марка попала в руки к Квашнину-Самарину, где и как была куплена, кем подарена, мы уже вряд ли узнаем, однако несомненно, что интерес к теоретическим и практическим вопросам психиатрии возник у Квашнина-Самарина в связи с его собственными злоключениями, и в книге Марка он наверняка искал или изложения причин собственной инкарцерации, или обоснований ее несправедливости.
Квашнин-Самарин приложил к своему письму в III Отделение несколько страниц специально для сведения корреспондентов, вырезанных из книги Марка, и они сохранились в материалах дела (2, Л. 150–154 об., начало главы «De la monomanie homicide»). Он пожертвовал целостностью собственного экземпляра книги для того, чтобы «просветить» тех, кому, по его мнению, был поручен надзор за политическим и общественным благополучием. Как и многие другие проекты и предложения Квашнина-Самарина, сделанная им «психиатрическая экспертиза» не удостоилась внимания адресатов и была без дополнительного рассмотрения подшита к делу.
5
За строками письма Квашнина-Самарина читается глубокая обида, если не озлобление на тех, кто подверг его ссылкам и заключениям в психиатрические лечебницы, притом что он, в отличие от Засулич, «не стрелял в Генералов». В больнице Всех Скорбящих он находился не только в 1852-м и 1860-м, но, согласно материалам дела, также и в 1850 году. Судя по частоте упоминания этой лечебницы в его письмах и литературных сочинениях, пребывание там было источником глубокой психологической травмы. Единственным способом справиться с ней становились бесконечные риторические упражнения, в которых Квашнин-Самарин энергично предлагал заключить в «Дом умалишенных» Веру Засулич, нигилистов, вышедших на демонстрацию студентов – короче говоря, всех тех, кто, по его мнению, действительно представлял опасность для государства. Этот странный перенос стал для него в буквальном смысле слова «навязчивой идеей», которая проводилась во всех его политических и исторических сочинениях 1860–1870-х годов.
От стихотворения к стихотворению, от письма к письму Квашнин-Самарин все более истово обличает российских «революционеров-вралей», пока дело не доходит до описания их тюремных и каторжных мытарств. И в этих строфах появляются – трудно предположить, что совершенно случайно и неконтролируемо, – автореминисценции, описывающие собственные мытарства Квашнина-Самарина в тюрьме, ссылке и больнице для умалишенных. Сравним его автобиографическое стихотворение «Завтра!» и финал стихотворения, посвященного Николаю Чернышевскому:



Идею, стоящую за «античернышевским» памфлетом Квашнина-Самарина, легко разглядеть и без параллелей с его автобиографической лирикой: даже самые отъявленные преступники не заслуживают столь жестокого обращения, какому подвергаются в российских «исправительных учреждениях» попадающие в их стены (и застенки) люди.
В художественной прозе, не скованный требованиями соблюдения ритма и рифмы, определенных синтаксических конструкций и идиом, а также представлений о том, как должен звучать голос «страдающего ссыльного» в обращениях к дисциплинарным инстанциям, Квашнин-Самарин чувствовал себя свободнее. Ему удалось, хотя бы и ненадолго, найти баланс между стандартами сатирического бытописания и трагическим мироощущением социального изгоя и политического изгнанника, которое, несмотря на все позднейшие верноподданные и благонамеренные декларации, он сохранил до конца жизни.
Мне удалось обнаружить в материалах дела Квашнина-Самарина несколько очерков из неопубликованного прозаического цикла «Доходы от места». Весь цикл был, судя по предисловию, посвящен извечно актуальной в России теме коррупции, а его первая, дошедшая до нас часть – коррупции в местах содержания арестованных. Были ли написаны другие задуманные очерки, сказать трудно.
При всей литературной неквалифицированности автора меткость его наблюдений позволяет сравнить его не только с Достоевским, описавшим нравы и обычаи Мертвого дома, но даже в некоторых отношениях с первооткрывателем «человека ГУЛАГа» Варламом Шаламовым. Квашнину-Самарину удалось перевесить наивность и непрофессиональность описаний точностью и проницательностью социальных и антропологических наблюдений. К сожалению, ограничения объема не позволяют привести здесь развернутых цитат из сохранившихся очерков или опубликовать их в приложении. Надеюсь, что такая возможность представится в рамках другой работы.
6
Случай Квашнина-Самарина представлял большую сложность для российских дисциплинарных институций 1830–1870-х годов – не меньшую сложность он представляет и для современных исследователей. Его социальное поведение настолько плохо вписывалось в существовавшие в то время нормативные представления и конвенции, что его конфликт и с политическими властями, и с ближайшим социальным окружением был неизбежен и порой принимал острые формы.
Не исключено, что те сценарии реакции на этот конфликт, которые предлагал Квашнину-Самарину тогдашний социокультурный репертуар, исчерпывались или позой «дурачка», «юродивого», или стратегией олитературивания и одновременно умаления собственного образа (в том числе и речевого). В состоянии эмоциональной неустойчивости и большой материальной и социальной уязвимости регулярная практика использования таких сценариев реакции могла привести к серьезному психическому страданию.
«Горизонтальная» подвижность Квашнина-Самарина и личный опыт взаимодействия с самыми разными стратами общества (от столичной аристократии, к которой принадлежали его ближайшие родственники, до тюремных надзирателей, обитателей петербургских «трущоб» и провинциальных торговцев и чиновников) дали ему возможность занять интересные точки наблюдения над современными ему социальными процессами. При всей ограниченности политического и литературного кругозора его литературные и «экспертные» сочинения, посвященные российской политике и обществу 1830–1870-х годов, отличаются большой проницательностью. Однако ни географические перемещения, ни личные потрясения, ни литературные и переводческие опыты не дали Квашнину-Самарину главного – адекватного языка для описания увиденного и пережитого. За исключением нескольких сохранившихся прозаических фрагментов, он так и остался литератором-дилетантом, обреченным униженно просить чиновников III Отделения о денежном вспомоществовании.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































