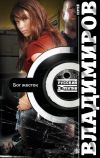Текст книги "Политическая наука №3 / 2017. Советские политические традиции глазами современных исследователей"

Автор книги: Коллектив авторов
Жанр: Социология, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 17 (всего у книги 18 страниц)
О.Ю. Малинова. Спасибо!
С книжной полки
Ленин, партия, перформатив! 5656
Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, проект № 16-23-20009.
[Закрыть]
И.В. Фомин 5757
Фомин Иван Владленович, кандидат политических наук, научный сотрудник Центра перспективных методологий социально-гуманитарных исследований Института научной информации по общественным наукам (ИНИОН) РАН, доцент НИУ ВШЭ; e-mail: fomin.i@gmail.com
Fomin Ivan, Center for Advanced Methods of Social Sciences and Humanities, INION RAN; National Research University Higher School of Economics (Moscow, Russia); e-mail: fomin.i@gmail.com
[Закрыть]
Рецензия на кн.: Юрчак А. Это было навсегда, пока не кончилось. Последнее советское поколение / Предисл. А. Беляева; пер. с англ. – М.: Новое литературное обозрение, 2014. – 664 с
Книга Алексея Юрчака, антрополога, профессора Калифорнийского университета в Беркли, впервые вышла на русском языке в 2014 г., спустя почти десятилетие после публикации оригинального издания на английском [Yurchak, 2005]. Как объясняет автор, опубликованный в издательстве «НЛО» русский текст – это не просто результат перевода английского варианта, но отчасти переработанная, адаптированная для российского читателя версия книги (с. 23–24).
Обращаясь к задокументированным впечатлениям людей, переживших распад Советского Союза, А. Юрчак показывает, что в сознании свидетелей той эпохи представления о нерушимости советской системы в невероятно короткие сроки сменились мыслями о неизбежности ее краха. Из этих наблюдений выкристаллизуется главный вопрос книги: какие принципы функционирования советской системы сделали ее обвал одновременно возможным и неожиданным? (с. 33–35).
Как следует из подзаголовка книги, основное внимание в ней сосредоточено на группе, которую автор называет «последним советским поколением». К этому поколению А. Юрчак относит людей, родившихся между серединой 1950‐х и началом 1970‐х годов (с. 85). Автор сумел собрать интереснейший архив, в который вошли самые разнообразные материалы о «последнем советском поколении»: от официальных комсомольских отчетов и передовиц «Правды» до личных дневниковых записей и городского фольклора.
А. Юрчак отмечает, что информанты, на чьих свидетельствах основана книга, не являются репрезентативными образцами средних «советских субъектов», а скорее показывают, как присущие системе стандарты искажались, нарушались или доводились до предела, и при этом система продолжала функционировать (с. 86–87). Как объясняет А. Юрчак, именно внимание к такого рода явлениям, которые он называет пространствами вненаходимости, и может стать ключом к пониманию логики функционирования и предпосылок распада позднесоветской системы.
Принцип вненаходимости состоял, по объяснению А. Юрчака, в том, что «советский субъект» в период позднего социализма мог находиться одновременно внутри и вне дискурсивного поля системы (с. 564). Это происходило в результате явления, которое автор книги называет «перфомативным сдвигом».
Суть этого сдвига заключалась в том, что в позднесоветскую эпоху нормы идеологических высказываний воспроизводились в первую очередь на уровне его формы, при этом смысл таких высказываний смещался, становясь отличным от буквально заявленного (с. 25): «многие из тех, кто в эти годы занимал руководящие посты в местных комсомольских или партийных организациях, рассказывают, что, подготавливая идеологические отчеты, организуя политические аттестации или проводя политические собрания, они прекрасно понимали, что буквальный смысл этих ритуалов и текстов был не так важен, как четкое воспроизводство их формы – стандартного языка, процедуры, отчетности и так далее» (с. 74).
Предпосылкой для «перформативного сдвига» стала гипернормализация официального дискурса, начавшаяся в 1950‐е годы, в результате которой каждый новый официальный текст «все больше походил на цитату из некоего абстрактного “предыдущего”» (с. 115). Наиболее важным было сохранить неизменную форму высказываний, уделяя меньше внимания смыслу, который мог в эту форму вкладываться. По этой причине смысл того или иного высказывания или действия «стал относительно непредсказуем», «одни и те же стандартные формулировки теперь могли использоваться для выражения различных политических тезисов» (с. 122).
При этом гипернормализованные советские ритуалы не были бессмысленны. Не были они и простым притворством или проявлением конформизма, ведь через них воспроизводились не только структуры власти, «но также права, возможности и свободы субъекта, включая также свободу действовать вопреки власти» (с. 71). Именно в этой ситуации возникла возможность для формирования «отношений вненаходимости» – «советский субъект» мог изменять смысл идеологизированных высказываний, сохраняя их форму, что вело «к активному и постоянному сдвигу, изменению, подрыву смысловой ткани системы» (с. 564).
Для массового читателя книги, вероятно, наиболее интересны будут именно зафиксированные автором уникальные истории о «пространствах вненаходимости» – о стилягах и «роке на костях», о литературных кружках в доме пионеров и зимних школах по теоретической физике, о ленинградском «Сайгоне» и о митьковских котельных. Однако для политической науки книга А. Юрчака ценна не только как попытка осмыслить уникальный этнографический материал, но и как пример продуктивного использования конвергентного методологического аппарата, эффективно насыщающего общесемиотический инструментарий антропологической и политологической предметной фактурой5858
Подробнее о семиотике в политических исследованиях см.: [Фомин, Ильин, 2016].
[Закрыть].
В основе центрального, многократно повторяемого аргумента о «перформативном сдвиге», лежит семиотическая концепция о перформативных актах (перформативах)5959
Слова перформатив и (перформативный) акт далее по тексту используются как синонимы.
[Закрыть], фундамент которой заложил британский философ Джон Остин [Austin, 1962; Остин, 1986].
Перформативными речевыми актами Дж. Остин предложил называть такие речевые высказывания, которые сами по себе уже являются действиями. Перформативы (в отличие от констативов) не описывают определенное положение вещей, но сами по себе выступают актами свершения, конструирования социальной действительности. В повседневной жизни, например, мы встречаем речевые акты такого рода в виде обещаний, клятв, извинений или приглашений. В политической коммуникации перформативные высказывания также встречаются почти повсеместно – в виде актов учреждения, упразднения, постановления, приказания и т.п. Как отмечает М.В. Ильин, именно перформативы (как вербальные, так и невербальные) «можно рассматривать как своего рода квинтэссенцию политического начала» [Ильин, 2016]. Серия статей, посвященных возможностям анализа политических перформативов, была опубликована в одном из выпусков «Политической науки» [Ильин, 2016; Ефимова, Конюхов, Панфилов, 2016; Фомин, 2016; и др.].
А. Юрчак в своей книге особенно подчеркивает важность совершенствования инструментов перформативного анализа. В частности, автор отмечает, что «[д]ля анализа исторического развития авторитетных дискурсов необходимо иметь более развернутую модель перформативности – в частности того, как она может меняться в языке в разные исторические эпохи, как уровень перформативности тех или иных высказываний может возрастать или уменьшаться, как разные структурные уровни языка могут приобретать или терять перформативную функцию, как перформативность высказываний зависит от других, неязыковых условий и так далее».
В этом контексте особенно интересно обратить внимание на один момент, в котором А. Юрчак, как кажется, несколько отступает от концептуальной рамки, предложенной Дж. Остином, а именно в вопросе об условиях успешности / неуспешности (felicity / infelicity, happy / unhappy) перформативов.
По Остину, специфика перформативных речевых актов состоит в том, что к ним неприменимы обычные категории истинности или ложности, поскольку они не описывают действительность, а создают ее. Перформатив нельзя отнести к истинным или ложным высказываниям, однако его можно охарактеризовать как успешный или неуспешный.
Набор условий успешности перформативов, которые формулирует Дж. Остин, разделяется на две группы и выглядит так [Austin, 1974, p. 14–15]:
• «(a. 1) Должна существовать принятая конвенциональная процедура, имеющая определенный конвенциональный эффект. Такая процедура должна включать использование определенных выражений при определенных обстоятельствах. (a. 2) Определенные лица и обстоятельства должны быть подобающими для обращения (appropriate for the invocation) к такой процедуре. (b. 1) Процедура должна осуществляться всеми ее участниками корректно и (b. 2) полностью».
• «(γ.1) Если, как это часто бывает, процедура предназначена (designed) для использования людьми, обладающими определенными мыслями или чувствами, или для того, чтобы являться началом (inauguration) определенного последующего поведения ее участников, тогда лицо, участвующее в процедуре и, таким образом, обращающееся к ней, должно фактически обладать соответствующими мыслями и чувствами, а участники должны иметь намерение к соответствующему определенному поведению (γ.2) и действительно вести себя впоследствии соответствующим образом» (перевод мой. – И. Ф.).
Несоблюдение любого из этих условий делает перформативный акт неуспешным. При этом Остин не случайно пользуется в первой группе критериев буквами латинского алфавита, а во второй – греческого. В случае несоблюдения критериев из подгрупп (a) или (b) перформативный акт является неуспешным (unhappy) и вообще несвершившимся (not achieved). Если же не был соблюден какой‐то критерий из группы γ, то перформатив является свершившимся (achieved), но неуспешным (unhappy) [Austin, 1974, p. 17–19]. Остин предложил даже специальные термины для обозначения классов перформативов, осуществленных с нарушением того или иного условия. Например, акт, осуществленный с нарушением условий типа a или b, Остин предлагает называть осечкой (misfire), акт с нарушением условия γ.1 – диссимуляцией (dissimulation), с нарушением γ.2 – инфракцией (infraction) [Austin, 1974, p. 18].
А. Юрчак, однако, не рассматривает γ-условия как факторы успешности перформативов6060
Неверным будет утверждать, что А. Юрчак вовсе не обращает внимания на эти аспекты перформативного взаимодействия, однако он по большей части рассуждает о них в терминах «констатирующей» и «перформативной» составляющих смысла (с. 70).
[Закрыть], делая акцент лишь на условиях a и b. Более того, в книге можно даже найти фрагменты, в которых прямо отрицается существование связи между условиями γ и успешностью. Вот одно из таких рассуждений: «[Е]сли все конвенциональные процедуры выполнены, перформативное высказывание будет успешно выполнено, даже если в намерение говорящего это не входит. […] Рассмотрим, например, акт принятия клятвы – один из наиболее характерных примеров перформативных актов. Для того чтобы клятва была успешно принята, совсем необязательно, чтобы в момент ее произнесения субъект искренне намеревался ее сдержать – т.е. находился в психологическом состоянии искреннего намерения. Если субъект произнесет клятву неискренне, но в требуемых конвенциональных условиях, акт принятия клятвы все равно будет успешен» (с. 65).
На первый взгляд может показаться, что остиновские γ-условия успешности перформативов плохо вписываются в логику развернутой А. Юрчаком своеобразной апологии «советского субъекта» и критики «бинарных моделей», в рамках которых этому субъекту приписывались вынужденные двоемыслие, неискренность и притворство6161
Особенно плохо вписался бы в апологетическую риторику термин abuse (злоупотребление), который Дж. Остин предлагал использовать для обозначения класса перформативов, совершенных с нарушением γ-условий. Несмотря на то что сам Дж. Остин призывал не обращать внимания на оценочные коннотации такого рода терминов, слово злоупотребление действительно представляется чересчур нормативно заряженным.
Возможно, термин disrespect, которым Дж. Остин иногда пользовался для обозначения того же класса явлений, будет более подходящим. Чтобы еще больше освободиться от оценочных коннотаций, на русский его стоит перевести неологизмом дизреспекция [Austin, 1974, p. 18].
[Закрыть]. Однако, как представляется, явление «перформативного сдвига», центральное для концепции А. Юрчака, более точно может быть описано, именно если в используемую модель включить остиновские γ-условия. Тогда, однако, можно обнаружить, что словосочетание перформативный сдвиг может описывать не одно явление, а как минимум четыре разных.
Перформативный сдвиг-1. Заключается в том, что вместо успешного перформативного акта свершается неуспешный акт-диссимуляция. То есть участники акта знают, что участие в данном перформативе предполагает определенных набор мыслей, чувств и намерений, диктуемых его буквальной формой, но нарушают это условие.
Перформативный сдвиг-2. Заключается в том, что условия успешности того или иного перформатива перестают включать в себя требования касательно мыслей, чувств и намерений, за исключением желания воспроизводить этот перформатив, и участники акта соблюдают это условие.
Перформативный сдвиг-3. Заключается в переходе к диссимулятивному свершению актов, которые не включают в себя требования касательно мыслей, чувств и намерений, за исключением желания воспроизводить этот перформатив6262
Иными словами, это диссимулятивное свершение актов, описанных в Перформативном сдвиге-2: γ.1‐условием успешности перформативного акта остается только желание участников воспроизводить перформатив, но и это условие ими не выполняется (такого желания у них нет). При этом перформатив свершается, но не является успешным (соблюдаются условия a и b, но γ-условие не соблюдается).
[Закрыть].
Перформативный сдвиг-4. Условия успешности перформативов в представлении их участников перестают включать в себя вообще какие-либо требования касательно мыслей, чувств и намерений.
На представленную выше схему четырех перформативных сдвигов можно посмотреть не как на модели четырех разных явлений, а как на стадии развертывания одного процесса. В таком прочтении она может оказаться полезна, в частности, для более детального изучения логики развития советской системы или отдельных ее подсистем. Тот «перформативный сдвиг», о котором пишет А. Юрчак, в большей мере укладывается в модель Перформативного сдвига-2, но можно, например, предположить, что в какой‐то момент при переходе к описываемому в книге А. Юрчака состоянию Перформативный сдвиг-2 советская система проходила и этап Перформативный сдвиг-1.
В заключение нельзя еще раз не отметить важность предпринятой Алексеем Юрчаком попытки применить категории анализа перформативных актов к исследованию социальной действительности. Благодаря этому книга о «последнем советском поколении» будет интересна не только широкому кругу читателей, интересующихся современной российской политикой и историей России XX в., но и ученым-обществоведам, находящимся в поиске новых трансдисциплинарных аналитических инструментов.
Список литературы
Ефимова Е.А., Конюхов Н.А., Панфилов Д.А. Кто и как начал Первую мировую войну? // Политическая наука / РАН. ИНИОН. – М., 2016. – № 4. – С. 285–298.
Ильин М.В. Что может дать анализ перформативов? // Политическая наука / РАН. ИНИОН. – М., 2016. – № 4. – С. 262–270.
Остин Дж. Как совершать действия при помощи слов // Избранное / Перевод с англ. Макеевой Л.Б., Руднева В.П. – М.: Идея-Пресс: Дом интеллектуальной книги, 1999. – С. 13–135.
Фомин И.В. Перформативы сецессии оспариваемых государств: Южная Осетия, Абхазия, Косово // Политическая наука / РАН. ИНИОН. – М., 2016. – № 4. – С. 271–284.
Фомин И.В., Ильин М.В. Зачем семиотика политологам? // Политическая наука / РАН. ИНИОН. – М., 2016. – № 3. – С. 12–29.
Austin J.L. How to do things with words. The William James lectures delivered at Harvard University in 1955 / J.O. Urmson (ed.). – Oxford: Clarendon press, 1962. – 166 p.
Yurchak A. Everything was forever, until it was no more: The last Soviet generation. – Princeton: Princeton univ. press, 2005. – 352 p.
Русская революция с точки зрения когнитивной теории
Ю.Г. Коргунюк 6363
Коргунюк Юрий Григорьевич, доктор политических наук, ведущий научный сотрудник отдела политической науки Института научной информации по общественным наукам Российской академии наук, зав. отделом политологии Фонда развития исследовательских программ «Информатика для демократии», e-mail: partinform@mail.ru
Korgunyuk Yury, Institute of Scientific Information for Social Sciences, Russian Academy of Sciences, INDEM Foundation (Moscow, Russia), e-mail: partinform@mail.ru
[Закрыть]
Рецензия на кн.: Медушевский А.Н. Политическая история русской революции: Нормы, институты, формы социальной мобилизации в ХХ веке. – М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2017. – 656 с
В своей новой книге А.Н. Медушевский представляет попытку осмысления русской революции с точки зрения теории когнитивной истории, исходящей, по словам автора, из необходимости «понимания психологической мотивации и установок поведения людей в истории на основе реконструкции информации источников – интеллектуальных продуктов целенаправленной человеческой деятельности» (с. 10).
По мнению А. Медушевского, принципиальный недостаток современной историографии русской революции заключается в том, что она «вращается в кругу идей и представлений самой революции, выдвигая в качестве обоснования своих положений одну из идеологических конструкций революционного мифа или их комбинации» (с. 11). Это, в свою очередь, объясняется господством в историографии «устаревших методологических подходов», которые можно свести к трем основным: 1) детерминистская концепция исторического материализма; 2) консервативные цивилизационные и геополитические теории, постулирующие «неизменность и безальтернативность исторического развития цивилизаций»; 3) постмодернистские учения, «отрицающие или релятивизирующие значение рационального научного познания и представляющие исторические конструкции как продукт искусства» (с. 12–13). Эти подходы, считает автор, идут вразрез с задачами «современной глобальной истории, отстаивающей отказ от методологического детерминизма в пользу вариативной картины прошлого, пересмотр линейной версии исторического процесса.. отказ от объяснения одной культуры понятиями, механически взятыми из другой… и настаивающей на разработке универсальных и ценностно нейтральных понятий, открывающих перспективу доказательного сравнительного анализа исторического процесса разных стран» (с. 14).
Когнитивный метод, знаменуя смену парадигм в историческом познании («переход от нарративной (описательной) истории к истории как строгой науке, которая видит решение проблемы доказательности в изучении целенаправленной человеческой деятельности» (с. 9)), создает, по мнению автора, новые перспективы для изучения революции: «Политическая история революции предстает как направленная деятельность по конструированию новой социальной реальности: определение ее форм; фиксация их смены в основных политико-правовых документах, принятие которых неизбежно отражает значимые изменения информационной картины общества» (с. 15). Предметом исследования, соответственно, становятся «содержание, структура и динамика конституционных принципов, факторы их содержательной трансформации и вклада в формирование общественных отношений», а целью – «выяснение смысла конституционных решений: каковы их когнитивные детерминанты; какие модели стали предметом анализа разработчиков; что было принято и отвергнуто; какая модель в итоге была положена в основу и почему; как соответствующие конституционные принципы трансформировались под воздействием практики применения» (с. 15–16).
С точки зрения когнитивной теории под революцией понимается «радикальное изменение информационной картины мира – преодоление когнитивного диссонанса общества путем насильственного изменения государственного строя, сопровождающееся фундаментальным пересмотром принципов его политической конституции и легитимирующей формулы режима» (с. 18–19). В рамках этого подхода русская революция рассматривается как длительный процесс, продолжающийся «столько, сколько действует революционная формула»: «Ее развитие связано с модификацией этой формулы и ее последовательной десакрализацией, а конец определяется достижением полноценного национального единства с принятием конституции, обеспечивающей национальный консенсус и институциональную стабильность, когда новая система ценностей и ожиданий, провозглашенных революцией, конвертируется в стабильные демократические нормы, институты и правила игры» (с. 24).
Исходя из этого, автор кладет в основу периодизации русской революции «развитие самого революционного мифа на всем протяжении существования (1917–1991)» (с. 24), а структура исследования подчинена «решению центральной проблемы – эволюции легитимирующей формулы русской революции: поиску ее оптимальной формулы в начале революционного процесса – от свержения монархии в ходе Февральской революции 1917 г. до Учредительного собрания (гл. I–III); утверждению ее большевистской версии – от попытки непосредственного воплощения мифа Коммуны в Конституции РСФСР 1918 г. и создания советской институциональной системы до корректировки этого замысла в ходе образования СССР и принятия Конституции 1924 г. (гл. IV–VI); введению новой редакции данной формулы в период консолидации сталинского режима – принятия Конституции 1936 г. и кампании массовой мобилизации на ее основе (гл. VII–IX); модификации легитимирующей формулы в период “оттепели” – в конституционном проекте 1964 г. (гл. X); закреплению ее полностью выхолощенной трактовки в эпоху “застоя” в Конституции 1977 г. (гл. XI); запоздалым попыткам ревитализации данной формулы в конституционных преобразованиях эпохи перестройки (1985–1991), закончившимся полным отказом от нее, но определившим ключевые параметры формирования постсоветской политической системы (Конституция 1993 г. и направления ее современной интерпретации) (гл. XII)» (с. 34).
Автор настаивает на том, что системный кризис самодержавия был кризисом прежде всего сознания, а не экономики, причиной же революции послужила «неспособность традиционалистского авторитарного режима овладеть тем процессом модернизации, который был успешно начат либеральными реформами 60‐х годов XIX в., но не доведен до логического конца» (с. 35). Поэтому, на взгляд А. Медушевского, прослеживая развитие революционного процесса, целесообразно говорить «не столько о смене социальных групп у власти, сколько – форм когнитивного доминирования определенных политических стереотипов в массовом сознании» (с. 59). Автор также выступает противником представления о «фатальности революции и смены трех этапов ее разворачивания – крушения самодержавия, Февральской революции и Октябрьского переворота с последующим установлением большевистской диктатуры». На каждом из этапов, по его мнению, «сохранялась определенная вариативность исторического выбора, подчинявшаяся когнитивным установкам правящих групп», а превращение возможности революционного срыва в России в действительность произошло в результате «комбинации отсталости масс, авторитаризма политической власти и экстремизма радикальной интеллигенции» (с. 75).
Анализируя события 1917 г., А. Медушевский высказывает любопытные соображения о природе советов, рассматривая их как «маргинальную форму захвата власти», «архаичную структуру, неспособную к управлению, но являющуюся средством мобилизации антиконституционных деструктивных сил, вплоть до уголовных элементов». Ссылаясь на литературу о «комитетах, хунтах и прочих подобных самопровозглашенных учреждениях» в других странах, он отказывает советам в специфичности: «В ходе всех крупных революций данная форма непосредственной демократии выполняет функции массовой мобилизации и может быть успешно использована для захвата власти совершенно различными политическими силами, после чего необходимость в них отпадает (так как в силу своей природы они не могут быть реальными институтами власти) и они сохраняются в лучшем случае в виде декоративного украшения при номинальном конституционализме» (с. 100).
Наиболее же интересны те главы, в которых автор рассматривает с точки зрения когнитивной теории процесс подготовки конституционных документов РСФСР и СССР: Конституций 1918, 1924, 1936, 1977 гг., а также не доведенного до принятия проекта Конституции 1964 г. Эта часть исследования основана на тщательном изучении не только научной литературы и воспоминаний современников, но и документов Государственного архива РФ. Скрупулезно воспроизведенная картина дискуссии между различными участниками конституционного процесса впечатляет своей детальностью и даже дотошностью, а выводы автора – глубиной и одновременно парадоксальностью. Так, в частности, полагает А. Медушевский, Конституция 1936 г. «была не столько прикрытием террора (как думали некоторые русские и иностранные современники), сколько правовой основой его проведения»: «Террор оказывается необходимым инструментом преодоления когнитивного диссонанса, выражающего несоответствие формальных конституционных норм и реальности, но одновременно служит для когнитивного закрепления соответствующих стереотипов – неписаных кар и наград за санкционированное и отклоняющееся поведение» (с. 363–364).
Примечателен и взгляд автора на события новейшей истории. По его мнению, «мощный рывок к свободе, сделанный М.С. Горбачевым, был одновременно необходимым, разумным и гуманным шагом, позволявшим выйти из тупика однопартийной диктатуры мирным путем», однако «необходимое и единовременное открытие страны мировым информационным процессам (в рамках “нового мышления”) оказалось деструктивным фактором в силу неподготовленности общественного сознания, руководствовавшегося архаичными установками традиционного общества, усиленными стереотипами коммунистической идеологии» (с. 586). Столкновение же между сторонниками и противниками Б. Ельцина в 1993 г. А. Медушевский трактует как «конфликт законности и легитимности», завершившийся в пользу последней: «Президент Ельцин сделал то, что не удалось сделать Временному правительству в 1917 г., – ликвидировал советскую систему и осуществил переход от однопартийной диктатуры к авторитарной демократии» (с. 595). При этом, по мнению автора, принятие Конституции 1993 г. стало «результатом не конституционной реформы, но конституционной революции, или государственного переворота (согласно формально-правовой ее оценке), в ходе которого победившая сторона навязала свою волю оппонентам». Эта революция, считает А. Медушевский, не сопровождалась полноценными институциональными преобразованиями – за нею «не последовали необходимые реформы институтов – экономических, политических, административных, местного самоуправления, что стало основой [их] сворачивания в последующий период» (с. 596).
Основным противоречием действующей Конституции РФ А. Медушевский считает «конфликт между широкой трактовкой прав и свобод человека и чрезвычайно авторитарной конструкцией политической системы, способствовавшей концентрации властных полномочий в одном центре – институте президента» (с. 601)]. В итоге, по его мнению, современный российский режим «стал наследием исторических форм государственности, воспроизводя их главную особенность – неподконтрольность государства обществу, неограниченный характер власти, которая может резко и произвольно изменять направление движения, руководствуясь персональными качествами и предпочтениями лидера»: «Задача, следовательно, состоит в том, чтобы завершить процесс политических реформ в направлении демократизации – окончательно решить проблемы, которые были поставлены, но не решены в период Февральской революции 1917 г. …России предстоит еще длительный путь по формированию нового правового сознания, либеральных конституционных институтов и практик. Только после решения этих проблем мы сможем уверенно заявить: конец русской революции есть свершившийся факт» (с. 637–638).
При всех достоинствах книги А. Медушевского представляется, тем не менее, необходимым высказать скепсис относительно надежд автора на революционный характер избранного им подхода – теории когнитивной истории, или когнитивного метода. Этот подход помогает заполнить многие лакуны в изучении истории русской революции и истории вообще, однако вряд ли может претендовать на роль универсальной теории, сохраняющей рациональное зерно всех предшествующих концепций и подходов, но лишенной присущих им недостатков. Этот метод позволяет хорошо изучить одну сторону исторического процесса – ту, которую марксисты назвали бы субъективной. Когнитивный метод помогает понять логику авторов различных проектов развития государства и общества. Но причины успеха или неудачи данных проектов кроются не только в их внутренней цельности или противоречивости. Эти проекты либо находят отклик в обществе, либо, напротив, наталкиваются на его сопротивление. Понять же причины общественной реакции, оставаясь в рамках когнитивного метода, сложно. Для этого в какой‐то момент нужно от изучения идей перейти к исследованию повседневной жизни общества. Исследование А. Медушевкого касается «истории идей», не опускаясь на уровень политических стереотипов массового сознания – изучение последних требует совсем других методов и совсем других источников.
Конечно, автор постоянно затрагивает тему столкновения идей с реальностью, но опирается при этом на работы историков-«эмпириков», выполненных преимущественно в традиции тех самых «устаревших методологических подходов», которым он противопоставляет свой когнитивный метод. Причем зачастую отсутствуют даже ссылки на эти работы, поскольку излагаемые в них концепции воспринимаются не как подкрепленные эмпирическими данными гипотезы, а как некие сами собой разумеющиеся «объективные факты». Но в таком случае отстаивание преимуществ когнитивной истории перед «устаревшими подходами» выглядит не особо убедительным, особенно когда автор не очень хорошо обозначает грань между теми областями, в которых он действительно является специалистом (идейная и правовая составляющая конституционного процесса), и теми, с которыми он знаком по литературе (повседневная жизнь населения революционной эпохи и тонкости «реальной» политики).
Так, в частности, происходит в тех случаях, когда А. Медушевский, настаивая на ложности посылки об истории, «не знающей сослагательного наклонения» (с. 73), пытается описать «упущенные» в 1917 г. возможности, использование которых могло бы предотвратить установление большевистской диктатуры. Здесь он, как представляется, несколько выходит за рамки своей компетенции, давая задним числом советы, которые, если разобраться повнимательнее, вряд ли были осуществимы или могли бы исправить ситуацию.
Первой такой упущенной возможностью автор считает «отказ от созыва Государственной Думы (возможно, в расширенном составе) с последующим преобразованием ее в Конституанту – Национальное собрание (как это предлагал М.В. Родзянко)» (с. 92). Данный институт, полагает автор, «обладая несравненно большей легитимностью, оказался бы способен вытеснить с политической сцены такой суррогатный институт, как советы (и положить конец двоевластию в самом начале его формирования), обеспечить переговорный процесс между основными политическими партиями, объединив и связав их путем взаимного соглашения» (с. 93). Но легитимность Госдумы, избранной по «бесстыжему» (как признавал сам Николай II) закону 3 июня 1907 г., в глазах революционной толпы 1917 г. была не то что нулевой – отрицательной. Ведь Временное правительство поначалу называлось Временным комитетом Государственной думы – его руководители отказались от упоминания Госдумы именно в силу негативных коннотаций, вызываемых названием этого учреждения. Временное правительство постоянно подвергалось уничтожающей критике за наличие в его составе «министров-капиталистов» – притом что пользовалось условной поддержкой эсеровско-меньшевистского руководства советов; против Государственной думы, пусть даже в расширенном составе, сплотился бы весь левый фланг политического спектра, а не только большевики и их леворадикальные союзники.
Другой упущенной возможностью автор называет «провал достижения консенсуса основных политических партий путем взаимных компромиссов и договора с единственной целью – отстранения экстремистов и создания работоспособного коалиционного правительства» (с. 93). Но этот консенсус в принципе был достигнут и выразился в поддержке руководством советов Временного правительства. Правда, к этому консенсусу не присоединились большевики, но революция немыслима без не признающих «соглашательства» экстремистов. Способность договаривающихся сторон нейтрализовать нарушителей конвенции зависит не только от степени осознания ими такой необходимости, но и от реального соотношения сил. То, что большинству партий не удалось маргинализовать большевиков, – их беда, а не вина.