Текст книги "Труды по россиеведению. Выпуск 2"
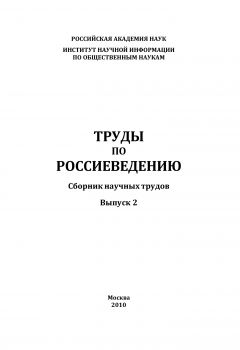
Автор книги: Коллектив авторов
Жанр: Социология, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 36 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
Итак, от 6–8 до 11–12% (в среднем – 10% населения) «выигравших» («авангардный сегмент» «не-Дворца», или новый средний класс) – это «прослойка» между «срединными» слоями (большинством населения России) и «Дворцом». Экономически она явно тяготеет к «Дворцу» (не случайно, общественным мнением относится к богатым). А поэтому вряд ли целесообразно приплюсовывать ее к «срединным», т.е. основе «не-Дворца». «Прослойка» не обладает явно выраженными признаками гражданственности, а потому весьма сомнительна ее способность реализовать инновационный сценарий развития страны. Оно «Дворцу» просто не нужно, так как не рассматривается им в качестве мобилизационного и трудового ресурса. (Соответственно, «Дворец» отказывается от обслуживания в полном объеме разных сфер социальной деятельности: от «больших» искусства/культуры – в пользу «дворцовых», «большое» сельское хозяйство заменяют пригородные экологически чистые «дворцовые» хозяйства, «большая» наука редуцируется до Сколково и т.д.) Это совершенно особый случай в нашей истории. Государство в России всегда – по разным (но чаще военно-оборонным) причинам – нуждалось в населении: «догоняло» и закрепощало, использовало и вовлекало, просвещало и воспитывало его. Но не игнорировало. Сейчас государство – само по себе, основная масса народонаселения – сама по себе. У государства для населения нет больше ни идей (предлагаются только старые, «потерто-заношенные»), ни занятий. У населения к государству остались только претензии – социально-экономического характера.
В этой диспозиции явно проигрывает «не-Дворец». Все, что сейчас в России «Дворцом» не является, обречено – во всяком случае в ближайшей перспективе. По существу, для выживания «не-Дворец» должен искать независимые от государства источники самообеспечения (в том числе «кормовые» на старость, временную нетрудоспособность), что чаще всего достигается неправовыми способами5252
Социологический факт: большинство сложившихся в России социальных сетей, которые были и остаются важным дополнительным ресурсом выживания, носит неформальный характер. В этом «проявляется явное недоверие значительной доли российских граждан к формальным институтам» (12, с. 14, 15). Закономерно, что только 26% опрошенных в июле 2005 г. во всех территориально-экономических районах России разделили следующую точку зрения: во всем и всегда следует соблюдать букву закона. Кстати, среди госслужащих ее поддержали 58% опрошенных (4, с. 101–102). Очевидно, что приверженность правовой дисциплине – не личная установка и не просто декларация: скорее, предписание рядовым гражданам, с которыми чиновники себя не ассоциируют. Закон выглядит как формальное ограничение для «резервации»; те, кто стоит над ней, – выше закона.
[Закрыть]. Следует отметить, что у населения богатый опыт такого рода: при «избытке» или «недостатке» государства в России в дефиците всегда была его социальная функция. Люди исторически приучены выкручиваться как умеют. Сейчас общение с государственными органами сведено до минимума; к ним обращаются вынужденно, когда нет иных вариантов решения проблем.
В конечном счете, нынешняя обреченность «не-Дворца» не является фатальной; воля – это его шанс стать обществом, сформировать запрос на отмену «дворцового государства». Но пока «не-Дворец» остается дезорганизованной, атомизированной, «асоциальной» массой, занятой выживанием и обучающейся современному потреблению. Для этого применяет в основном незаконные и нецивилизованные стратегии. В этих условиях запрос на то, чем нам быть, за массу формирует «Дворец». И масса не возражает. Если это и кажется странным, то только на первый взгляд.
Это массовое согласие на «Дворец» объясняется не только «хорошими» воспоминаниями и всеобщей усталостью/безразличием. Отношения массы «недворцовых» россиян с государством чрезвычайно сложны: противостоя ему (как враждебной, внешней, подавляющей их силе, не способной наладить механизмы социальной защиты, справедливого распределения ресурсов, благ), она в то же время настроена на сотрудничество. Многочисленные постсоветские социологические опросы показывают, что «государственные и общественные институты не пользуются поддержкой и доверием россиян. Они не рассматриваются ими в качестве инструментов реализации общественных и личных интересов» (4, с. 97). При этом, по данным тех же опросов, и сегодня понятия «государство» и «государственные служащие» вызывают у наших граждан скорее позитивное чувство (тогда как «власть» и «чиновничество» – негативное) (4, с. 92). Любопытно, что и «у самой бюрократии термин “чиновники” связан с негативными ассоциациями. Ей больше по душе, когда ее представителей называют государственными служащими» (4, с. 92).
Получается, что у людей есть четкие представления о том, каким должно быть государство, которое они сочли бы «своим». И именно эти представления их объединяют – здесь расхождений у абсолютного большинства граждан нет. Более того, по их мнению, государство в принципе должно быть «своим» (народным) и никаким другим – отсюда позитивное отношение к «госслужащему» как «единице» народа, интегрированной в государство. В конечном счете наш идеал – не отделение от государства, его дополнение гражданским обществом, а неразделимое единство на родного государства и народа-государственника. В этой логике восстать народ может только против «неправильного» («самозваного») государства, что, по существу, есть восстановление справедливости, а потому ненаказуемо. Другой вариант отношений с таким государством – обман, «кидук», отчуждение. «Власть и бюрократия» – «маркёры» «чужого», «не нашего» («переродившегося», «ненормального») государства, которому что-то (точнее, кто-то – «враги», «заговорщики», «мировое закулисье», т.е. персонифицированное зло, вечные спутники русского человека – «темные силы») мешает быть «народным».
Устойчивое ощущение государства как ценности воспитано историей и навязано властными репрезентациями о государстве трудящихся, где совпадали коренные интересы государства и населения. Перенесение восприятия с советского государства на постсоветское выглядит как ошибка атрибуции. Представляя государство по воспоминаниям (т.е. усвоенным в прошлом представлением о «до́лжном»), постсоветские граждане в действительности имеют дело с совершенно иным, чем представляется, феноменом – «Дворцом», основанным на коренном несовпадении интересов. Конфликт между реальным и до́лжным/идеальным снимается применением двух стратегий. Во-первых, массовое отчуждение от «Дворца» компенсируется ростом потребности в «до́лжном» государстве. Как свидетельствуют опросы, «социальная и правовая незащищенность… усиливает роль государства и его институтов для значительной части общества. Более 60% населения утверждает, что без помощи и поддержки государства им не выжить» (4, с. 88)5353
Показательно, что, по данным опроса Левада-Центра весны 2009 г., 54% респондентов убеждены: возможности выхода России из экономического кризиса полностью зависят от действий правительства (см.: 44, с. 72–73).
[Закрыть]. И это уже не ошибка восприятия, а правда. Этим объясняется «поддержка большинством населения различных вариантов национализации крупных “олигархических” бизнес-структур… Консенсусной социально-политической ценностью последних лет является усиление роли государства во всех сферах жизни, его социальная ориентированность» (4, с. 88). Более того, «чиновники и рядовое население едины в одном, что защита гражданских прав россиян, в первую очередь от произвола государственных органов, должна находиться под “патронажем” самого государства» (4, с. 100). Такое «мирское согласие» напоминает единство овец и волков: овцы делегируют свои права и обязательства их защищать волкам. Правда, в оправдание «овец» следует сказать, что они отказываются от малозначимых (на их взгляд) для выживания прав в пользу «хороших волков» – такого государства, каким оно должно быть.
Вторая стратегия демонстрирует жесткий прагматизм постсоветского массового человека: четверть трудоспособного населения желала бы сейчас стать госслужащими, обеспечив себе «надежность работы и заработка, возможность попасть в круг “нужных” людей, получать социальные льготы и гарантии» (4, с. 102–103). Приблизиться к «Дворцу», хотя бы на уровне «обслуживания», – так население пытается в новых условиях сблизить свои интересы с государственными. Иначе говоря, предполагает «попользоваться» если не самими «дворцовыми» возможностями, то хотя бы их остатками (своего рода согласие на существование по «остаточному» принципу). Это малопривлекательная с морально-этической точки зрения, но вполне расчетливая жизненная стратегия. Правда, эффективно применить ее смогут немногие.
Обе стратегии выживания – «фантазера»-бунтаря, исправляющего реальность в воображении и ожидающего претворения в жизнь воображаемого, и пассивного пользователя – скорее ориентируют на сотрудничество с тем, что есть, чем на активное переустройство. Точнее, не оставляют места перестроечной инициативе. «Общество охотно, по крайней мере без значительного сопротивления, передает государству свои прерогативы, такие, например, как выборы местной власти, формирование партийной системы, социальная и трудовая защита» (4, с. 88). Государство наделяется гражданами значением «компетентной» инстанции, единолично отвечающей за положение коллективных дел («коллектив» при этом не «сведущ», не влиятелен – бессубъектен)5454
Многие российские социологи и политологи выделяют в российском обществе несколько «мировоззренческих» групп: «традиционалистски и патерналистски настроенные» слои (за 2006–2009 гг. их доля возросла с 41 до 47%, в молодежной среде – с 29% в 2004 г. до 39% в 2009 г.); «модернисты», «в сознании которых доминируют идеи личной ответственности, инициативы, индивидуальной свободы» (этот слой сократился с 26 до 20%; в возрастной категории до 25 лет – с 37% в 2004 г. до 27% в 2009 г.); «носители промежуточного типа сознания, сочетающего в себе элементы традиционализма и модернизма (их доля устойчива – 33%) (см.: 12, с. 17). Главное «мировоззренческое» различие исследователи видят в отношении к всевластию государства и свободе личности. Если «модернисты» предпочитают индивидуальную свободу, то «традиционалисты» и «промежуточные» (порядка 80% населения, т.е. абсолютное большинство) – «этакратическую модель» с всевластным государством, в идеале выражающим интересы общности в целом и обеспечивающим ее безопасность (12, с. 17–18). Однако всех примиряют экономические воззрения, представления о роли государства в социально-экономической жизни, являющиеся несущей конструкцией мировосприятия россиян. Здесь даже «модернисты»/«инноваторы» солидарны с остальным населением. Главная массовая установка – «доминирование государства в экономике, в управлении собственностью»: по общему мнению (оно разделяется большинством в любой демографической и социально-профессиональной группе), все отрасли «стратегического» характера (добывающие, электроэнергетика, транспорт и др.) должны быть «в руках» государства; в «нестратегических» возможна смешанная экономика, но под государственным контролем (его цель – согласование интересов частного капитала с интересами общества в целом) (12, с. 18–19). Российская рыночная экономика («реальный» капитализм, пришедший на смену «реальному» социализму) большинством россиян отторгается как не соответствующая идеальной модели. И сам идеал, и отношение к реальности (отчуждение от нее в ожидании чуда) в конечном счете ориентируют нашего массового человека на попустительство произволу государства, а не на его ограничение. Единственный выход, который оставляет для себя русский человек, – бунт: тихий, индивидуальный («уход в себя») или карнавально-массовое буйство. И то и другое – стихийно, не формализуемо, не способно преобразоваться в социальную альтернативу. И предполагает появление лидеров-бунтарей (атаманов-царьков), но не эффективной оппозиции.
[Закрыть]. Отчуждение основной массы населения от властных функций принимается как факт – «то ли как естественное следствие разделения труда, неизбежность, то ли как удобное положение вещей, позволяющее большинству людей заниматься своими делами» (4, с. 88, 97, 102). И, добавлю я, не чувствовать персональной ответственности за происходящее.
При этом большинство глубоко переживает несправедливость государства (точнее, своего положения в системе, созданной государством), продуцируя постоянно высокий конфликтно-протестный социальный фон5555
На таком фоне вполне естественной, скажем, выглядит реакция граждан на убийства в Приморском крае в июне 2010 г. милиционеров. Преступники вызвали не осуждение, а массовое сочувствие (см. об этом, напр.: 43, с. 12–16). Еще не разобравшись в происходящем, граждане назвали мифических злодеев «приморскими партизанами», и злорадствовали, когда во Владивостоке милиционеры перестали ходить поодиночке – только группами и в зеленых армейских касках. Это очень походит на отношение «аборигенов» к оккупантам. Уссурийские «партизаны» явно рассматривались как управа на милицию, а убийства – как справедливый самосуд. Стихийная массовая антигосударственная реакция – серьезный сигнал «дворцовому» государству.
[Закрыть]. Его, кстати, поддерживает сам «Дворец» – прежде всего информационными средствами. Симуляция общего – государства и народа – переживания несправедливости, затушевывание сущностной порочности «Дворца» риторикой несовершенства государства и недостатков отдельных государственных лиц снимают напряжение, не позволяя недовольству превысить социально допустимую норму. В итоге сопротивление перерабатывается в сотрудничество; «не-Дворец» оказывается неспособным изменить социальную диспозицию, а время делает ее привычной. «Недворцовая» масса, главный адаптационный механизм которой – жизнь «по привычке», по принципу «стерпится», со временем все больше свыкается с «Дворцом».
Зачем «Дворцу» президент?
В отношениях «сословие–народонаселение» «Дворец» – сильнейшая сторона. По праву сильного он и снял с себя всякие обязательства, оставив их при этом за слабейшим. Вроде бы преобладание «Дворца» бесспорно и не ограничено; составляющему его «сословию» не о чем беспокоиться. Однако неопределенности и риски в рамках такой – несправедливой, неэффективной, с нормальной точки зрения противоестественной (т.е. антицивилизационной, отрицающей культурный опыт, современные культурные достижения и нормы) – системы так велики, что для обеспечения максимально благоприятных условий существования «сословие» готово идти на самоограничения. «Дворец» нуждается в налаженных внутренних коммуникациях (для предотвращения войны в «верхах» за «место» – доступ к «дворцовым» прибылям) и хотя бы символическом внешнем представительстве. Для этого господствующие группы «призывают» верховную власть.
Наше «выборно-преемническое самодержавие» и в начале XXI в. – после всех усилений, «вертикализаций», борьбы с «аристократическим» элементом за свои права – остается «договорным». Оно прежде всего – результат «сговора» (закулисной «сделки») «элит», т.е. «дворцовых» акторов5656
«Договорное» означает ограниченное не столько с формальной точки зрения (по Конституции), что для России несущественно, сколько по факту: прежде всего бизнес-«аристократией» («олигархами»), отчасти демократическими структурами (партиями, парламентом), «клановой» конкуренцией и т.п. Ограничение «по факту» напоминает ограничения, навязанные власти в XVII–XVIII вв. Характеризуя положение самодержавия после 1598 г., В.О. Ключевский пишет, что в XVII в. боярство («знатные фамилии» или «фамильные люди», «родовая аристократия») «освоилось с мыслью о договорном царе; но, исходя из правящего класса, а не из народной массы, заслуженно ему не доверявшей, эта мысль всегда стремилась отлиться и… отливалась в одинаковую форму закулисной сделки, выступившей наружу в виде добровольного дара власти либо проявлявшейся в ослабленных браздах правления. Такая форма была выходом из положения между двух огней, в которое попадали люди, чутьем или сознательно пытавшиеся исцелить страну от болезненного роста верховной власти. Дело 1730 г. было седьмой попыткой более или менее прикрытого сделочного вымогания свободы правительственным кружкам и четвертым опытом открытого, формального ограничения власти. Негласное вымогание свободы вызывалось нравственным недоверием к дурно воспитанной политической власти и страхом перед недоверчивым к правящему классу народом; формальное ограничение не удавалось вследствие розни среди самих господствующих классов» (19, с. 136. Выделено мною. – И.Г.). В конце ХХ в. состоялись и «сделка», и «формальное ограничение», но и они не стали окончательными.
[Закрыть]. При этом, чтобы эффективно служить «Дворцу», верховная власть должна быть (или хотя бы выглядеть) самостоятельной («не сделочной»), сильной, стабильной и национальной (точнее, национально-религиозной – как «борец» за «русскую народность» и православную веру). Ее возвышение – в интересах «дворцовых» акторов.
«Договорно-самодержавный» президент – глава корпорации «Россия–Дворец», ее охрана/«крыша», арбитр/модератор. В то же время – лидер одной из дворцовых «группировок», делегированный на самый верх с целью создания льготных условий для «своих». Экономическое могущество верховной власти основывается на размере и доходности ее доли «дворцового хозяйства». Бюджет – это те материальные средства, которые позволяют верховной власти «держать под своей рукой» других экономических акторов. (Кстати, бюджет страны очень походит на «дворцовый» общак; те, кто его держит, видимо, в большом авторитете.) Аппарат верховной власти (Администрация президента) регулирует внутренние (т.е. собственно «дворцовые») коммуникации, а персонификатор представляет «Дворец» «не-Дворцу» – исторически он является для граждан гарантом реализации государством его социальной функции.
«Царско-боярский сговор», лежащий в основе «Дворца», понимается народом («не-Дворцом») как «заговор против народа» или «коренная ложь» нового социального порядка5757
Характерно, что «многие наши сограждане не вполне уверены в том, что и президент России, и другие федеральные органы власти (правительство, парламент) обладают всей полнотой власти. Власть в стране, по мнению населения, достаточно равномерно распределена в своеобразном треугольнике: «федеральная власть (президент, парламент и правительство) – бюрократия – «олигархи». Так, 28,8% в 2006 г. полагали, что власть находится в руках президента и других федеральных органов. Примерно столько же (28,2%) считали, что ею обладает «гражданская» и «силовая» бюрократия, и 32,3% – олигархи. «Если население в целом чаще считает, что реальную власть в стране имеют олигархические кланы, то респонденты-чиновники полагают, что она находится в руках легитимных органов власти – президента, парламента, правительства (45,3 против 28,8%)… Единственное, в чем единодушны практически все респонденты, – это в том, что “российский народ” не оказывает никакого влияния на функционирование российской власти» (4, с. 93–94). Лишь 11% россиян, опрошенных рабочей группой Института социологии РАН в 2008 г., заявили, что знают, как сделать, чтобы их голос был услышан при принятии важных политических решений. Для сравнения: в Германии, Франции, Великобритании, Италии эта доля превышает 30%, в Швейцарии равна 45, в Дании – 52, в Голландии – 67% (38, с. 76–77).
[Закрыть]. Преодолению «лжи» (переводу ее в статус как бы «не бывшей», не существующей) служит имидж «народного» (избранного для и «под» народ) президента, «прессующего» «сильных людей» и потому противостоящего «Дворцу». Президент – народный покровитель и защитник – единственная точка пересечения народа и «дворцового государства», воплощенное преодоление их противостояния. Президент символизирует «народное» начало государства, обеспечивая «Дворцу» легитимность. Этим, с точки зрения господствующего «сословия», оправдывается президентская власть.
Симптоматично, что, по данным социологических исследований, «главную роль в повышении действенности отечественной бюрократии население отводит президенту страны» (4, с. 103). При этом «многочисленные опросы показывают, что в последнее время в российском обществе как никогда сильны антибюрократические умонастроения… Они сочетаются с запросом на сильное государство, справедливость и порядок» (4, с. 88, 91). Добавим также, что в «унии» крупного олигархического капитала и властвующей элиты россияне видят главный «механизм торможения», препятствующий выходу России на траекторию устойчивого развития (4, с. 91). Если обобщить эти данные, получается, что президент выводится гражданами за пределы российской бюрократии и как бы ставится над ней – ведь именно ему отведена роль ее «перевоспитателя»/контролера. Не связывается он и с «олигархами», не вписывается в их союз с административными элитами – президент выше всех «аристократических», узких и корыстных, интересов. (Понятно, что «антиаристократическая» риторика двух последних президентов совсем не случайна. Это сигнал об их соответствии массовым ожиданиям.)
Только президента граждане считают ответственным за справедливость, порядок, усиление государства и вполне способным их обеспечить5858
Как показывают опросы, «большинство россиян основную ответственность за дела в стране возлагают на главу государства и подконтрольные ему федеральные органы власти. Лишь четверть населения убеждена в том, что, центральная власть не должна отвечать за все, что происходит в стране» (4, с. 100). Интересно, что, высоко оценивая политическое влияние президента, граждане склонны занижать возможности его экономической власти: 42,8% опрошенных в 2005 г. полагали, что В. Путин оказывает решающее, по сравнению с бюрократией влияние на политическую жизнь страны, и только 18,3% считали, что его влияние так же велико в экономике. «Мнения чиновников распределились сходным образом: 52,9% отметили доминирующую роль В. Путина в политической сфере и… 26,1% – в экономической» (4, с. 95). Это своего рода способ «оберегания» президента (точнее, своих представлений о назначении русской верховной власти) – от подозрений в корысти, потакании частным интересам, а значит – жертвовании общими.
[Закрыть]. Президент является персонификатором этих традиционных ценностей, обязательно коррелирующих друг с другом, и, следовательно, точкой пересечения воображаемого (до́лжного) и реального государства. Граждане отводят ему роль идеального государственника (точнее, он – опора воображаемой конструкции «идеальное Российское государство»), а пороки системы склонны списывать на реальность (тех государство и государственников, с которыми имеют дело). Таким образом, в пользу президента, персонифицирующего идеальное государство, добровольно отчуждается функция общесоциального (коллективного, национального) жизнетворчества. При этом, делегируя на «самый верх» ответственность за налаживание общей жизни, россияне явно снимают ее с себя, а персонифицируя ответственность, по существу, отрицают идею государства как обезличенного, регулятивно-административного, правового механизма. Фактически речь идет о зафиксированном социологически взгляде на государство как на вотчину – правда, вотчину идеального государственника, способного дать то, чего в жизни нет, да и никогда не было (понятно, что сверхинтенсивный запрос на порядок/справедливость и обеспечивающее их сильное государство имеет компенсаторный, «замещенный» характер). Коллективное воображаемое становится питательной почвой для создания в реальности совсем другой, прямо противоположной модели, которая отторгается массовым сознанием как антиидеал – государства как «сословной» вотчины/«кормушки».
Вообще постоянное сопоставление постсоветским массовым человеком реального с идеалом, острый конфликт реального с воображаемым заслуживают особого внимания. Сопоставление и перенос («хороших» ментальных конструкций в «плохую» жизнь») – это способ преодоления разрыва между «до́лжным» и реальностью, который ощущается как радикальный. Представления получают в массовом сознании статус «хорошей реальности», противопоставляемой жизненному миру по принципу «свет»–«тьма» и служащей образцом его переделки, улучшения. Причем, только в воображении (это традиционный тип коллективного действия – за пределами реальной жизни). Так в нашей культуре компенсируются дефициты действительности, снижается уровень массовой тревожности от столкновений с нею.
Подобный тип разрядки (и высокая потребность в ней) свидетельствуют о том, насколько жизнь – внешние по отношению к частному мирку, коллективно создаваемые условия существования – подавляет нашего человека, как глубоко им переживается ее стрессогенный накал (действительность фактически воспринимается как одна сплошная угроза существованию), каким незащищенным и несамостоятельным он себя чувствует. Отбиться от жизни можно только в опоре на «своих» (семью, ближайшее окружение), через коррупцию, неформальные связи и еще цепляясь за идеальные опоры – мудрую и справедливую верховную власть, народное государство. Идеальная же модель государства – явление, исторически, культурно и ментально обусловленное. Можно сказать, что свои отношения с государством-идеалом большинство современных граждан строит подобно тому, как это делали дореволюционный крестьянин и простой советский человек в обозримой для исследователей ретроспективе (во всяком случае, в XIX–ХХ вв.). А президент в идеальной модели государства занимает приблизительно то же место, что царь и генеральный секретарь.
Причем речь идет о социальном явлении и его понимании, а не о конкретной личности и ее качествах. Иначе говоря, социальная нагрузка фигуры президента не меняется в зависимости от того, кто сейчас президент. Харизма персонификатора русской власти – это харизма «места», а не лица, его занимающего. Правда, люди оценивают, насколько персонификатор подходит к своей социальной роли (соответствует ли «месту»). В этом смысле современный исполнитель рассматривается ими, скорее, как «и.о.» президента, временно перешедшего на другую работу, или, если воспользоваться традиционной терминологией, «местоблюститель»5959
Ситуация «соправительства» дает уникальную возможность наблюдать процесс перераспределения верховной власти. К.Г. Холодковский обращает внимание на факт полного или частичного перемещения реальной власти в новое место вслед за лицом (45, с. 18–21). Причем в рамках такой комбинации лицу удалось подтвердить свою безальтернативность как главы страны. Интересна интерпретация В.Б. Пастухова, который считает Д. Медведева не политическим, а юридическим преемником В. Путина: ему отведена роль «трасти», доверительного управляющего. «Вполне возможно, – отмечает исследователь, – …что широкая вовлеченность российской политической элиты в офшорный бизнес подсказала ей методологию решения возникшей перед Путиным “проблемы 2008”. Привлечение доверительных управляющих экономическими активами так прочно вошло в русскую бизнес-практику, что использование этого механизма для решения политических задач казалось делом совершенно естественным» (30, с. 121). Доверительный управляющий, обладающий лишь правом подписи, – находка в духе «Дворца», интернационалиста, коммерсанта, советского «делового», не доверяющего никому и ничему.
[Закрыть]. Именно нынешний премьер выглядит как персонификатор и защитник народных интересов, потому так и воспринимается народом. При этом восприятие определяет не видимость (или не только она), а «правильное» наложение видимого (публичного образа персонификатора/защитника, представляемого подходящим, органично «вжившимся» в образ лицом) на соответствующую ментально-культурную матрицу.
Повторю, отношения «сословия» с президентской властью оформились в постсоветские времена как «договорные», а не «служебные». Однако в 2000-е верховная власть накопила достаточный ресурс, чтобы выступать в этих отношениях с позиции силы. Создание путинской «вертикали» следует понимать не только как процесс «собирания» (отъема и накопления) и «роста» за этот счет политической власти, но и укрепления механизмов контроля «дворцовых» собственности/собственников. Очевидно, что заставить такие механизмы эффективно работать могли только представители советской госбезопасности («силы порядка» русской системы, т.е. всегда полицейщины/террора), которые в 90-е приобрели опыт коммерческой деятельности (в основном – разрешения коммерческих споров и охраны/«крышевания»). Поэтому сейчас они – «центровые» «Дворца», его арбитражно-контролирующая основа. «Высшая власть», по точному выражению К.Г. Холодковского, выступает как «верховный арбитр теневой ресурсной конкуренции» (45, с. 16)6060
Для определения роли верховной власти очень подошел бы криминальный термин, использованный О. Крыштановской для описания «коалиции Путина»: она говорила о «смотрящих Кремля», я бы сказала – «смотрящий Кремль».
[Закрыть].
«Рост» верховной власти в 2000-е был во многом обеспечен запросом на нее «не-Дворца», отягощенного потребностью в идеальном государстве. Самим «Дворцом» политическая власть в значительной мере воспринимается как один из «путей» «дворцового» хозяйства, а также товар, который имеет свою цену (т.е. определенные условия владения). Наращивание ее престижа (внутреннего и международного) служит доказательством ее эффективности в рамках «Дворца». В этом смысле президент действительно напоминает управляющего корпорацией, а его окружение, вся бизнес-бюрократическая «элита» – корпоративный топ-менеджмент. Но это, подчеркну, скорее, самопонимание, образ «Дворца» для «Дворца» (для «служебного пользования»). Народу он давно уже не предлагается, так как никак не способствует решению «дворцовых» задач. Во внешних/публичных коммуникациях подчеркивается независимость верховной власти, ее удаленность от «Дворца». Только прикрываясь этим традиционным образом, она может представлять и защищать «дворцовые» интересы (т.е. и свои интересы тоже).
В то же время верховная власть все больше демонстрирует, что видит себя иначе, чем просто «наемным работником» на службе у «государства/корпорации». Это прежде всего означает, что амбиция у нас всегда далеко опережает наличные возможности. Персонификатор верховной власти больше не владеет «Дворцом» единолично. Но долгое пребывание на должности («магия места») активизирует властные владельческие инстинкты. «Дурно воспитанная» политическая власть стремится пересмотреть ограничившие ее «сделки», вернуть себе привычный самовластный (или «безотчетный», по Ключевскому (19, с. 137)), надправовой статус – «царя по Правде». Это представляет собой очевидную угрозу интересам других «дворцовых» акторов. И еще бо́льшую – народонаселению: самовластие – самая дурная и опасная русская болезнь. Но «не-Дворец» не хочет признавать, что инфицирован ею. Самовластие он трактует как благо для себя, рассчитывая, что царская «гроза» и «опала» коснутся только «аристократических», чуждых и враждебных ему элементов. То есть «не-дворцовые» «неакторы» верят, что накажут «по заслугам» и по справедливости, – а значит, не их, бессубъектных и безвинных. «Не-Дворец» ждет ограниченных (выборочных) репрессий так же напряженно, как и «царских» милостей (милостыни).
От номенклатуры – к «Дворцу»: элитарная логика
Кажется, что постсоветский опыт позволяет сформулировать один из «законов» «русской системы». Чем больше ослабевают репрессивный накал государства и страх перед ним населения, тем более очевидными становятся «убегание» от него граждан и его замыкание в себе, сопровождающееся минимизацией социальных функций и гипертрофированием личных и корпоративных (в том числе ведомственных, региональных) интересов в рамках государственной системы. По мере расширения объема общественных свобод (а происходит это «сверху» вниз – от «элит» к массам, причем определяющее значение имеют свободы социально-экономические, не установленные правовым порядком, а вырванные по «праву сильного», «захватом») государство все больше приобретает черты «дворцового». У государства должны быть сильные противовесы («переросшие» «дворцовую» логику элиты, гражданские силы), чтобы сопротивляться давлению этого внутреннего «механизма».
В позднесоветском государстве главным сдерживающим фактором была партия – партийные нормы, дисциплина, контроль, репрессия. Когда партии не стало, государство редуцировалось до «Дворца». Смысл деятельности постсоветского «дворцового государства» – самообеспечение. Государственные собственность и бюджет рассматриваются как «корм» «Дворца»; внутренние (непубличные, в основном нацеленные на согласование интересов между разными «дворцовыми» группировками) и внешние (их можно трактовать как платные услуги и разного рода «связи с общественностью») коммуникации все больше основываются на коррупционных механизмах6161
По современным подсчетам, к «теневой экономике», возросшей на коррупции, на излете существования СССР принадлежало около 18 млн. человек. Врастая в «теневые» связи, все больше криминализировались средние и низовые уровни советской власти. Постсоветский «Дворец», безусловно, имеет здесь свои корни. Его (среди прочего) продавила «теневая» масса, желавшая легализоваться и определять собой жизнь в стране. Ее главный жизненный принцип: «теневая» практика обслуживает частные интересы, т.е. используется «для себя». Этот принцип стал определять и «дворцовую» жизнь.
Здесь следует сделать существенную оговорку: то, что в нашей обыденной жизни принято называть коррупцией (в том числе обмен возможностями, услугами), не есть проблема «карающих» органов. Это не отклонение от нормы, болезнь, сопутствующее нормальной жизни частное явление, а способ существования социума. (Именно в такой интерпретации тема коррупции легализована в публичном пространстве. Сам президент, обсуждая антикоррупционную программу, назвал коррупцию одним из исторических механизмов осуществления власти в стране (см.: 45, с. 12). Однако следует понимать: публичные разговоры «верхов» о том, что все равно разворуют и иначе мы не можем, – не что иное, как легитимация коррупционности «Дворца».) И здесь главный вопрос: почему социум допускает существование такого механизма, более того, нуждается в нем? На него есть ответы, причем, на мой взгляд, взаимодополняющие. С.Г. Кордонский характеризует коррупцию как «систему связей по перераспределению ресурсов». По его мнению, «принципиальная непубличность в распределении и освоении ресурсов… есть имманентное свойство… системы сословно-ресурсного общественного устройства. Оно повсеместно и неискоренимо…» (21, с. 136). Ю.С. Пивоваров видит «корни» этого явления в передельной природе крестьянской дореволюционной, а затем советской социальности: «…коррупция советского периода есть наследник (по прямой) социальных отношений, господствовавших в передельной общине… Русское общество… по своей природе… перманентно-передельное. Переделы происходят периодически, с тем чтобы имущество не превратилось в собственность» (33, с. 55–56). В современных условиях коррупционный механизм, или «механизм передела финансовых и материальных средств», явился, как считает автор, важнейшим измерением «властной плазмы» – социально-властной среды, пришедшей на смену советской «властепопуляции». В этой среде «локализуются и минимизируются конфликты постсоветского общества» – отсюда и название, возникшее по аналогии с «социальной плазмой» Р. Дарендорфа (33, с. 42–45).
[Закрыть]. Причем, коррупция – это проявление свободы/автономии, на которых строится «Дворец». Не случайно советское государство (т.е. прежде всего ЦК–ГБ) боролось не с коррупцией как таковой, а с коррупционерами как свободными, автономными от партии/государства людьми (в том смысле, что поставили свои интересы выше партийно-государственных). Коррупционеры победили; ЦК–ГБ их возглавили.
Почему на «переходе» «от советского» сработал именно этот, «ущербный» с общесоциальной точки зрения вариант? Ведь он не был предопределен: в подобных условиях – последовательной всеобщей эмансипации (60-е годы XIX – начало XX в.) – не произошло трансформации государства в «Дворец». Вероятно, в основном потому, что правившие тогда не желали быть только «Дворцом», просто «Дворцом». Их интересы были неизмеримо шире и сложнее, потребности не ограничивались потребительскими (за них жажду материального, потребности низшего порядка удовлетворили предки). Достаточно широкий слой вполне европейской, культурно рафинированной элиты стал гарантией от появления «Дворца». Видимо, главная страховка от сползания к «дворцовому государству» в России – окультуривание элит, их дисциплинирование и гуманизация в рамках европейских ценностей. Только прививка «антропоцентричной» культуры способна привести к внутреннему самоограничению, укрощению «изнутри» (не царской дыбой и не народным бунтом) эгоизма «правящего сословия». Правда, в массовом, урбанистическом и образованном, обществе эволюция элит должна быть поддержана и направлена соответствующей социальной эволюцией.
Рождение «Дворца» (элитарного, «сословного» государства, понятного в XVIII в., но вроде бы несовместимого с условиями массового общества, глобального мира), повторю, обусловлено позднесоветским опытом. То есть опытом трансформации русского массово-мобилизационного общества в массовое потребительское и соответствующего «переформатирования» социального пространства. Инициаторами «перехода» от мобилизующего советского «общенародного» государства к демобилизованному «Дворцу» были позднесоветские «элиты». В советских условиях «наверх» попадали и там выживали сначала самые безжалостные, потом самые ловкие и всегда – самые беспринципные. Условием советской «элитарности» было поведение, противоречащее тому, что можно назвать народным интересом. В рамках «Дворца» оно получило иную, чем в советские времена, и притом самую естественную (а значит, и самую примитивную) реализацию – материалистическую, потребительскую.
На раскрепощение и выхолащивание из советской системы высшего смысла (осознание всеми – и прежде всего «верхами» – бессмысленности советской идеологии и советского порядка) «элиты» ответили единственным, чем могли ответить, – поставили себя, собственные потребности и интересы выше системы. И это понятно: она не оправдала себя – ни экономически, ни идеологически (см., напр.: 47). (Единственным ее оправданием сразу и уже навсегда стала война.) Ей не стоило служить, но можно было использовать ее возможности для себя. В позднесоветское время сформировалась критическая номенклатурная масса, которая захотела «Дворца». Она и начала его созидать. (Ю. Андропов и М. Горбачев, по существу, пытались переломить тенденцию эволюции позднесоветского государства к «Дворцу»: первый – репрессией, в логике «полицейского» государства; второй – стремясь легализовать и цивилизовать «теневую» экономику, в логике рынка, правового государства. Обе попытки не удались. В 1990-е годы еще сохранялся выбор в определении направления государственной эволюции: «Дворец» или нечто более современное, адекватное идее государства. Удачная экономическая конъюнктура, открывшая новые возможности для передела, окончательно смела «антидворцовые» перспективы.)
Потом инициативу перехватили «неноменклатурные пришельцы» – более «голодные», народные и соответствующие моменту выходцы из «низов», прорвавшиеся «наверх» в жестокой конкурентной борьбе «на уничтожение». Они придали творению новый смысл – модернизация быта (за счет заимствования улучшающих его западных технологий) и всеобщее потребительство. Привлекли еще национализм, призванный заменить советскую идею социальной справедливости и компенсировать великодержавные комплексы. Однако он, скорее, имитационен – у «Дворца» нет и не может быть высокой идеи, высшего смысла. Он их не приемлет. Потребительский эгоизм и инстинкт насыщения «правящего класса», не сдерживаемые ограничителями советских времен, – этим исчерпывается «Дворец». Поэтому он в принципе не способен предложить гражданам такой проект общества, который вызвал бы у них доверие, сформировать систему ценностей и норм солидарности, создать основу для роста коллективной ответственности и ощущения общей судьбы.
В конечном счете «Дворец» возник в ситуации «переопределения» позднесоветских «элит», их адаптации к новым историческим условиям. В государстве же «дворцового типа» по-иному проявилась варварская природа советского государства, очевидная во всем: хозяйствовании, администрировании, но главное – в отношении к человеку. Преемственность очевидна: и в том и в другом случае человек (не ЧеловекоВласть, а просто человек со своими потребностями и интересами) не рассматривается в качестве главной социальной перспективы. Наши системы строятся не для него. А он, движимый культурно-исторической логикой, парадоксальным образом соучаствует в их строительстве.
Исторические модели «Дворца»
Исторический опыт не берется из ничего и не может пройти бесследно. При всех изменениях в определенном социокультурном типе сохраняются некие определяющие для него черты, «технологии» самовыражения. Казалось, уже пережитые и забытые, они – при исчерпании каких-то функций и возможностей, в типологически сходных с прежними исторических условиях – возобновляются, начинают работать. Конечно, попадая в новую социальную, темпоральную, пространственную конфигурацию, ведут себя иначе. Но являются вполне узнаваемыми.
Таков феномен «Дворца». Это не случайность и не «вывих» – здесь не прав В.О. Ключевский. И не явление общего порядка, характерное для «большинства обществ переходного типа, в которых проводится авторитарно-бюрократическая модернизация»6262
Готовность списать всю «неудобную» российскую специфику на «переходный период» и «модернизацию» вообще характерна для современных исследователей. В эту специфику попадают и особые отношения нынешнего государства и граждан: «патерналистские представления о “должном” государстве, способном защитить своих граждан и реализовать их интересы», – и «сложившаяся практика подчинения интересов государственной бюрократии частным и корпоративным интересам, ее неспособность к реализации общественных запросов, общая неэффективность» (4, с. 88–89).
[Закрыть]. Видимо, в недрах Российского государства заложена «дворцовая программа» (или «дворцовый код») – иначе она не срабатывала бы. По существу, это «код» элементарности/упрощенчества, ориентирующий на существование по линии «наименьшего сопротивления». Он (среди прочего) составляет качество русской культуры, русской государственной традиции. В процессе исторического «оцивилизовывания», «окультуривания» наше государство преодолевало в себе «Дворец», переставало быть только «Дворцом», приобретая черты «регулярного», «полицейского», «правового», «социального». В какой-то мере «дворцовые» инстинкты ограничивала религия, затем – коммунистическая идеология.
Однако в разные периоды своего существования русское государство, повторю, сохраняло (среди прочего) черты «дворцового». В истории заметны по крайней мере два варианта «Дворца».
«Большой Дворец» (это «классический вариант», следствие демобилизационного беспорядка) – его составляет достаточно большой круг людей, допущенных к элитарному «перемолоту» наличной доходной материи. Чем шире этот круг, тем больше имущественное неравенство, но и пространство общественных свобод. Это времена дворянских вольностей, усиления аристократии, требующей себе не только имущественных, но и личных прав. Отказываясь платить по общесоциальным счетам (служить и жертвовать во имя национальных интересов), «элита» «большого Дворца» «скатывается» к «римско-ренессансному» типу.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































