Текст книги "Антология мировой философии. Античность"
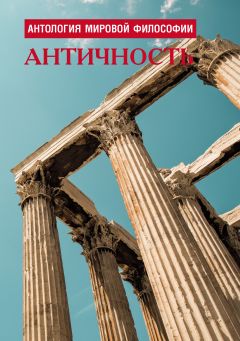
Автор книги: Коллектив авторов
Жанр: Философия, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 17 (всего у книги 61 страниц) [доступный отрывок для чтения: 20 страниц]
Учение об «идеях»
«После этого-то, – сказал я, – нашу природу, со стороны образования и необразованности, уподобь вот какому состоянию. Вообрази людей как бы в подземном пещерном жилище, которое имеет открытый сверху и длинный во всю пещеру вход для света. Пусть люди живут в ней с детства, скованные по ногам и по шее так, чтобы, пребывая здесь, могли видеть только то, что находится пред ними, а поворачивать голову вокруг от уз не могли. Пусть свет доходит до них от огня, горящего далеко вверху и позади их, а между огнем и узниками на высоте пусть идет дорога, против которой вообрази стену, построенную наподобие ширм, какие ставят фокусники пред зрителями, когда из-за них показывают свои фокусы». – «Воображаю», – сказал он. – Смотри же: мимо этой стены люди несут выставляющиеся над стеною разные сосуды, статуи и фигуры, то человеческие, то животные, то каменные, то деревянные, сделанные различным образом, и что будто бы одни из проносящих издают звуки, а другие молчат». – «Странный начертываешь ты образ и странных узников», – сказал он. – «Похожих на нас», – примолвил я. – «Разве ты думаешь, что эти узники на первый раз как в себе, так и один в другом видели что-нибудь иное, а не тени, падавшие от огня на находящуюся пред ними пещеру?» – «Как же иначе, – сказал он, – если они принуждены во всю жизнь оставаться с неподвижными-то головами?» – «А предметы проносимые – не то же ли самое?» – «Что же иное?» – «Итак, если они в состоянии будут разговаривать друг с другом, не думаешь ли, что им будет представляться, будто, называя видимое ими, они называют проносимое?» – «Необходимо». – «Но что, если бы в этой темнице прямо против них откликалось и эхо, как скоро кто из проходящих издавал бы звуки, к иному ли чему, думаешь, относили бы они эти звуки, а не к проходящей тени?» – «Клянусь Зевсом, не к иному», – сказал он. «Да и истиною-то, – примолвил я, – эти люди будут почитать, без сомнения, не что иное, как тени». – «Весьма необходимо, – сказал он. «Наблюдай же, – продолжал я, – пусть бы при такой их природе приходилось им быть разрешенными от уз и получить исцеление от бессмысленности, какова бы она ни была; пусть бы кого-нибудь из них развязали, вдруг принудили встать, поворачивать шею, ходить и смотреть вверх на свет: делая все это, не почувствовал ли бы он боли и от блеска, не ощутил ли бы бессилия взирать на то, чего прежде видел тени? И что, думаешь, сказал бы он, если бы кто стал ему говорить, что тогда он видел пустяки, а теперь, повернувшись ближе к сущему и более действительному, созерцает правильнее, и, если бы даже, указывая на каждый проходящий предмет, принудили его отвечать на вопрос, что такое он, пришел ли бы он, думаешь, в затруднение и не подумал ли бы, что виденное им тогда истиннее, чем указываемое теперь?» – «Конено, – сказал он. «Да хотя бы и принудили его смотреть на свет, не страдал ли бы он глазами, не бежал ли бы, повернувшись к тому, что мог видеть, и не думал ли бы, что это действительно яснее указываемого?» – «Так, – сказал он. «Если же кто, – продолжал я, – стал бы влечь его насильно по утесистому и крутому всходу и не оставил бы, пока не вытащил на солнечный свет, то не болезновал ли бы он и не досадовал ли бы на влекущего и, когда вышел бы на свет, ослепляемые блеском глаза могли ли бы даже видеть предметы, называемые теперь истинными?» – «Вдруг-то, конечно, не могли бы, – сказал он. «Понадобилась бы, думаю, привычка, кто захотел бы созерцать горнее: сперва легко смотрел бы он только на тени, потом на отражающиеся в воде фигуры людей и других предметов, а наконец, и на самые предметы; и из этих находящиеся на небе и самое небо легче видел бы ночью, взирая на сияние звезд и луны, чем днем – солнце и свойства солнца». – «Как не легче!» – «И только, наконец, уже, думаю, был бы в состоянии усмотреть и созерцать солнце – не изображение его в воде и в чуждом месте, а солнце само в себе, в собственной его области». – «Необходимо», – сказал он. – «И после этого-то лишь заключил бы о нем, что оно означает времена и лета и, в видимом месте всем управляя, есть некоторым образом причина всего, что усматривали его товарищи». – «Ясно», – сказал он, – «что от того перешел бы он к этому». – «Что же, вспоминая о первом житье, о тамошней мудрости и о тогдашних узниках, не думаешь ли, что свою перемену будет он ублажать, а о других жалеть?» – «И очень». – «Вспоминая также о почестях и похвалах, какие тогда воздаваемы были им друг от друга, и о наградах тому, кто с проницательностью смотрел на проходящее и внимательно замечал, что обыкновенно бывает прежде, что потом, что идет вместе, и из этого-то могущественно угадывал, что имеет быть – пристрастен ли он будет, думаешь, к этим вещам и станет ли завидовать людям между ними почетным и правительственным или скорее придет к мысли Гомера и сильно захочет лучше идти в деревню работать на другого человека, бедного, и терпеть что бы то ни было, чем водиться такими мнениями и так жить?» – «Так и я думаю, – сказал он, – лучше принять всякие мучения, чем жить по-тамошнему». – «Заметь и то, – продолжал я, – что если бы такой сошел опять в ту же сидельницу и сел, то после солнечного света глаза его не были ли бы вдруг объяты мраком?» – «Уж конечно, – сказал он. – «Но, указывая опять, если нужно, на прежние тени и споря с теми всегдашними узниками, пока не отупел бы, установив снова свое зрение – для чего требуется некратковременная привычка, – не возбудил ли бы он в них смеха и не сказали ли бы они, что, побывав вверху, он возвратился с поврежденными глазами и что поэтому не следует даже пытаться восходить вверх? А кто взялся бы разрешить их и возвесть, того они, лишь бы могли взять в руки и убить, убили бы». – «Непременно, – сказал он. «Так этот-то образ, любезный Главкон, – продолжал я, – надобно весь прибавить к тому, что сказано прежде, видимую область зрения уподобляя житью в узилище, а свет огня в нем – силе солнца. Если притом положишь, что восхождение вверх и созерцание горнего есть восторжение души в место мыслимое, то не обманешь моей надежды, о которой желаешь слышать. Бог знает, верно ли это; но представляющееся мне представляется так: на пределах ведения идея блага едва созерцается; но, будучи предметом созерцания, дает право умозаключать, что она во всем есть причина всего правого и прекрасного, в видимом родившая свет и его господина, а в мыслимом сама госпожа, дающая истину и ум, и что желающий быть мудрым в делах частных и общественных должен видеть ее». – «Тех же мыслей и я, – сказал он, – только бы мочь как-нибудь». – «Ну так прими и ту мысль, – примолвил я, – и не удивляйся, что здешние пришлецы не хотят жить по-человечески, но душами своими возносятся вверх, чтобы обитать там; ибо это естественно, если только, по начертанному образу, справедливо (Государство, 514 А – 517 D).
Я хочу показать тебе тот вид причины, который я исследовал, и вот я снова возвращаюсь к известному и сто раз слышанному и с него начинаю, полагая за основу, что существует прекрасное само по себе, и благое, и великое, и все прочее. Если ты согласишься со мною и признаешь, что так оно и есть, я надеюсь, это позволит мне открыть и показать тебе причину бессмертия души (Федон, 100 В).
Кто, правильно руководимый, достиг такой степени познания любви, тот в конце этого пути увидит вдруг нечто удивительно прекрасное по природе, то самое, Сократ, ради чего и были предприняты все предшествующие труды, нечто, во-первых, веное, то есть не знающее ни рождения, ни гибели, ни роста, ни оскудения, а во-вторых, не в чем-то прекрасное, а в чем-то безобразное, не когда-то, где-то, для кого-то и сравнительно с чем-то прекрасное, а в другое время, в другом месте, для другого и сравнительно с другим безобразное. Красота эта предстанет ему не в виде какого-то лица, рук или иной части тела, не в виде какой-то речи или науки, не в чем-то другом, будь то животное, земля, небо или еще что-нибудь, а сама по себе, через себя самое, всегда одинаковая; все же другие разновидности прекрасного причастны к ней таким образом, что они возникают и гибнут, а ее не становится ни больше, ни меньше и никаких воздействий она не испытывает. И тот, кто благодаря правильной любви к юношам поднялся над отдельными разновидностями прекрасного и начал постигать эту высшую красоту, тот, пожалуй, почти у цели (Пир, 210 Е – 211 В).
– А что мы скажем о многих прекрасных вещах, ну, допустим, о прекрасных людях, или плащах, или конях, что мы скажем о любых других вещах, которые называют тождественными или прекрасными, короче говоря, обо всем, что одноименно вещам самим по себе? Они тоже неизменны или в полную противоположность тем, первым, буквально ни на миг не остаются неизменными ни по отношению к самим себе, ни по отношению друг к другу?
– И снова ты прав, – ответил Кебет, – они все время меняются (Федон, 78 Е).
– Тогда давай обратимся к тому, о чем мы говорили раньше. То бытие, существование которого мы выясняем в наших вопросах и ответах, – что же, оно всегда неизменно и одинаково или в разное время иное? Может ли равное само по себе, прекрасное само по себе, все вообще существующее само по себе, то есть бытие, претерпеть какую бы то ни было перемену? Или же любая из этих вещей, единообразная и существующая сама по себе, всегда неизменна и одинакова и никогда, ни при каких условиях ни малейшей перемены не принимает?
– Они должны быть неизменны и одинаковы, Сократ, – отвечал Кебет (Федон, 78 D).
Мысль Бога питается разумом и чистым знанием, как и мысль всякой души, которая стремится воспринять то, что ей подобает; поэтому она, когда видит сущее хотя бы время от времени, любуется им, питается созерцанием истины и блаженствует, пока небесный свод, описав круг, не перенесет ее опять на то же место. В своем круговом движении она созерцает самое справедливость, созерцает рассудительность, созерцает знание, не то знание, которому свойственно возникновение, и не то, которое меняется в зависимости от изменений того, что мы теперь называем бытием, но то настоящее знание, что заключается в подлинном бытии (Федр, 247 D – Е).
Под красотою форм я пытаюсь теперь понимать не то, что хочет понимать под нею большинство, т. е. красоту живых существ или картин; нет, я имею в виду прямое и круглое, в том числе, значит, поверхности и тела, изготовляемые при помощи токарного резца, а также фигуры, построяемые с помощью отвесов и угломеров, – постарайся хорошенько понять меня. В самом деле, я называю это прекрасным не по отношению к чему-либо, как это можно сказать о других вещах, но вечно прекрасным само по себе, по своей природе, и возбуждающим некоторые особенные, свойственные только ему, наслаждения, не имеющие ничего общего с удовольствием от щекотания. Есть и цвета, носящие тот же самый характер (Филеб, 51 С – D).
Сократ. Как же не нелепо думать, что блага и красоты нет ни в телах, ни во многом другом и что оно заключено только в душе; да и здесь оно сводится к одному наслаждению, мужество же, благоразумие, ум и другие блага, выпадающие на долю души, не таковы. К тому же при этих условиях ненаслаждающийся, страдающий принужден был бы сказать, что он дурен, когда страдает, хотя бы он был самым лучшим из людей, а наслаждающийся, напротив, чем более он наслаждается, тем более преуспевал бы в добродетели во время наслаждения (Филеб, 55 В).
«Это, доставляющее истинность познаваемому и дающее силу познающему, называй идеею блага, причиною знания и истины, поскольку она познается умом. Ведь сколь ни прекрасны оба этих предмета – знание и истина, ты, предполагая другое еще прекраснее их, будешь предполагать справедливо. Как там свет и зрение почитать солнцеобразными справедливо, а солнцем несправедливо, так и здесь оба этих предмета – знание и истину – признавать благовидными справедливо, а благом которое-нибудь из них несправедливо; но природу блага надобно ставить еще выше». – «О чрезвычайной красоте говоришь ты, – сказал он, – если она доставляет знание и истину, а сама красотою выше их; ведь не удовольствие же, вероятно, разумеешь ты под нею?» – «Говори лучше, – примолвил я, – и скорее вот еще как созерцай ее образ». – «Как?» – «Солнце, скажешь ты, доставляет видимым предметам не только, думаю, способность быть видимыми, но и рождение, и возрастание, и пищу, а само оно не рождается». – «Да как же!» – «Так и благо, надобно сказать, доставляет познаваемым предметам не только способность быть познаваемыми, но и существовать и получать от него сущность, тогда как благо не есть сущность, но по достоинству и силе стоит выше пределов сущности» (Государство, 508 Е – 509 В).
Тогда как в природе вещей, друг мой, есть образцы (один божественный – образец счастия, другой безбожный – образец страдания), люди, не видящие, что это так, по глупости и крайнему безумию не замечают, что одному они несправедливыми действиями уподобляются, а от другого отступают, и через это, проводя жизнь, соответствующую тому, которому уподобляются, несут наказание (Теэтет, 176 Е).
Объясним же, ради какой причины устроитель устроил происхождение вещей и это все. Он был добр; в добром же никакой ни к чему и никогда не бывает зависти. И вот, чуждый ее, он пожелал, чтобы все было по возможности подобно ему. Кто принял бы от мужей мудрых учение, что это именно было коренным началом происхождения вещей и космоса, тот принял бы это весьма правильно. Пожелав, чтобы все было хорошо, а худого по возможности ничего не было, Бог таким-то образом все подлежащее зрению, что́ застал не в состоянии покоя, а в нестройном и беспорядочном движении, из беспорядка привел в порядок, полагая, что последний всячески лучше первого. Но существу превосходнейшему как не было прежде, так не дано и теперь делать что иное, кроме одного прекрасного (Тимей, 29 Е – 30 А).
И тело неба сделалось, конечно, видимо, но сама душа, участница мышления и гармонии, осталась незрима, как наилучшее из творений, рожденное наилучшим из доступных одному мышлению вечных существ. Будучи смешана из природы тождества, природы иного и из сущности – из этих трех частей, – разделена и связана пропорционально и вращаясь около себя самой, душа при соприкосновении с чем-либо имеющим ту или другую сущность – разлагающуюся или неделимую – действием всей своей природы открывает, чему что тождественно и от чего что отлично, к чему особенно, где, как и когда может что относиться, деятельно или страдательно, каждое к каждому, все равно, принадлежит оно к природе рождающегося или пребывающего всегда тождественным (Тимей, 37 А – В).
Бог, по древнему сказанию, держит начало, конец и середину всего сущего. По прямому пути Бог приводит все в исполнение, хотя по природе своей он вечно обращается в круговом движении. За ним всегда следует правосудие, мстящее отстающим от божественного закона. Кто хочет быть счастлив, должен держаться его и следовать за ним смиренно и в строгом порядке. Если же кто вследствие надменности превозносится богатством, почестями, телесным благообразием; если кто юностью, неразумием и наглостью распаляет свою душу, так что считает, будто ему уже не нужен ни правитель, ни руководитель, но будто он сам годится в руководители другим, – такой человек остается позади, будучи лишен Бога. Оставшись позади и подобрав еще других, себе подобных, он мечется, приводя все в смятение (Законы, 716 А – В).
Сократ. Удел блага необходимо ли совершенен или же нет?
Протарх. Надо полагать, Сократ, что он – наисовершеннейший.
Сократ. Что же? Довлеет ли себе благо?
Протарх. Как же иначе? В этом его отличие от всего сущего.
Сократ. Значит, полагаю я, совершенно необходимо утверждать о нем, что все познающее охотится за ним, стремится к нему, желая схватить его и завладеть им, и не заботится ни о чем, кроме того, что может быть достигнуто вместе с благом (Филеб, 20 D).
Сократ. Итак, если мы не в состоянии уловить благо одною идеею, то поймаем его тремя – красотою, соразмерностью и истиной; сложивши их как бы воедино, мы скажем, что это и есть действительная причина того, что содержится в смеси, и благодаря ее благости самая смесь становится благом (Филеб, 65 А).
Сократ. Будем же судить об отношении трех названных начал к наслаждению и уму, беря их порознь. Ибо нужно посмотреть, к наслаждению или к уму мы отнесем каждое из них как более сродное.
Протарх. Ты имеешь в виду красоту, истину и меру?
Сократ. Да. Прежде всего возьми, Протарх, истину. Взяв ее и присмотревшись к этим трем началам: уму, истине и наслаждению, выжди продолжительное время и затем отвечай самому себе, что более сродно истине – наслаждение или ум?
Протарх. К чему тут время! Думаю, они очень разнятся. Ведь, согласно общераспространенному мнению, ничему так не присуща хвастливость, как наслаждению, а в любовных наслаждениях, которые кажутся самыми сильными, даже клятвопреступление получает прощение со стороны богов, так как наслаждения подобно детям лишены всяких признаков ума. Ум же или тождествен с истиною, или всего более подобен и близок ей.
Сократ. Вслед за этим рассмотри таким же образом меру: наслаждение ли обладает ею в большей степени, чем рассудительность, или же рассудительность в большей степени, чем наслаждение?
Протарх. И эту предложенную тобою задачу решить нетрудно. Я думаю, что в целом мире нельзя найти ничего столь неумеренного по природе, как наслаждение и буйная радость, и ничего столь проникнутого мерою, как ум и знание.
Сократ. Хорошо сказано. Но скажи еще и о третьем. Ум ли наш более причастен красоте, чем наслаждение, так что он прекраснее наслаждения, или же наоборот?
Протарх. Что касается рассудительности и ума, Сократ, то никто никогда ни наяву, ни во сне не видел и не думал ни в каком отношении и никоим образом, что ум был, есть или будет безобразным.
Сократ. Правильно.
Протарх. Что же касается наслаждений, и притом, пожалуй, величайших, то, когда мы видим кого-либо предающегося наслаждениям и подмечаем в них или нечто смешное, или крайне безобразное, мы и сами стыдимся и заботливо скрываем их, предоставляя такие дела ночи, как если бы свету не надлежало видеть их.
Сократ. Стало быть, ты, Протарх, будешь всячески утверждать – и через вестников, и лично обращаясь к присутствующим, – что наслаждение не есть ни первое достояние, ни даже второе, но что на первом месте стоит некоторым образом все относящееся к мере, измеримости и благовремению и все подобное, что надлежит считать принимающим вечную природу.
Протарх. Из сказанного сейчас это кажется очевидным.
Сократ. Второе место занимает соразмерное, прекрасное, совершенное и достаточное и все то, что относится к этому роду.
Протарх. Похоже на то.
Сократ. Поставив же на третье место, согласно моей догадке, ум и рассудительность, ты, я думаю, не очень уклонишься от истины.
Протарх. Пожалуй.
Сократ. Ты не ошибешься также, отведя четвертое место, сверх только что названных трех, тому, что было признано нами свойствами самой души, то есть знаниям, искусствам и так называемым правильным мнениям, коль скоро все это более родственно благу, чем наслаждение. Не правда ли?
Протарх. Может быть.
Сократ. Не поставить ли на пятом месте те наслаждения, которые мы определили как беспечальные и назвали чистыми наслаждениями самой души, сопровождающими в одних случаях знания, а в других – ощущения?
Протарх. Пожалуй (Филеб, 65 В – 66 С).
Учение об «идеях» в «Пармениде»
Парменид сказал: «Сократ! твоя ревность к исследованиям достойна удивления. Но скажи мне: сам ли ты так различил, как говоришь, особо – некоторые виды сами в себе и особо – то, что́ им причастно? И кажется ли тебе само подобие чем-нибудь отдельным от того, которое есть у нас, равно как одно, многое и все, про что теперь слышал ты от Зенона?» – «Кажется», – отвечал Сократ. «И ты принимаешь, – спросил Парменид, – особый некоторый вид для таких явлений, как справедливое, прекрасное, доброе и все такое?» – «Да», – сказал он. «Что же, и вид человека, особый от нас и от всего такого, каковы мы, то есть некоторый самобытный вид человека или огня или воды?» – «Касательно этих предметов, Парменид, – отвечал Сократ, – часто был я в недоумении, до́лжно ли полагать о них то же, что о других, или иное». – «Не недоумеваешь ли ты и в отношении таких вещей, Сократ, – для них оно было бы и смешно, – каковы, например, волос, грязь, нечистота или что-либо иное, самое презренное и ничтожное; до́лжно ли и для каждой из них полагать особый вид, отличный от того, что берем мы руками, или не до́лжно?» – «Никак, отвечал – Сократ, – в этих-то, что́ мы видим, то́ одно и есть: представлять еще некоторый вид таких вещей – ка́к бы не было слишком странно. Меня, впрочем, уже беспокоит иногда мысль, не вышло бы того же и со всем другим; но если остановлюсь на этом, я готов потом бежать из страха, как бы не провалиться и не погибнуть в какой-то бездонной болтовне. И вот, пришедши мышлением сюда – к тем видам, о которых теперь только говорили, – я рассуждаю о них испытательно». – «Потому что ты еще молод, Сократ, – сказал Парменид, – и философия пока не охватила тебя, как охватит, по моему мнению, когда не будешь пренебрегать ничем этим. Теперь ты, по своему возрасту, смотришь еще на человеческие мнения. Скажи-ка мне вот что: тебе кажется, говоришь, что есть некоторые виды, от которых прочие вещи по участию в них получают свои названия; причастная, например, подобию становится подобною, величине – великою, красоте и справедливости – справедливою и прекрасною». – «Конечно», – сказал Сократ. «Но каждая, воспринимающая вид, весь ли его воспринимает или часть? Или воспринятие возможно еще иное, помимо этого?» – «Но какое же?» – сказал он. «Так думаешь ли, что весь вид, составляя одно, содержится в каждой из многих вещей, или как?» – «Да что же препятствует, Парменид, содержаться ему?» – отвечал Сократ. «Следовательно, будучи одним и тем же самым во многих вещах, существующих особо, он будет содержаться во всех всецело и таким образом обособится сам от себя». – «Не обособится, – возразил Сократ, – как, например, день, будучи одним и тем же, в одно и то же время находится во многих местах и оттого нисколько не отделяется сам от себя, так, может быть, и каждый из видов содержится во всем, как один и тот же». – «Куда любезен ты, Сократ, – сказал Парменид, – что одно и то же полагаешь во многих местах, все равно как если бы, закрыв завесою многих людей, говорил, что одно находится на многих всецело. Или не это, думаешь, выражают твои слова?» – «Может быть», – отвечал он. «Так вся ли завеса была бы на каждом или части ее – по одной?» – «Части». – «Стало быть, и самые виды делимы, Сократ, – сказал Парменид, – и причастное им должно быть причастно частей, и в каждой вещи будет уже не целый вид, а всегда часть». – «Представляется, конечно, так». – «Что же? захочешь ли утверждать, Сократ, что вид, как одно, у нас действительно делится и, делясь, все-таки будет одно?» – «Отнюдь нет», – отвечал он. «Смотри-ка, – продолжал Парменид – если ты будешь делить самую великость и каждый из многих больших предметов окажется велик ее частью, которая меньше самой великости, – не представится ли это несообразным?» – «Конечно», – сказал он. «Что же, каждая вещь, получив какую-нибудь часть равного, – которая меньше в сравнении с самым равным, – будет ли заключать в себе нечто, чем сравняется с какою-либо вещью?» – «Невозможно». – «Но положим, кто-либо из нас примет часть малости: сама малость будет больше ее, так как это ее часть. И тогда как сама малость окажется больше, то́, к чему приложится отнятое, станет, напротив, меньше, а не больше, чем прежде». – «И этого-то быть не должно», – сказал Сократ. «Каким же образом, Сократ, – спросил Парменид, – все прочее будет причастно у тебя видов, когда не может принимать их ни по частям, ни целыми?» – «Клянусь Зевсом!» – отвечал Сократ. «Такое дело, мне кажется, вовсе не легко решить». – «Что же теперь? Как ты думаешь вот о чем?» – «О чем?» – «Я полагаю, что ты каждый вид почитаешь одним по следующей причине. Когда покажется тебе много каких-нибудь величин, ты, смотря на все их, представляешь, может быть, одну какую-то идею и отсюда великое почитаешь одним». – «Это правда», – сказал он. «А что само великое с прочими величинами? Если таким же образом взглянешь душою на все, не представится ли опять одно великое, через которое по необходимости все это является великим?» – «Вероятно». – «Стало быть, тут представится иной вид великости, происшедший независимо от самой великости и от того, что причастно ей, а над этими всеми – опять другой, по которому выйдут великости эти, – и каждый из видов уже не будет у тебя один, но откроется их бесконечное множество». – «Но каждый из видов, Парменид, – заметил Сократ, – не есть ли мысль? А мысли негде больше быть, как в душах: так-то каждый остался бы, конечно, одним, и не подвергался бы уже тому, о чем сейчас было говорено». – «Так что же?» – спросил Парменид. «Каждая мысль будет одно, но мысль – ни о чем?» – «Но это невозможно», – отвечал он. «Значит, о чем-нибудь?» – «Да». – «Существующем или не существующем?» – «Существующем». – «Не об одном ли чем, что́ мыслится как присущее всему и представляет одну некоторую идею?» – «Да». – «Так не вид ли будет это мыслимое одно, всегда тождественное во всем?» – «Необходимо». – «Что же теперь? – спросил Парменид. – Если все прочие вещи причастны, говоришь, видов, то не необходимо ли тебе думать, что либо каждая вещь относится к мыслям и все мыслит, либо относящееся к мыслям немысленно?» – «Но и это не имело бы смысла, – отвечал он. – Впрочем, мне-то, Парменид, скорее всего представляется так: эти виды стоят в природе как бы образцы, а прочие вещи подходят к ним и становятся подобиями; так что самая причастность их видам есть не иное что, как уподобление им» (Парменид, 130 В – 132 D).
«Однако ж это, Сократ, – продолжал Парменид, – и весьма многое иное кроме этого необходимо связано с видами, если они суть идеи существенностей и если будем каждый из них определять как что-то само по себе, так что слушатель станет недоумевать и сомневаться: есть ли в самом деле такие виды, а когда они непременно есть, то ведь крайне необходимо быть им для природы человеческой непознаваемыми. И кто так говорит, тому не только кажется, что он судит здраво, но даже, как мы сейчас сказали, удивительно было бы, если бы говорящего это можно было переуверить. Надо быть человеком очень даровитым, чтобы уразуметь, что есть некоторый род каждой вещи и сущность сама по себе; но еще более удивительным, чтоб и открыть самому, и суметь наставить другого, разобрав все это достаточно». – «Я уступаю тебе, Парменид, – сказал Сократ, – потому что слова твои мне очень по мысли». – «Между тем, Сократ, – продолжал Парменид, – если уже кто, смотря на все, что было теперь говорено, и на другое подобное, не допустит, чтоб были виды существенностей, и не будет определять вида для каждой вещи, то, не допуская идеи каждой из существенностей как идеи всегда тождественной, он и не найдется, к чему направить свою мысль, – и таким образом совершенно упразднит возможность собеседования» (Парменид, 135 А – С).
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































