Текст книги "Антология мировой философии. Античность"
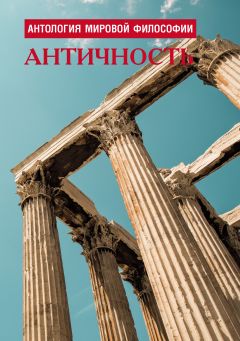
Автор книги: Коллектив авторов
Жанр: Философия, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 18 (всего у книги 61 страниц) [доступный отрывок для чтения: 20 страниц]
Учение о знании
«Кого же из небесных богов признаешь ты господствующею причиною, по которой свет делает то, что зрение у нас прекрасно видит, а зримое видится?» – «Того же, кого и ты, и другие, – сказал он, – явно, что спрашиваешь о солнце». – «Не прирождено ли наше зрение к этому Богу?» – «Как?» – «Солнце не есть ни зрение само по себе, ни то, в чем оно находится и что мы называем глазом». – «Конечно нет». – «Глаз есть только солнцеобразнейшее, думаю, из чувственных орудий». – «И очень». – «Так и сила, которую имеет это орудие, не получается ли как бы хранящаяся в нем, в виде истечения?» – «Без сомнения». – «Следовательно, и солнце, хотя оно не зрение, не есть ли причина зрения, которым само усматривается?» – «Так», – сказал он. «Полагай же, – примолвил я, – что это-то называется у меня порождением блага, поскольку оно родило подобное себе благо» (Государство, 508 А – В).
Когда родилась Афродита, боги собрались на пир, и в числе их был Порос, сын Метиды. Только они отобедали – а еды у них было вдоволь, – как пришла просить подаянья Пения и стала у дверей. И вот Порос, охмелев от нектара – вина тогда еще не было, – вышел в сад Зевса и, отяжелевший, уснул. И тут Пения, задумав в своей бедности родить ребенка от Пороса, прилегла к нему и зачала Эрота. Вот почему Эрот – спутник и слуга Афродиты: ведь он был зачат на празднике рожденья этой богини; кроме того, он по самой своей природе любит красивое: ведь Афродита – красавица. Поскольку же он сын Пороса и Пении, дело с ним обстоит так: прежде всего, он всегда беден и вопреки распространенному мнению совсем не красив и не нежен, а груб, неопрятен, не обут и бездомен; он валяется на голой земле, под открытым небом, у дверей, на улицах и, как истинный сын своей матери, из нужды не выходит. Но с другой стороны, он по-отцовски тянется к прекрасному и совершенному, он храбр, смел и силен, он искусный ловец, непрестанно строящий козни, он жаждет рассудительности и достигает ее, он всю жизнь занят философией, он искусный колдун, чародей и софист. По природе своей он ни бессмертен, ни смертен: в один и тот же день он то живет и цветет, если дела его хороши, то умирает, но, унаследовав природу отца, оживает опять. Все, что он ни приобретет, идет прахом, отчего Эрот никогда не бывает ни богат, ни беден.
Он находится также посредине между мудростью и невежеством, и вот почему. Из богов никто не занимается философией и не желает стать мудрым, поскольку боги и так уже мудры; да и вообще тот, кто мудр, к мудрости не стремится. Но не занимаются философией и не желают стать мудрыми опять-таки и невежды. Ведь тем-то и скверно невежество, что человек не прекрасный, не совершенный, не умный вполне доволен собой. А кто не считает, что в чем-то нуждается, тот и не желает того, в чем, по его мнению, не испытывает нужды (Пир, 203 В – 204 А).
Раз душа бессмертна, часто рождается и видела все и здесь, и в Аиде, то нет ничего такого, чего бы она не познала; поэтому ничего удивительного нет в том, что и насчет добродетели, и насчет всего прочего она способна вспомнить то, что прежде ей было известно. И раз все в природе друг другу родственно, а душа все познала, ничто не мешает тому, кто вспомнил что-нибудь одно, – люди называют это познанием, – самому найти и все остальное, если только он будет мужествен и неутомим в поисках: ведь искать и познавать – это как раз и значит припоминать (Менон, 81 С – D).
Сократ. А ведь найти знания в самом себе – это и значит припомнить, не так ли?
Менон. Конечно.
Сократ. Значит, то знание, которое у него есть сейчас, он либо когда-то приобрел, либо оно всегда у него было?
Менон. Да.
Сократ. Если оно всегда у него было, значит, он всегда был знающим, а если он его когда-либо приобрел, то уж никак не в нынешней жизни. Не приобщил же его кто-нибудь к геометрии? Ведь тогда его обучили бы всей геометрии, да и прочим наукам. Но разве его кто-нибудь обучал всему? Тебе это следует знать хотя бы потому, что он родился и воспитывался у тебя в доме.
Менон. Да, я отлично знаю, что никто его ничему не учил.
Сократ. А все-таки есть у него эти мнения или нет?
Менон. Само собой, есть, Сократ, ведь это очевидно.
Сократ. А если он приобрел их не в нынешней жизни, то разве не ясно, что они появились у него в какие-то иные времена, когда он и выучился [всему]?
Менон. И это очевидно.
Сократ. Не в те ли времена, когда он не был человеком?
Менон. В те самые.
Сократ. А поскольку и в то время, когда он уже человек, и тогда, когда он им еще не был, в нем должны жить истинные мнения, которые, если их разбудить вопросами, становятся знаниями, – не все ли время будет сведущей его душа? Ведь ясно, что он все время либо человек, либо не человек.
Менон. Разумеется.
Сократ. Так если правда обо всем сущем живет у нас в душе, а сама душа бессмертна, то не следует ли нам смело пускаться в поиски и припоминать то, чего мы сейчас не знаем, то есть не помним? (Менон, 85 D – В).
Человек должен постигать общие понятия, складывающиеся из многих чувственных восприятий, но сводимые разумом воедино. А это есть припоминание того, что некогда видела наша душа, когда она сопутствовала Богу, свысока смотрела на то, что мы теперь называем бытием, и, поднявшись, заглядывала в подлинное бытие. Поэтому, по справедливости, окрыляется только разум философа, память которого по мере сил всегда обращена к тому, в чем и сам Бог проявляет свою божественность. Только человек, правильно пользующийся такими воспоминаниями, всегда посвящаемый в совершенные таинства, становится подлинно совершенным (Федр, 249 C – D).
«Когда занимаются видимыми формами и рассуждают о них, тогда мыслят не об этих, а о тех, которым эти уподобляются: тут дело идет о четырехугольнике и его диагонали самих в себе, а не о тех, которые написаны; таким же образом и прочее. То же самое делается, когда ваяют или рисуют: все это – тени и образы в воде; пользуясь ими как образами, люди стараются усмотреть те, которые можно видеть не иначе, как мыслью». – «Ты справедливо говоришь», – сказал он. – «Так этот-то вид называл я мыслимым и сказал, что душа для искания его принуждена основываться на предположениях и не достигает до начала, потому что не может взойти выше предположений, но пользуется самими образами, отпечатлевающимися на земных предметах, смотря по тому, которые из них находит и почитает изображающими его сравнительно выразительнее». (Государство, 510 D – 511 А).
«Не представляется ли тебе мнение, – продолжал я, – чем-то темнее знания и яснее незнания?» – «И очень», – сказал он. – «Лежащим внутри обоих?» – «Да». – «Следовательно, мнение находится среди этих двух». – «Совершенно так». – «Не говорили ли мы прежде, что если что-нибудь представляется и существующим, и вместе не существующим, то это что-нибудь лежит между истинно существующим и вовсе несуществующим, и что о нем не будет ни знания, ни незнания, но откроется опять нечто среднее между незнанием и знанием?» – «Правильно». – «Теперь же вот между ними открылось то, что мы называем мнением». (Государство, 478 С – Е).
Диалектика
«Не кажется ли тебе, – спросил я, – что диалектика, как бы оглавление наук, стоит у нас наверху и что никакая другая наука, по справедливости, не может стоять выше ее; ею должны заканчиваться все науки». (Государство, 534 Е).
«Ни одна метода, имея в виду предметы неделимые, как неделимые, не возьмется вести их к общему: все другие искусства направляются либо к человеческим мнениям и пожеланиям, либо к происхождению и составу, либо, наконец, к обработке того, что происходит и составляется; прочие же, которые, сказали мы, воспринимают нечто сущее, например геометрия и следующие за нею, видим, как будто грезят о сущем, а наяву не в состоянии усматривать его, пока, пользуясь предположениями, оставляют их в неподвижности и не могут дать для них основания. Ведь если и началом бывает то, чего кто не знает, да и конец и середина сплетаются из того, чего кто не знает, то каким образом можно согласиться с таким знанием?» – «Никак нельзя», – отвечал он. «Итак, диалектическая метода, – сказал я, – одна идет этим путем, возводя предположения к самому началу, чтобы утвердить их». (Государство, 533 В).
Не называешь ли ты диалектиком того, кто берет основание сущности каждого предмета, и не скажешь ли, что человек, не имеющий основания, так как не может представить его ни себе, ни другому, в том же отношении и не имеет ума? (Государство, 534 В).
Странник. Разделять по родам, не принимать того же самого вида за иной и другой за тот же самый, неужели мы не скажем, что это есть предмет науки диалектики?
Теэтет. Да, скажем.
Странник. Кто, таким образом, в состоянии выполнить это, тот сумеет в достаточной степени различить одну идею, повсюду проходящую через многие, в котором каждое отдельное разобщено с другим, далее, различить, как многие отличные друг от друга идеи обнимаются извне одною, и как, обратно, одна идея связана в одном месте многими, и как, наконец, многие совершенно отделены друг от друга. Это все называется уметь различать по родам, насколько каждое может вступать в общение и насколько нет.
Теэтет. Совершенно так.
Странник. Ты, думаю я, конечно, диалектику никому другому не припишешь, как только искренно и истинно философствующему (Софист, 253 D – Е).
Сократ. <…> Все, что мы там случайно наговорили, относится к двум разновидностям, и вот суметь искусно применить сильные свойства каждой из них – это была бы благодарная задача.
Федр. Какие же это разновидности?
Сократ. Это способность, охватив все общим взглядом, возводить к единой идее разрозненные явления, чтобы, определив каждое из них, сделать ясным предмет нашего поучения. Так и мы поступили только что, говоря об Эроте: сперва определили, что он такое, а затем, худо ли, хорошо ли, стали рассуждать о нем, и благодаря этому наше рассуждение вышло ясное и не противоречившее само себе.
Федр. А что ты называешь другой разновидностью, Сократ?
Сократ. Это, наоборот, умение разделять все на виды, на естественные составные части, стараясь при этом не раздробить ни один член, словно дурные повара; так в наших недавних речах мы отнесли все не осознанное мышлением к одному виду (Федр, 265 D-Е).
Если же кто ухватится за самое основу, ты не обращай на это внимания и не торопись с ответом, пока не исследуешь следствия, из нее вытекающие, и не определишь, в лад или не в лад друг другу они звучат. А когда потребуется оправдать самое основу, ты сделаешь это точно таким же образом – подведешь другую, более общую основу, самую лучшую, какую сможешь отыскать, и так до тех пор, пока не достигнешь удовлетворительного результата (Федон, 101 D).
Душа принуждена искать одну свою часть на основании предположений, пользуясь разделенными тогда частями как образами и идя не к началу, а к концу; напротив, другую ищет она, выходя из предположения и простираясь к началу непредполагаемому, без тех прежних образов, то есть совершает путь под руководством одних идей самих по себе (Государство, 510 В).
Прежде всего надо познать истину о любом предмете, о котором говоришь или пишешь; научиться определять все соответственно с ней; дав определение, надо опять-таки уметь все подразделять на виды, пока не дойдешь до неделимого (Федр, 277 В).
Чтобы тебе было легче понять, не ограничивайся одними людьми, но взгляни шире, посмотри на всех животных, на растения, одним словом, на все, чему присуще возникновение, и давай подумаем, не таким ли образом возникает все вообще – противоположное из противоположного – в любом случае, когда налицо две противоположности? Возьми, например, прекрасное и безобразное, или справедливое и несправедливое, или тысячи иных противоположностей. Давай спросим себя: если существуют две противоположные вещи, необходимо ли, чтобы одна непременно возникала из другой, ей противоположной? Например, когда что-нибудь становится больше, значит ли это с необходимостью, что сперва оно было меньшим, а потом из меньшего делается бо́льшим? (Федон, 70 Е).
«Возможно ли, чтобы одно и то же в отношении к одному и тому же стояло и двигалось?» – спросил я. «Никак невозможно». – «Однако ж условимся в этом еще точнее, чтобы, простираясь вперед, не прийти к недоумению. Ведь если бы кто говорил, что человек стоит, а руками и головою движет и что, [таким образом], он и стоит, и вместе движется, то мы, думаю, не согласились бы, что так должно говорить, а [сказали бы], что одно в нем стоит, другое движется. Не так ли?» – «Так». – «Или, если бы тот, кто лукаво утверждает это, еще больше подшучивал, что-де и все кубари стоят и вместе движутся, когда вертятся, средоточием уткнувшись в одно место, да и всякое другое на своей подставке вертящееся тело делает то же самое, – мы, конечно, не приняли бы этого, – потому что такие вещи вертятся и не вертятся в отношении не к одному и тому же, – а сказали бы, что в них есть прямое и круглое и что по прямоте они стоят, ибо никуда не уклоняются, а по окружности совершают круговое движение.
Когда же эта прямота вместе с обращением окружности уклоняется направо либо налево, вперед либо назад, тогда в вещи уже ничто не может стоять». «И справедливо», – сказал он. «Итак, нас не изумит никакое подобное положение и уже не уверит, будто что-нибудь, будучи тем же в отношении к тому же и для того же, иногда может терпеть или делать противное». (Государство, 436 С – Е).
Мне кажется, не только большое само по себе никогда не согласится быть одновременно и большим, и малым, но и большое в нас никогда не допустит и не примет малого, не пожелает оказаться ниже другого…
И вообще ни одна из противоположностей, оставаясь тем, что она есть, не хочет ни превращаться в другую противоположность, ни быть ею, но либо удаляется, либо гибнет (Федон, 102 D – 103 А).
Ты не понял разницы между тем, что говорится теперь и говорилось тогда. Тогда мы говорили, что из противоположной вещи рождается противоположная вещь, а теперь – что сама противоположность никогда не перерождается в собственную противоположность. Ни в нас, ни в своей природе. Тогда, друг, мы говорили о вещах, обладающих противоположными качествами, называя вещи именами противоположностей, а теперь о самих противоположностях, чье присутствие дает имена вещам: это они, утверждаем мы теперь, никогда не соглашаются возникнуть одна из другой (Федон, 103 В).
Космология
Древние, которые были лучше нас и обитали ближе к богам, передали нам сказание, что все, о чем говорится как о вечно сущем, состоит из единства и множества и заключает в себе сросшиеся воедино предел и беспредельность. Если все это так устроено, то мы всегда должны полагать одну идею относительно каждой вещи и соответственно этому вести исследование: в заключение мы эту идею найдем. Когда же схватим ее, нужно смотреть, нет ли, кроме нее одной, еще двух или трех идей или какого иного числа, и затем с каждым из этих единств поступать таким же образом до тех пор, пока первоначальное единство не предстанет взору не просто как единое и беспредельно многое, но как количественно определенное. Идею же беспредельного можно прилагать ко множеству лишь после того, как будет охвачено взором все его число, заключенное между беспредельным и единым; только тогда каждому единству из всего ряда можно дозволить войти в беспредельное и раствориться в нем (Филеб, 16 С – D).
Когда в полной движения и жизни вселенной родивший ее отец признал образ бессмертных богов, он возрадовался и в добром своем расположении придумал сделать ее еще более похожею на образец. Так как самый образец есть существо веное, то и эту вселенную вознамерился он сделать по возможности такою же. Но природа-то этого существа действительно вечная; а это свойство сообщить вполне существу рожденному было невозможно; так он придумал сотворить некоторый подвижный образ вечности, и вот, устраивая заодно небо, создает пребывающей в одном вечности вечный, восходящий в числе образ – то, что назвали мы временем. Ведь и дни и ночи, и месяцы и годы, которых до появления неба не было, – тогда, вместе с установлением неба, подготовил он и их рождение (Тимей, 37 D – Е).
В прежнюю чашу, в которой замешена и составлена была душа Вселенной, влив опять остатки от прежнего, [Бог] смешал их почти таким же образом; но это не была уже более чистая, как тогда, смесь, а вторая и третья по достоинству (Тимей, 41 D).
Сущее, пространство и рождение являются, как три троякие начала, еще до происхождения неба. Кормилица же рождаемого, разливаясь влагою и пылая огнем, принимая также формы земли и воздуха и испытывая все другие состояния, какие приходят с этими стихиями, представляется, правда, на вид всео́бразную; но так как ее наполняют силы неподобные и неравновесные, то она не имеет равновесия ни в какой из своих частей, а при неравном повсюду весе подвергается под действием этих сил сотрясениям и, колеблясь, в свою очередь потрясает их. Через сотрясение же они разъединяются и разбрасываются туда и сюда, все равно как при просеивании и провеивании посредством сит и служащих для чистки зерна орудий плотные и твердые зерна падают на одно место, а слабые и легкие – на другое (Тимей, 52 D – Е).
Учение об обществе и государстве
«Город, – так начал я, – по моему мнению, рождается тогда, когда каждый из нас сам для себя бывает недостаточен и имеет нужду во многих. Или ты предполагаешь другое начало основания города?» – «Никакого более», – отвечал он. «Стало быть, когда таким-то образом один из нас принимает других – либо для той, либо для иной потребности; когда, имея нужду во многом, мы располагаем к сожитию многих общников и помощников, тогда это сожитие получает у нас название города. Не так ли?» – «Без сомнения». – «Но всякий сообщается с другим, допускает другого к общению или сам принимает это общение в той мысли, что ему лучше». (Государство, 369 С).
«Работа, кажется, не хочет ждать, пока будет досуг работнику; напротив, необходимо, чтобы работник следовал за работою не между делом». – «Необходимо». – «Оттого-то многие частные дела совершаются лучше и легче, когда один, делая одно, делает сообразно с природою, в благоприятное время, оставив все другие занятия». – «Без всякого сомнения». – «Но для приготовления того, о чем мы говорили, Адимант, должно быть граждан более четырех, потому что земледелец, вероятно, не сам будет делать плуг, если потребуется хороший, и заступ, и прочие орудия земледелия; не сам опять – и домостроитель, которому также многое нужно; равным образом и ткач, и кожевник». (Государство, 370 С).
«Счастлив ты, – примолвил я, – что думаешь, будто стоит называть городом какой-нибудь другой, кроме того, который мы устраивали». – «Почему же не так?» – сказал он. «Прочие, – продолжал я, – надобно называть городами в числе множественном, потому что каждый из них – многие города, а не город в смысле игроков. Сколь бы мал он ни был, в нем всегда есть два взаимно враждебных города: один город бедных, другой – богатых и в обоих – опять много городов, на которые, если будешь наступать как на один, вполне ошибешься; наступая же как на многие и отдавая одним, что принадлежит другим, как-то: деньги, власть, даже самые лица, – будешь иметь много союзников и мало врагов». (Государство, 422 Е – 423 А).
Исследуем-ка теперь сперва правление честолюбивое (не могу дать ему другого имени, как разве назвать его тимократиею или тимархиею), за которым рассмотрим и такого же человека; потом возьмем олигархию и человека олигархического; далее взглянем на демократию и на гражданина демократического, и, наконец, перешедши к четвертому городу – тираническому и изучив его, обратим опять взор на душу тираническую (Государство, 545 В – С).
«Какую же форму называешь ты олигархией?» – спросил он. – «Олигархия, – отвечал я, – есть правление, основывающееся на переписи и оценке имения, так что в нем управляют богатые, а бедные не имеют участия в правлении». – «Понимаю», – примолвил он. «Так не сказать ли сперва, как совершается переход из тимархии в олигархию?» – «Да». – «Хотя этот переход виден даже и для слепого», – примолвил я. «Какой же он?» – «Та кладовая, – отвечал я, – у каждого полная золота, губит это правление, потому что богатые сперва изобретают себе расходы и для того изменяют законам, которым не повинуются ни сами они, ни жены их». – «Вероятно», – сказал он. «Потом по наклонности смотреть друг на друга и подражать таким же, как все они, делается и простой народ». – «Вероятно». – «А отсюда, – продолжал я, – простираясь далее в любостяжании, граждане, чем выше ставят деньги, тем ниже – добродетель. Разве не такое отношение между богатством и добродетелью, что если оба эти предметы положить на двух тарелках весов, то они пойдут по противоположным направлениям?» (Государство, 550 D – Е).
«Теперь скажем опять, – продолжал я, – как из олигархика происходит человек демократический. Происхождение его большею-то частью совершается, по-видимому, следующим образом». – «Каким?» – «Когда юноша, вскормленный, как мы недавно говорили, без воспитания и в правилах скупости, попробует трутневого меду и сроднится с зверскими и дикими нравами, способными возбуждать в нем разнообразные, разнородные и всячески проявляющиеся удовольствия, тогда-то, почитай, бывает в нем начало перемены олигархического его расположения в демократическое». – «Весьма необходимо», – сказал он. «Как город изменяется в своем правлении, когда приходит к нему помощь с другой, внешней стороны, помощь, подобная подобному, – не так ли изменяется и юноша, если помогают ему известного рода пожелания, превзошедшие извне – от другого, но сродные и подобные пожеланиям его собственным?» – «Без сомнения». – «А как скоро этой помощи-то, думаю, противопоставляется другая – со стороны его олигархической, например со стороны его отца или иных родственников, и обнаруживается внушениями и выговорами, то, конечно, является в нем восстание и противовосстание – борьба с самим собою». – «Как же». – «И демократическое расположение иногда, думаю, отступает от олигархического; так что из пожеланий одни расстраиваются, а другие, по возбуждении стыда в душе юноши, изгоняются». – «Да, иногда бывает», – сказал он. «Потом, однако ж, из изгнанных пожеланий иные, сродные с невежественным воспитанием отца, будучи подкармливаемы, снова, думаю, растут и становятся сильными». – «В самом деле, обыкновенно так бывает», – сказал он. «Тогда они увлекают юношу к прежнему сообществу и, лелеемые тайно, размножаются». – «Как же». – «А наконец, почуяв, что в акрополисе юношеской души нет ни наук, ни похвальных занятий, ни истинных рассуждений, которые бывают наилучшими стражами и хранителями лишь в рассудке людей боголюбезных, овладевают им». – «Да и, конечно, так бывает», – сказал он. «И место всего этого занимают, думаю, сбежавшиеся туда лживые и надменные речи да мнения». – «Непременно», – сказал он. «Поэтому не пойдет ли он снова к тем лотофагам и не будет ли жить между ними открыто? А если к бережливой стороне души его придет помощь от родных, то надменные те речи, заперши в нем ворота царской стены, даже не допустят этой союзной силы и не примут посланнических слов, произносимых старейшими частными людьми, но, вспомоществуемые многими бесполезными пожеланиями, сами одержат верх в борьбе и, стыд называя глупостью, с бесчестием вытолкают его вон и обратят в бегство, а рассудительность, именуя слабостью и закидывая грязью, изгонят, равно как умеренность и благоприличную трату удалят, будто деревенщину и низость». – «Непременно». – «Отрешив же и очистив от этого плененную ими и посвящаемую в великие таинства душу, после сего они уже торжественно, с большим хором вводят в нее наглость, своеволие, распутство и бесстыдство, и все это у них увенчано, все это восхваляют они и называют прекрасными именами – наглость образованностью, своеволие свободою, распутство великолепием, бесстыдство мужеством. Не так ли как-то, – спросил я, – юноша из вскормленного в необходимых пожеланиях переменяется в освобожденного и отпущенного под власть удовольствий не необходимых и бесполезных?» – «Без сомнения, – сказал он, – это очевидно». – «После сего он в своей жизни истрачивает и деньги, и труды, и занятия уже не столько для удовольствий, думаю, необходимых, сколько не необходимых. Но если, к счастью, разгул его не дошел до крайности, если, дожив до лет более зрелых, когда неугомонный шум умолкает, он принимает сторону желаний изгнанных и не всецело предался тем, которые вошли в него, то жизнь его будет проходить среди удовольствий, поставленных именно в какой-то уровень: он, как бы по жребию, то отдаст над собою власть удовольствию отчужденному, пока не насытится, то опять другому и не будет пренебрегать никаким, но постарается питать все одинаково». – «Конечно». – «Когда же сказали бы, – продолжал я, – что одни удовольствия проистекают из желаний похвальных и добрых, а другие – из дурных и что первые надобно принимать и уважать, а другие – очищать и обуздывать, – этого истинного слова он не принял бы и не пустил бы в свою крепость, но при таких рассуждениях, отрицательно покачивая головою, говорил бы, что удовольствия все равны и должны быть равно уважаемы». – «Непременно, – сказал он, – кто так настроен, тот так и делает». – «Не так ли он и живет, – продолжал я, – что каждый день удовлетворяет случайному пожеланию? То пьянствует и услаждается игрою на флейте, а потом опять довольствуется одною водою и измождает себя; то упражняется, а в другое время предается лености и ни о чем не радеет; то будто занимается философиею, но чаще вдается в политику и, вдруг вскакивая, говорит и делает что случится. Когда завидует людям военным – он пошел туда; а как скоро загляделся на ростовщиков – он является между ними. В его жизни нет ни порядка, ни закона: называя ее приятною, свободною и блаженною, он пользуется ею всячески». – «Без сомнения, – сказал он, – ты описал жизнь какого-то человека равнозаконного, [индифферентиста]». – «Думаю-то так, – продолжал я, – что этот человек разнообразен и исполнен чертами весьма многих характеров; он прекрасен и пестр, как тот город: иные мужчины и женщины позавидовали бы его жизни, представляющей в себе многочисленные образцы правлений и нравов». (Государство, 559 D – 561 Е).
«Так вот какова, друг мой, та прекрасная и бойкая власть, – примолвил я, – из которой, по моему мнению, рождается тирания». – «Да, бойка! – сказал он. – Но что после этого?» – «Та же болезнь, – отвечал я, – которая заразила и погубила олигархию, от своеволия еще более и сильнее заражает и порабощает демократию. И действительно, что делается слишком, то вознаграждается великою переменою в противоположную сторону: так бывает и во временах года, и в растениях, и в телах, так, нисколько не менее, и в правлениях». – «Вероятно», – сказал он. «Ведь излишняя свобода естественно должна переводить как частного человека, так и город ни к чему другому, как к рабству». – «Вероятно». – «Поэтому естественно, – продолжал я, – чтобы тирания происходила не из другого правления, а именно из демократии, то есть из высочайшей свободы, думаю, – сильнейшее и жесточайшее рабство». (Государство, 563 Е – 564 А).
«Не правда ли, – сказал я, – что в первые дни и в первое время он, [тиран], улыбается и обнимает всех, с кем встречается, не называет себя тираном, обещает многое в частном и общем, освобождает от долгов, народу и близким к себе раздает земли и притворяется милостивым и кротким в отношении ко всем?» – «Необходимо», – сказал он. «Если из внешних-то неприятелей с одними, думаю, он примирился, а других разорил и с этой стороны у него покойно, то ему на первый раз все-таки хочется возбуждать войны, чтобы простой народ чувствовал нужду в вожде». – «И естественно». – «Внося деньги, граждане не терпят ли бедности? И каждый день занятые пропитанием себя, не тем ли меньше злоумышляют против него?» – «Очевидно». – «А если только начинает он, думаю, подозревать, что кто-нибудь имеет вольные мысли и не попускает ему властвовать, то по какому-нибудь поводу не губит ли таких среди неприятелей? И для всего этого не необходимо ли тирану непрестанно воздвигать войну?» – «Необходимо». – «Делая же это, не тем ли более подвергается он ненависти граждан?» – «Как же не подвергаться?» – «Тогда граждане, способствовавшие к его возвышению и имеющие силу, не будут ли смело говорить и с ним, и между собою и, если случатся особенно мужественные, не решатся ли осуждать текущие события?» – «Вероятно-таки». – «Поэтому тиран, если хочет удержать власть, должен незаметно уничтожать всех этих, пока не останется у него ни друзей, ни врагов, от которых можно было бы ожидать какой-нибудь пользы». (Государство, 566 D – 567 В).
«Мудр в самом деле, кажется, город, о котором мы рассуждали, потому что он благосоветлив. Не так ли?» – «Да». – «Но это-то самое – благосоветливость, очевидно, есть некоторое знание, потому что не невежеством же, вероятно, а знанием хорошо советуют». – «Явно». – «Между тем о городе знания-то ведь многочисленны и разнообразны». – «Как же». – «Так не ради ли знания домостроителей надобно город называть мудрым и благосоветливым?» (Государство, 428 В – С).
«Целый, согласно с природою устроенный город может быть мудрым по малочисленнейшему сословию, по части самого себя, по начальственному и правительственному в нем занятию. Это, вероятно, есть согласный с природою малейший род, имеющий право обладать тем знанием, которое одно надобно называть мудростью прочих знаний». – «Ты говоришь весьма справедливо», – сказал он. «Так вот оно – одно из четырех: не знаю, каким-то образом мы нашли и то, каково оно само, и то, где в городе оно укореняется». – «Да, мне кажется, решительно нашли. Ведь и мужество-то – и по нем самом, и по месту нахождения его в городе, отчего город должен быть называем таким, – усмотреть не очень трудно.» – «Как же это?» – «Кто мог бы, – сказал я, – назвать город трусливым или мужественным, смотря на что-нибудь иное, а не на ту часть, которая воюет за него и сражается?» – «Никто не стал бы смотреть на что-нибудь иное», – отвечал он. – «Потому что другие-то в нем, – примолвил я, – будучи или трусливыми, или мужественными, не сделали бы его таким или таким. – «Конечно, нет». – «Следовательно, и мужественным бывает город по некоторой части себя, поскольку в ней имеется сила, во всех случаях сохраняющая мнение об опасностях, эти ли они и такие ли, которыми и какими законодатель объявил их в воспитании. Или не то называешь ты мужеством?» – «Не очень понял я, что́ ты сказал; скажи опять», – отвечал он. – «Мужество, говорю, есть некоторое хранение», – продолжал я. – «Какое хранение?» – «Хранение мнения о законе относительно опасностей, полученном с воспитанием, что такое эти опасности и какие. Вообще я назвал мужество хранением потому, что человек и в скорбях, и в удовольствиях, и в желаниях, и среди страхов удерживает то мнение и никогда не оставляет его. Если хочешь, я, пожалуй, уподоблю его, чему, мне кажется, оно подобно». – «Да, хочу». – «Не знаешь ли, продолжал я, что красильщики, намереваясь окрасить шерсть так, чтобы она была пурпуровая, сперва из множества цветов выбирают один род – цвета белого, потом употребляют немало предварительных трудов на приготовление шерсти, чтобы она приняла наиболее цвета этого рода, и так-то приготовленную уже красят. И все, что красится этим способом, быв окрашено, пропитывается так, что мытье ни с вычищательными средствами, ни без вычищательных не может вывести краски. А иначе, знаешь что́ бывает, этим ли кто цветом или другим окрашивает вещь, не приготовивши ее?» – «Знаю, – сказал он, – она вымывается и становится смешанною». – «Так заметь, – примолвил я, – что это же по возможности делаем и мы, когда избираем воинов и учим их музыке и гимнастике. Не думай, будто мы затеваем что другое, а не то, как бы наилучше, по убеждению, приняли они законы – основную краску и, получая природу и пищу благопотребную, пропитывались мнением о предметах страшных и всех других; так, чтобы краска их не смывалась теми чистительными средствами, например удовольствием, скорбью, страхом и пожеланием, которые в состоянии все изглаживать и сделать это сильнее всякого халастра, пятновыводящего порошка и другого вычищающего вещества. Такую-то силу и всегдашнее хранение правильного и законного мнения о вещах страшных и нестрашных я называю мужеством и в этом поставляю мужество, если ты не почитаешь его чем-нибудь другим». – «Не почитаю ничем другим, – сказал он, – потому что правильное мнение о том же самом, родившееся без образования, – мнение зверское и рабское ты почитаешь не очень законным и называешь его чем-то другим, а не мужеством». – «Весьма справедливо говоришь», – сказал я. «Так принимаю это за мужество». – «Да и принимай, по крайней мере за мужество политическое, – примолвил я, – и примешь правильно. В другой раз, если угодно, мы еще лучше рассмотрим его; теперь же у нас исследуется не это, а справедливость; так, для исследования ее о мужестве, как я полагаю, сказано довольно». – «Ты хорошо говоришь», – примолвил он. Теперь, – продолжал я, – остаются еще два предмета, на которые надобно взглянуть в городе, – рассудительность и то, для чего исследуется все это, – справедливость». – «Да, конечно». – «Как же бы найти нам справедливость, чтобы уже не заниматься рассудительностью?» – «Я-то не знаю, – отвечал он, – да и не хотел бы, чтобы она открылась прежде, чем рассмотрим мы рассудительность. Так, если хочешь сделать мне удовольствие, рассмотри эту прежде той». – «Хотеть-то, без сомнения, хочу, – сказал я, – лишь бы не сделать несправедливости». – «Рассмотри же», – сказал он. «Надобно рассмотреть, – примолвил я, – и, если на рассудительность смотреть с этой-то точки зрения, она больше, чем первые, походит на симфонию и гармонию». – «Как?» – «Это какой-то космос, – продолжал я, – рассудительность, говорят, есть воздержание от удовольствий и пожеланий, и прибавляют, что она каким-то образом кажется выше самой себя и что все другое в этом роде есть как бы след ее. Не так ли?» – «Всего более», – отвечал он. «Между тем выражение выше себя не смешно ли? Ведь кто выше себя, тот, вероятно, и ниже себя, а кто ниже, тот выше, так как во всех этих выражениях разумеется один и тот же». – «Как не один и тот же?» – «Но этим словом, по-видимому, высказывается, что в самом человеке, относительно к душе его, есть одно лучшее, а другое худшее и что, если по природе лучшее воздерживается от худшего, это называется быть выше себя – значение похвалы; а когда лучшее овладевается худою пищею либо беседою и сравнительно со множеством худшего становится маловажнее, это значит как бы с негодованием порицать такого человека и называть его низшим себя и невоздержным». – «Да и следует». – «Посмотри же теперь, – продолжал я, – на юный наш город, и ты найдешь в нем одно из этого. Он, справедливо скажешь, почитается выше себя, если только мудрым и высшим надобно называть то, в чем лучшее начальствует над худшим». – «Да, смотрю, – сказал он, – ты правду говоришь». – «Притом многочисленные-то и разнообразные пожелания, удовольствия и скорби можно встречать большею частью во всех – и в женщинах, и в слугах, и во многих негодных людях, называемых свободными». – «Уж конено». – «А простые-то и умеренные, управляемые именно союзом ума и верного мнения, встретишь ты в немногих, наилучших по природе и наилучших по образованию». – «Правда», – сказал он. «Так не видишь ли – в городе у тебя уместно и то, чтобы пожелания многих и негодных были там под властью пожеланий и благоразумия немногих и скромнейших?» – «Вижу», – сказал он. «Следовательно, если какой-нибудь город до́лжно назвать городом выше удовольствий, пожеланий и его самого, то вместе с ним следует назвать и этот». – «Без сомнения», – примолвил он. «А по всему этому не назовем ли его и рассудительным?» – «И очень», – отвечал он. «Да и то еще: если в каком-нибудь городе и начальствующие, и подчиненные питают одинаковое мнение о том, кому до́лжно начальствовать, то и в этом уместно то же самое. Или тебе не кажется?» – «Напротив, даже очень», – сказал он. «Так видишь ли? Мы теперь последовательно дознали, что рассудительность походит на некоторую гармонию». – «Что это за гармония?» – «То, что рассудительность не как мужество и мудрость: обе эти, находясь в известной части города, делают его – первая мужественным, последняя мудрым; а та действует иначе: она устанавливается в целом городе и отзывается во всех его струнах то слабейшими, то сильнейшими, то средними, но согласно поющими одно и то же звуками хочешь умствованием, хочешь силою, хочешь многочисленностью, деньгами либо чем другим в этом роде; так что весьма правильно сказали бы мы, что рассудительность есть это-то самое единомыслие, согласие худшего и лучшего по природе в том, кому до́лжно начальствовать и в обществе, и в каждом человеке». (Государство, 428 Е – 432 А).
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































