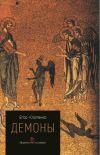Автор книги: Константин Образцов
Жанр: Научная фантастика, Фантастика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 10 страниц) [доступный отрывок для чтения: 3 страниц]
– Впрочем, неважно. Кем бы вы ни были, вам должно быть известно, что Савва погиб. Потрудитесь уважать чувства матери, потерявшей единственного сына. Нам не о чем говорить.
Она величественно повела рукой и стала закрывать дверь.
– Я знаю, что ваш сын жив, и знаю, что вы это тоже знаете, Леокадия Адольфовна, – сказал я и быстро добавил: – Как он с вами сейчас связывается, снова через телевизор?
Дверь прекратила свое движение. Леокадия Адольфовна еще раз внимательно посмотрела на меня, поджала губы и чуть посторонилась.
– Входите.
Я шагнул в полумрак маленькой прихожей. За спиной мягко щелкнул замок.
– Снимайте башмаки, если хотите – вот тапочки, надевайте и проходите.
Интеллигентную тишину квартиры нарушало деликатное бормотание радиоточки на кухне. Было немного душно и пахло старым паркетом, книгами и цветами. Мы прошли по неширокому коридору мимо закрытой двери и оказались в гостиной: невысокая горка с посудой, диван, круглый обеденный стол, застеленный белой скатертью, ваза с огненными астрами посередине стола, венские стулья; в углу рядом с высоким комодом два кресла, низкий столик, торшер и узкий шкаф с книгами, уходящий под потолок. Ни театральных афиш, ни фотографий в сценических образах, ни артистических дипломов или наград на стенах; только на комоде рядом с часами в резном деревянном чехле теснились несколько фотокарточек в простых металлических рамках. За дверью балкона – прямоугольная терраса и едва различимый сквозь дым парк на другом берегу реки.
– Располагайтесь, – Леокадия Адольфовна указала на кресла. – Хотите чаю? Но имейте в виду, я пью очень крепкий.
Я заверил, что крепкий – это как раз то, что нужно.
Леокадия Адольфовна вышла – готовить чай и собраться с мыслями. Я подошел к комоду с фотографиями: маленький мальчик в матросском костюмчике позирует в ателье рядом с игрушечной лошадкой на колесиках; вот он же в школьной форме с октябрятской звездочкой на груди и огромным букетом гладиолусов – наверное, второй или третий класс; вот он уже старше, лет десяти, вместе с мамой на море: оба счастливо щурятся, стоя на песчаном пляже, на Савве белая панамка, трусы и сандалии, густые длинные волосы его молодой мамы отброшены в сторону морским ветром. Еще был Савва с пробивающимися над верхней губой редкими усиками, застенчиво демонстрирующий в объектив аттестат зрелости, Савва на лыжах в зимнем лесу, и снова с мамой – солнце, горы, фигурная виньетка вокруг снимка и изогнутая подпись «Геленджик, 1963». А в самом центре стояла небольшая порыжевшая от времени фотокарточка: маленькая девчушка в зимней военной шинели и шапке, со снайперской винтовкой в руках, улыбается в объектив, стоя рядом с тремя рослыми автоматчиками в железных нагрудниках.
Леокадия Адольфовна вернулась, неся в руках большой чайник с кипятком и заварник. Посмотрела на меня, кажется, неодобрительно и сказала:
– Это с однополчанами, в декабре сорок третьего. И если вы уже все посмотрели, сделайте одолжение, помогите мне с чашками.
Я помог, и мы сели пить чай. Он был очень горячий и черный, как нефть.
– На всякий случай, если все это какая-то непристойная провокация, – заговорила Леокадия Адольфовна, – сообщаю, что я нахожусь в состоянии тяжелейшего шока после утраты сына, а потому могу всему верить и говорить полнейшую бессмыслицу, ничего общего не имеющую с истиной. Это ясно?
– Вполне, – ответил я.
– Вот и славно. Почему вы решили, будто я знаю, что Савва жив?
– Он очень вас любит, Леокадия Адольфовна. И никогда не подверг бы вас такому страшному испытанию: пережить его смерть в то время, когда он живой.
Что-то едва уловимо смягчилось в ее взгляде. Она была женщиной стальной воли, героем-снайпером и настоящей актрисой, но, несомненно, мамой – в первую очередь.
– Савва действительно связался со мной вечером в пятницу – нет, не через телевизор, по радиоточке на кухне, и предупредил о том, что вынужден будет инсценировать свою гибель. Но даже если бы он этого не сделал, я бы не поверила в его смерть.
– Почему?
– Я мать, – веско сказала она. – Неужели вы думаете, что я бы не отличила моего мальчика от этого… этой копии, как бы хорошо она ни была сделана?!
– Мне рассказывали, что во время опознания даже патологоанатомы рыдали, как дети.
Леокадия Адольфовна чуть улыбнулась.
– Молодой человек, когда я исполняла Медею, то рыдал весь зрительный зал – и не отпускал меня с поклона по пятнадцать минут. Чего бы я стоила, если бы не смогла убедительно сыграть перед прозекторами?
Она отпила глоток чая и поставила чашку на блюдце.
– Так что же вас привело ко мне?
– Я капитан уголовного розыска, теперь уже, вероятно, бывший. Я помогал Савве скрыться от сотрудников госбезопасности и перейти государственную границу – ну, или думал, что помогаю. В результате я сейчас нахожусь в розыске по обвинению в государственной измене и шпионаже, мои друзья, которых я втравил в это дело, в тюрьме, а где Савва – понятия не имею.
Леокадия Адольфовна сочувственно качнула головой.
– Что ж, если все так – мне искренне жаль. Похоже, что вы порядочный человек и пострадали как раз из-за своей порядочности, что случается, увы, куда чаще, чем того бы хотелось. Но вам не стоило помогать Савве в этой безумной затее: бросать работу, прятаться от контрразведки, бежать за границу… Ни в какие ворота, конечно. Я верю, что вы хотели спасти его от беды, да вот только беда Саввы – уж никак не чекисты, которые просто хотят вернуть его в институт.
– А что же?..
– Она. – Голос Леокадии Адольфовны стал твердым, как звонкая сталь. – Если вы так хорошо осведомлены о делах моего сына, то и про нее вам, несомненно, известно. Вот кто настоящая беда – эта Яна, пропади она пропадом. Когда три недели назад под утро Савва вдруг позвонил мне и так путано начал рассказывать, что ему нужно все бросить, бежать, скрыться, я, конечно же, была потрясена, ничего не понимала, терялась в догадках. А потом ко мне пришли сотрудники Комитета, показали её фоторобот – и все встало на свои места.
– Так вы с ней знакомы?
– Даже слишком хорошо! – Глаза Леокадии Адольфовны метнули молнию. – И ей прекрасно известно, что я понимаю, какое влияние она оказывает на Савву; она и на глаза мне не показалась ни разу, когда он разговаривал со мной через экран телевизора!
Она перевела дыхание. Я слушал.
– Бог знает, как сын это делал: связывался посредством экрана, по радио. Хотя такое я еще как-то могу если не понять, то объяснить для себя, наука сейчас развивается огромными шагами, а мой сын всегда был на переднем крае этого развития. Но есть то, что я не могу объяснить: например, как в жизни Саввы снова появилась эта девица – сейчас, спустя столько лет, нисколько не изменившись…
Леокадия Адольфовна встала, вышла из комнаты и через минуту вернулась с небольшим пожелтевшим конвертом.
– Так, это не то… – В конверте шуршало, мелькали светлые поля фотографий. – Это тоже не то… так… где же… А! Вот! Пожалуйста, полюбуйтесь.
Она протянула руку и положила на стол фотографию. Я взглянул и чуть не подавился чаем.
На черно-белой фотокарточке среди пышных кустов рядом с каким-то забором застыл Савва – только начавший вытягиваться тощий подросток с напряженным и настороженным взглядом. А с ним рядом, плечом к плечу, стояла и насмешливо щурилась в камеру Яна.
– Сыну тут тринадцать, – сказала Леокадия Адольфовна. – Май 1963 года, после седьмого класса. И ей, должно быть, столько же.
Я присмотрелся, преодолевая невольную жуть. Девочке на фото и правда вряд ли было больше четырнадцати – но это была Яна, несомненно, она, повзрослевшая за двадцать с лишним лет всего года на два или три.
– Яна появилась в школе у Саввы в седьмом классе, во втором полугодии учебного года. Попала она туда как «блатная»: вроде бы внебрачная дочь какого-то высокопоставленного партийного работника – так говорили. Из прошлой школы ее то ли выгнали по причине трудного характера и неподобающего поведения, то ли они с матерью переехали из другого города – не знаю, справок я не наводила. Мать ее не работала, вела рассеянный образ жизни и ни разу за все то время, пока длилась эта странная дружба между Яной и Саввой, не удосужилась прийти познакомиться. Я тоже знакомства с ней не искала: может быть, вы сочтете меня старомодной или какой-то слишком принципиальной, но от женщин определенного сорта я всегда держалась подальше.
Яблочко, как говорится, от яблони: Яна была девочкой дерзкой, с учителями могла повести себя неуважительно – отказаться, например, мыть полы в классе или прийти на субботник, – но не бесталанной. Наверное, потому они и сдружились с моим сыном: такая, знаете, яркая, непокорная девчонка-подросток, да еще и прекрасно разбирается в математике, много читает, увлекается астрофизикой – вот так все и началось.
Они с матерью жили на Удельной, в одном из «немецких» двухэтажных домов, с палисадником, калиткой и отдельным входом в квартиру. Это мне Савва рассказывал, он часто ходил туда в гости. Яна к нам тоже зашла один раз – но я, знаете ли, человек прямой, отношения своего к людям скрывать не привыкла, так что больше дома у нас она не появлялась. Кто знает, может быть, мне и стоило тогда сделать усилие над собой…
Мы в то время жили еще в Озерках, в старом доме, от Удельной это минут двадцать пешком или десять минут на трамвае. Савва уже целый год ездил в школу самостоятельно и взял привычку выходить на Удельной, ждать Яну – а она имела обыкновение опаздывать! – и потом они вместе ехали в школу. После уроков, если они не шли гулять, или в планетарий, или в библиотеку, Савва провожал Яну до дома и почти всегда засиживался в гостях до позднего вечера. Конечно, Яна на него влияла, и уж точно не в лучшую сторону: например, это она увлекла его астрономией, так что сын и долгое время спустя хотел поступать учиться на астрофизика, и мне стоило больших усилий его переубедить. Девочкой она была, как я говорила уже, довольно начитанной, но литературу предпочитала поверхностную: Купер, Буссенар, Стивенсон – и Савва стал фантазировать о приключениях, говорил, что хотел бы стать героем какого-нибудь авантюрного романа; дело дошло до того, что у него в бумагах я начала находить наброски рассказов про каких-то пиратов и даже рисунки к ним – и это у мальчика, который переписывался с самим академиком Пряныгиным! В общем, дела шли все хуже, и закончилось все тем, чем и должно было: тремя «четверками» в последней четверти, причем по самым важным предметам: алгебре, геометрии и физике! Для меня это был настоящий удар. Я пошла в школу и там выяснила, что падением успеваемости дело не ограничивается: оказывается, весь май у моего сына копились прогулы, которые он скрывал, искусно меняя в дневнике страницы с замечаниями на чистые, которые вытаскивал из другого дневника, специально для этого купленного. В общем, как вы понимаете, тогда у нас состоялся довольно крупный разговор… Вы не возражаете, если я закурю?
– Ни в коем случае. И я с вами, можно?
– Сколько угодно.
Леокадия Адольфовна поставила на столик пепельницу, достала тяжелый серебряный портсигар, вынула папиросу, умело размяла ее и чиркнула спичкой. Курила она, не складывая бумажную гильзу «гармошкой», напрямую, в суровый военный затяг. Из открытой двери на террасу вплывал пряный дым горящих торфяников и смешивался с горьким дымом табака и воспоминаний.
– Да, довольно крупный… Положа руку на сердце, ни до, ни после у нас с Саввой не было разговоров на таких громких тонах, и ни до, ни после я не видела его таким непокорным, упрямым, даже жестким. Я напоминала ему, зачем мы переехали в Ленинград – он отвечал, что нисколько меня об этом не просил. Я говорила, что оценки нужны ему для поступления в институт – а сын заявил в ответ, что вообще до института еще далеко, изучать нужно то, что самому интересно, а если уж на то пошло, так у Яны вообще пять «троек» в году, а она все равно собирается поступать на астрономический, потому что для университета важны вступительные экзамены, а не аттестат.
Леокадия Адольфовна затянулась, выпустила дым через колечко накрашенных губ, сбила сероватый столбик пепла.
– Услышав про Яну, я, конечно, вспылила. Сказала, что запрещаю ему с ней общаться – глупо, да, признаю. Сын ответил, что будет общаться, с кем пожелает. Я хлопнула по столу, он – дверью. Потом учебный год кончился, начались каникулы, Савва стал пропадать у Яны целыми днями, а несколько раз явился домой и вовсе под утро. И только Богу известно, где они были и чем занимались.
…Отчего же, не только Богу. И ты бы тоже, дорогая, любимая мама, могла бы узнать это, если бы просто спросила у сына, а не сердилась, не осуждала и не боялась. Он рассказал бы, как таинственно-светлой июньской ночью, туманно-прозрачной, словно сосуд из матового стекла, наполненный сладкими ароматами сирени, акаций и лип, они с Яной плавали на плоту по самому большому из трех окрестных озер; как выгребли на середину и смотрели на редкие звезды в темнеющей синеве полночных небес, и было так тихо, как бывает только наедине с самым важным, что есть в жизни – небом, водой, звездами и друг с другом. Он рассказал бы, как Яна предложила:
– Давай купаться!
И не успел он ответить, как она уже стянула через голову сарафан, скинула кеды и в одних белых трусиках нырнула с плота рыбкой, руками вперед, и светлый вытянутый силуэт заскользил в глубине темных вод. Рассказал бы, как ему было неловко, что он почти не умеет плавать, но все же стянул штаны и рубашку и бултыхнулся в озеро «бомбочкой», а когда вынырнул, отфыркиваясь и вытирая глаза, то увидел прямо перед собой лицо Яны, совсем близко: она улыбалась, рыжие волосы колыхались в воде вокруг плеч, в глазах сверкали отражения звезд и озерной воды. Как она поняла, что он плохо плавает, и взялась учить, заставляя то грести, то нырять, то переворачиваться на спину, и сама скользила вокруг, как русалка, а он пыхтел, барахтался, отдувался и так устал, что, когда они вскарабкались обратно на плот, то лег на спину и не мог шевельнуть ни ногой, ни рукой; как Яна легла рядом, как он почувствовал прикосновение ее пальцев, и они лежали, взявшись за руки, а плот покачивался на безмолвных волнах, а вверху распахнулось бездонное ночное небо и разгорались все ярче мерцающие дальние звезды.
– Хочешь, расскажу тебе тайну?
– Да.
– Но клянись, что никому не проболтаешься!
– Клянусь, никому!
Она приподнимается на локте; ее лицо серьезно, глаза потемнели, как небо; прядь намокших волос коснулась его груди.
– Я с другой планеты.
Ее глаза на расстоянии взмаха ресниц, губы на расстоянии поцелуя.
– Как?!..
– Да, из другой звездной системы, даже галактики, даже из другого суперкластера – понял, как далеко!
– Из какого же?..
– Из сверхскопления галактик в созвездии Часов, вот откуда! Там система из четырнадцати связанных друг с другом планет, и на них наша цивилизация, она очень древняя, ей шестьдесят миллиардов лет!
– Но ведь Большой Взрыв был меньше четырнадцати миллиардов лет назад…
– Да, потому что мы существовали еще до Большого Взрыва, понимаешь? У меня там есть три сестры, и мы космические разведчики, путешествуем по разным галактикам и планетам, и может быть, что мне скоро придется улететь обратно, и это так грустно…
– А ты вернешься?
– Обязательно вернусь, обещаю! А ты меня будешь ждать?
– Да, да, обещаю!
Многое могла бы ты узнать, мама, если бы просто поговорила. И не пришлось бы врать тебе про тот случай, когда пришел домой в рваной рубахе и в кровь разбитым лицом, говорить, что бежал за автобусом и споткнулся неловко; можно было бы рассказать честно, как поздним вечером в Озерках, в самом глухом месте, за старой лодочной станцией, наткнулись с Яной на хулиганов. И все могло бы обойтись: те не собирались драться, шли по своим делам, ну, посвистели немного, пообзывались, и Яна сказала, что не нужно обращать внимания на дураков, и он бы не обратил, но тут один из них сказал про Яну такое слово, что выхода другого не было, кроме как обратить внимание и самое пристальное. Рассказал бы, как дрался, как было больно, но не страшно, а весело, как его захлестнул восторг боя; как разбили губу, расквасили нос, повалили на землю, а Яна налетела на обидчиков с тяжелой палкой в руках, да так налетела, что те бежали со всех ног, крича «караул»; как потом они оба смеялись, а Яна вытирала ему кровь с лица и говорила, что он молодец. Потому, мама, он тогда и решил записаться на бокс…
– А когда он явился однажды весь ободранный и заявил, что собирается записаться на бокс, я поняла, что окончательно теряю сына.
– Не слишком ли?
– Нет, не слишком. – В уголках рта Леокадии Адольфовны легли жесткие складки. – Вы поймите, дело же не в боксе как таковом, не в драке. Я знаю цену насилию и повидала его с избытком в траншеях. Дело в том, что это совершенно не для моего Саввы, его голова предназначена для науки, а не для того, чтобы в нее колотили кулаками, как в грушу. И тут повезло: мне в театре дали профсоюзную путевку в Геленджик… Что вы так улыбаетесь? Ну хорошо: да, я сама достала путевку, переплатила еще совершенно безбожно, занимать пришлось в кассе взаимопомощи. И мы уехали почти на все лето: жили сначала по путевке в профсоюзном Доме отдыха, а потом мне удалось снять домик в частном секторе, и мы остались еще на месяц. Савва писал Яне письма, каждую неделю относил их на почту и сам забирал оттуда ответы; да, надо сказать, что она отвечала – не часто, но все же. Потом письма от нее вдруг приходить перестали. А когда мы вернулись домой, оказалось, что Яна со своей матерью съехали из дома на Удельной, куда – никому не известно.
– Савва сильно переживал?
– Он заболел. Сначала ангина, потом осложнения – скарлатина. В конце августа, представляете? Пришлось пропустить начало учебного года, и к занятиям сын приступил только в октябре. Вот такая история. Ну, а потом Савва поправился и все снова вошло в свою колею: и школа, и математика, и университет…
– И он не пытался ее найти?
– Вы удивитесь, но нет. Как будто бы знал что-то – да, переживал очень, страдал, но не был удивлен, что она исчезла, и не считал нужным искать. Он просто ждал ее возвращения.
– А Яна? Неужели просто пропала, и все?
– Да, пропала и все.
Леокадия Адольфовна с силой раздавила окурок в пепельнице и отвернулась. Я ждал. Отчетливо и неспешно тикали часы на комоде.
Она снова открыла портсигар, поднесла к губам папиросу. Я было потянулся со спичкой, но она махнула рукой, взяла у меня коробок, прикурила и нервно выдохнула серый дым, едва не закашлявшись.
– Виктор, у вас есть дети?
– Нет.
– Тогда вам не понять.
– Чего же?
– Почему я два с половиной года сжигала письма, которые Яна присылала моему сыну. И только попробуйте еще так на меня посмотреть или вздохнуть – быстро отправитесь за двери, вам ясно?
Я сидел тихо. Она продолжала.
– Я этим совсем не горжусь. Но иначе поступить не могла. У моего сына невероятные способности к науке, да что там – он гениален. Вы это знаете, все это знают, и я это знала и видела с самого раннего детства. Думаете, легко было переехать ради него из провинции в Ленинград, устроиться на полную ставку в театр? Пробиться в лучшую математическую школу в городе? Поднимать в одиночку сына, когда у самой то репетиции, то спектакль, и нельзя ни отпроситься, ни отказаться, потому что быстро потеряешь и ввод на роль, и оклад? А еще надо вести хозяйство – в деревянном доме с дровяными печами и колонкой на улице, вот это все легко было? Я не жалуюсь, это мой выбор, и наша судьба, моя и сына. И разрушить или обессмыслить её я не дам никому.
Да, от Яны приходили письма, по два-три в месяц. Первое пришло, когда Савва был в школе, а у меня выпал выходной на неделе. Помню, что как-то сразу, почти рефлекторно, разорвала его и сунула в кухонную плиту – я как раз стряпала что-то. Потом сходила на почту и договорилась, что если еще будут приходить письма на имя сына, их не доставляли, а откладывали для меня. В конце концов, я мать, а Савве тогда не сравнялось еще и четырнадцати. Я думала, что придет еще два, может быть, три письма, но они приходили почти еженедельно, и мне ничего не оставалось, как продолжать жечь их одно за другим…
– Не открывали?
– За кого вы меня принимаете?! – возмутилась Леокадия Адольфовна. – Разумеется, нет. Только посмотрела обратный адрес. Они, оказывается, уехали в Ростов-на-Дону – наверное, вслед за так называемым отцом Яны. Мы, кстати, тоже перебрались в 1965 году из дома в Озерках вот в эту квартиру, но представляете – письма от Яны все шли и шли на наш старый адрес. Последнее я забрала на почте в январе 1966 – и почти двадцать лет пребывала в уверенности, что все кончилось раз и навсегда. Так что можете представить мои чувства, когда я увидела Яну на фотороботе у сотрудников Комитета.
– Я могу представить себе чувства Саввы.
Мы помолчали. Чай остыл. В пепельнице чуть тлел неловко затушенный окурок.
– Не знаю, как такое возможно, – наконец произнесла Леокадия Адольфовна. – Но ведь не все в жизни можно объяснить, правда? Верила бы в черта, сказала бы, что Яна – черт. Но я не верю в чертей, да и в Бога не очень-то. Это ведь она вас втянула в это дело, да? Ответьте-ка: кто сказал вам, что им с Саввой нужно скрываться от КГБ и бежать за границу? Кто наверняка сочинил к этому десять разных историй, чтобы убедительнее прозвучало? Кто просил вас о помощи? Яна или мой сын?
Я промолчал.
– Вот то-то и оно. Впрочем, я отвлеклась на собственные рассказы и совершенно упустила из виду вас: ведь вы пришли с какой-то просьбой? Или с вопросом?
Я пожал плечами. Ответ на свой главный вопрос я уже получил, но сказал все-таки:
– Да, собственно, только с одним. Вы знаете, где Савва сейчас? Он не связывался с вами в последние дни?
Леокадия Адольфовна покачала головой:
– Увы, нет. Кроме того сообщения четыре дня назад вестей не было. Но знаете что? Если вы оставите мне свой номер, я смогу сообщить, когда Савва объявится. Ну, или, может быть, адрес, если нет телефона.
Я подумал, посчитал последствия, оценил варианты и покачал головой:
– К сожалению, Леокадия Адольфовна, у меня нет сейчас ни телефона, ни адреса. Если честно, то я даже не представляю, где окажусь сегодняшним вечером.
* * *
Девочек во дворе уже не было, остались только пустые белые клетки на сером асфальте. Сизое небо серело, наполняясь густеющим дымом, несло торфяной гарью, и от этого першило в горле и щипало глаза. В тишине отбивал медленный ритм метроном, отдавался эхом между домами: похоже, включили системы тревожного оповещения граждан.
Где-то хлопнула дверь парадной. Я хотел было закурить, но не стал; сел на скамейку под старым одышливым кленом и некоторое время сидел, глядя перед собой. Потом встал и пошел к телефону-автомату в дальнем углу двора: нужно было проверить кое-что и убедиться в том, в чем убеждаться совсем не хотелось.
Трубку сняли после второго гудка.
– Виктор Геннадьевич, – раздался знакомый голос. – Не думал, что позвоните снова так скоро.
– Откуда вы… Впрочем, неважно. Хочу попросить об одолжении.
– Не стесняйтесь, одалживайтесь.
Я объяснил.
– Что ж, это возможно, – сказал Кардинал. – Перезвоните часа через два.
Я вышел прочь со двора, перешел проспект и отправился по набережной в сторону моста. Над водой беспорядочно реяли, хрипло вскрикивая, серые от копоти чайки. Долговязый рыболов в белой рубашке неподвижно стоял под деревьями у самой воды и гипнотизировал поплавок. Дым завитками стелился у его ног, словно щупальца немого чудовища, всплывшего со дна Большой Невки. Вышагивать по центральным городским магистралям было, наверное, не лучшей идеей, но в тот момент меня не заботила опасность ареста: я думал про Яну, которая так упорно не меняла свой облик, про Савву, про то, как он двадцать лет ждал возвращения из созвездия Часов своей первой и единственной в жизни любви – и дождался, и был готов пойти вместе с ней куда угодно, и сказать, и подумать, и сделать, что она велит, и от всего этого мне было так гадко на душе, как никогда в жизни.
Смог нависал над городом, словно дыхание Везувия над Помпеями, и клубы горячего дыма над горизонтом походили на тучи, готовые разразиться потоками пепла и праха. Все автомобили казались серыми, они проносились по улицам и проспектам сквозь призрачные слои дыма, оставляя за собой туманные вихри. Редкие прохожие держались обочин, проходили быстро, не глядя по сторонам. На многих окнах домов вывесили мокрые простыни, будто белые флаги капитуляции. Пустой стук метронома разносился из всех громкоговорителей, безмолвием немого ритма наводя жути больше, чем завыванья сирен.
Через два часа я оказался на Инженерной улице неподалеку от цирка. Афиша рядом с телефонной будкой звала посмотреть на бенгальских тигров и джигитов Узбекистана. Я набрал номер и выслушал то, что уже и так знал.
– Это точно? – спросил я, надеясь на что-то.
– Абсолютно, – ответил Кардинал и добавил: – Какая любопытная картина выходит, Виктор Геннадьевич, не находите?
Идти больше было некуда и незачем, но я все равно побрел без всякой цели и толку просто потому, что если бы сел, то так и остался бы сидеть – пока город не исчез бы в сполохах дымного пламени, или пока бы с разных берегов океана не взлетели баллистические ракеты, или пока шеда Иф Штеллай, раскрыв за спиной черные вдовьи крылья, не пришла бы за мной, чтобы за руку отвести в небытие за последнюю грань Полигона.
– Эй, друг, – окликнули из подворотни. – Третьим будешь? Банку хотим раздавить.
Я с готовностью согласился. В кошельке нашелся помятый рубль, и один из двоих, помоложе, в синем спортивном костюме и дырявых домашних шлепанцах на босу ногу, скомкав в кулаке купюры и мелочь, скрылся в полуподвале под вывеской «МАГАЗИН». Второй, пожилой и пузатый, в клеенчатой серой шляпе, которую надевают во время дождя грибники, стоял рядом со мной, пыхтел и смотрел в неизвестность. Гонец вернулся с поллитрой «Московской Особой», плавленым сырком и четвертинкой хлеба, и мы не стали медлить, прошли через низкую арку, зашли в дверь черного хода и поднялись на третий этаж. Лестница была узкой, площадка между этажами тесной, застоявшийся десятилетиями затхлый сумрак пропитался запахом мочи – не резким, а каким-то привычным, едва не уютным запахом подслеповатой старости и смирения.
Тот, что постарше, пил из складного стаканчика. На тыльной стороне его тяжелого кулака красовался бегущий на фоне заката олень, исполненный оттенком тюремного синего. Для его молодого приятеля и для меня нашлась разделенная надвое пластмассовая мыльница, в половинки которой мы аккуратно разлили водку. Она была теплой, и сивушный дух пьянил едва не сильнее, чем спирт. Мы молча выпили, глядя сквозь серое от пыли и грязных разводов треснувшее стекло на одинокое дерево, торчащее посередине квадратного двора: странно скособоченное, с извилистым гнутым стволом, как бывает, если дерево растет на открытом всем ветрам горном склоне – но это высовывалось из дыры в асфальте, окруженной уходящими в мутное небо шершавыми стенами домов, по которым крупным наждаком прошлось время. Я захотел посмотреть на дерево ближе, стал спускаться по лестнице, увидел тесный боковой коридор – две ступеньки в начале, две в конце, одна фанерная дверь с намалеванной красной краской цифрой 11 – свернул, протиснулся меж липких зеленых стен, вышел на другую лестницу, еще темнее и у#же первой, и спустился во двор – но дерева в нем не было, а был похожий на вагон маркитантки обширный пивной ларек, рядом с которым посередине не просыхающего пятна от пролитой пены стояли несколько тяжелых железных столов – и вокруг них толпились люди, а другие сидели на поребриках, а прочие стояли в длинной извилистой очереди, и я тоже встал за каким-то невысоким бородатым мужичком в линялой тельняшке. Над двором плыл разноголосый гомон. За мутным стеклом узкого окна черной лестницы маячили недвижные лица моих давешних собутыльников.
Очередь двигалась, извиваясь и шевелясь, как толстая мохнатая гусеница. Я уже видел черный провал огромного, словно пещера, окна, за которым царила облаченная в изжелта-белый халат продавщица божественно-исполинских пропорций; я слышал, как завсегдатаи зовут ее Мамочка, и очередь влекла меня к ней, как течение времени к общему для каждого из живущих финалу. Когда до окна оставалось всего два человека, бородатый мужик в тельняшке вдруг отошел в сторону, и через мгновение я предстал перед Мамочкой, величественно наполнившей для меня пару кружек. Я отошел, огляделся и увидел, как помятый мужичок в тельняшке, минуту помыкавшись, снова встал в конец очереди.
Я растопырил локти и бесцеремонно втиснулся за ближайший стол, вокруг которого стояли трое; они словно и не заметили моего вторжения, только потеснились спокойно и продолжили разговор, прихлебывая из кружек и по очереди отламывая кусочки от лежащего в центре стола круглого черного хлеба. Они были похожи друг на друга, как дробящееся отражение в зеркальном трюмо, так что, когда один говорил, складывалось такое чувство, что заговорили все трое.
– Любовь не имеет ничего общего с обладанием. Ее высшее проявление – предоставлять свободу.
– Но настоящая свобода начинается только по ту сторону отчаяния.
Я поднес кружку ко рту, вдохнул горький хмельной запах, сделал большой глоток – и божественный напиток от Мамочки с такой силой ударил в голову, что будь на мне кепка, она непременно слетела бы; потом пиво смешалось с водкой, и мне показалось, будто какой-то злой дух надел мне на нос очки, одно стекло которых увеличивало все до чудовищных размеров, а другое до такой же степени уменьшало. Дрожащими пальцами я потянулся к хлебному караваю, но тот исчез, и вместо него я наткнулся только на сухие и голые рыбьи кости.
– О какой свободе можем мы говорить, если человеку только кажется, что он совершает свою волю в то время, как постоянно творит чужую, не осознавая этого?
– Но если он примет страх, как головокружение истинной свободы, то сможет освободиться и от чужой воли.
– Потому любовь и предоставляет свободу, что побеждает страх.
– И что с того? Доселе человек был рабом чужой воли, а после становится таким же рабом любви.
– А каково ваше мнение?
Я уже разделался с одной кружкой и принялся за вторую, пытаясь разгадать смысл маневров бородатого мужика в тельняшке, снова и снова возвращавшегося в конец очереди, а потому не нашел, что ответить, и просто рявкнул, удивив и себя, и троицу, и вообще всех вокруг:
– Милиция! Ваши документы!
Видимо, для убедительности я сильно врезал по столу, потому что и кружки с пивом, и рыбьи кости вдруг полетели мне в физиономию. Я отмахнулся, потерял равновесие, больно стукнулся задницей об асфальт и увидел, что сижу под прихотливо изогнутым деревом, торчащим посередине двора. Ни ларька, ни трех собутыльников, ни мужика в тельняшке, ни Мамочки – только старуха в зеленой широкополой шляпе с желтой вуалью, горбясь и опираясь на палку, смотрела на меня, стоя у двери на черную лестницу.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?