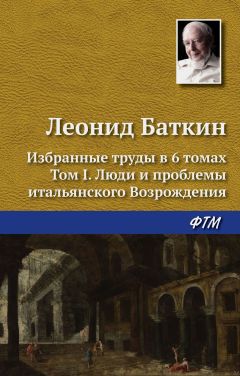
Автор книги: Леонид Баткин
Жанр: Культурология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: 18+
сообщить о неприемлемом содержимом
Вот они собираются в мастерской переписчика Веспасиано да Бистиччи, увлеченно, как равные, ведут ученую беседу – Бруни, Козимо Медичи, Марсильи, Никколи, Мальпагини… Что общего между ними?
Некоторые из них были членами старых корпораций, но то, что их делало гуманистами и объединяло, не имело отношения к цехам и университетам. Местом их встречи служили загородная вилла, монастырская библиотека, книжная лавка, дворец государя и просто частный дом, где уютно разговаривать, перелистывать рукописи, разглядывать античные медали. В подражание древним они начали называть свои кружки «академиями». Однако не принадлежность к академии делала гуманистами, а гуманисты создавали академию. И чтобы войти в их тесный круг, требовалось лишь одно условие – блеснуть знаниями и способностями на ниве studia humanitatis.
Иными словами, единственный обязательный и постоянный признак, объединявший гуманистов в особую группу, заключался в гуманизме. Это не тавтология. Конституирующим признаком служила исключительно духовная общность, которая отчасти социализовалась и превращалась в общность реально-групповую, но по самой своей слишком широкой и эфемерной природе не могла быть вполне материализована и закреплена. Грань между гуманизмом как умонастроением и как деятельностью условна. Гуманизм – выражение, так сказать, «блуждающей», неопределенно всеобщей социальной функции, ранее неизвестной и не предусмотренной в анатомии общества. Поэтому реализацию этой функции брали на себя люди совершенно разных состояний и статусов, с которыми они отнюдь не порывали. Их роли приобретали двойственность: в одной плоскости они купцы, чиновники, клирики и т. д., а в другой – гуманисты. Гуманисты они не потому, что им положено заниматься гуманизмом, не в силу фиксированного места, отведенного им в социальной структуре, а, напротив, вне такого места, вне заранее данной структуры. Почему же тот, а не другой? Кардинал Бембо, а не кардинал Ипполито д'Эсте? Купец Чириако д'Анкона, а не купец Морелли? Почему Тосканелли, Мальпагини, Брунеллески, а не сотни иных врачей, преподавателей, художников образовывали новую среду? Причастность к ней зависела преимущественно от духовных свойств конкретной личности. Именно индивидуальность, именно перекличка и сцепление личных позиций – исходный момент формирования гуманистической интеллигенции.
Потому-то не всегда ясна граница между гуманистами и негуманистами. Среди корреспондентов Гуарино, или Верджерио, или любого другого известного гуманиста встречаются юристы, врачи, теологи, втянутые в круг гуманистических интересов; все же трудно сказать, гуманисты ли они. Гуманисты – это те книжники, которые усвоили особый и необычный стиль общения, определенный круг занятий и чтения, способ мышления. Сколько таких людей действовали одновременно в Италии в любое десятилетие XV в.? Я не знаю, производились ли подобные подсчеты. Во всяком случае, речь идет о сотнях, а не о тысячах; даже среди немногочисленных образованных людей гуманисты, конечно, составляли явное меньшинство. Между ними и вполне традиционными интеллектуалами, естественно, была переходная и аморфная прослойка, состоявшая из полугуманистов или из тех, кто подладился к новым требованиям поверхностно.
Когда в XVI в. навыки ренессансного воспитания и осведомленности стали среди просвещенных верхов чем-то общепринятым, границу между новыми интеллигентами и, так сказать, просто интеллигентными людьми было бы трудно уже провести по прежнему духовному критерию. Однако тогда же, именно на основе экстенсивного распространения и признания гуманистических занятий и знаний, вошедших в преемственную структуру общественной деятельности, постепенно обозначилась возросшая социальная формализация интеллигенции.
Академии из частных кружков стали превращаться в профессиональные объединения под покровительством власти. К XVI в. групповой облик гуманистов начал застывать. Классическая образованность обернулась модой, а сопричастность к ней – почтенным клеймом, уже не обязательно соответствующим личным достоинствам. Укрепление групповой общности гуманистов означало вместе с тем, что они успели выработать свои шаблоны, воспитать своих педантов и эпигонов, породить свой конформизм. Но, когда и поскольку это обнаружилось, гуманисты (в узком «филологическом» смысле слова) утратили прежнее духовное значение. Уже Леонардо да Винчи подчеркивал, что не желает иметь с ними дела, Макьявелли был от них далек, Аретино смеялся над ними. То же самое случится и с художниками. Начиная с 1563 г. цехи сменяются академиями. Пройдет еще столетие, и новая интеллигенция оформится вполне. Но перестанет быть ренессансной.
«Труды в досуге»В представлениях гуманистической среды уже со второй половины XIV в. Studia humanitatis стереотипно сопряжены с понятием «досуг» (otium, ozio), тоже заимствованным у Цицерона. Этот заполненный высокими занятиями, сладостный и отрадный досуг всегда противопоставлен службе и вообще всяким деловым обязанностям (negotium, ufficio). «Хотя бы то время, которое оставляют тебе другие заботы и необходимые для жизни дела, с великой пользой присвой и употреби на то, в чем способна раскрыться твоя одаренность. Нет ничего более пригодного и подобающего для приобретения добродетелей и благонравия, чем усердное чтение ученых античных писателей»[53]53
Alberti L.B. Opere volgari, vol. II / A cura di C. Grayson. Bari. 1960–1966, p. 241.
[Закрыть]. Otium очень близок к тому, что современные социологи называют сферой «свободного времени», т. е. не такого времени, когда человек непременно бездельничает, а когда он принадлежит только себе и занят тем, чем ему хочется заниматься, а не тем, чего от него требуют внешние обстоятельства. Исходная антитеза negotium – otium, решающая для понимания социальной природы гуманистической группы, конкретизируется и раскрывается в ряду семантических оппозиций: службы и служения, профессии и призвания, внешнего и внутреннего, обыденного и возвышенного, вынужденного и свободного, постылого и приносящего желанное наслаждение.
Нужно оговориться: otium мог иметь также негативное значение уклонения от человеческих обязанностей, нелюбознательной лености, монашеского безделья, a negotium в этом случае приобретал позитивный смысл. Но элементарное противопоставление труда и безделья перекрывалось более тонкой антитезой двух «досугов», о которой здесь идет речь: ведь подлинный otium не просто «досуг», не «порочный досуг», не «ленивый досуг», а «труды в досуге» (in otio meo negotia). Следует «время досуга проводить не досужно». Высший же negotium – это чуждые суетным трудам занятия словесностью и созерцание истины. Понятия «otium» и «negotium», таким образом, сдвигались и обменивались местами. Когда, скажем, Гуарино писал «litterarum officium», то «officium» здесь означало именно «otium»[54]54
Guarino Veronese. Epistolario / Racc. da R. Sabbadini. Vol. I. Venezia, 1915, № 186, p. 296, 235; Vergerio P.P. Epistole. Venezia, 1887, № VIII, p. 9: Верджерио желает своему корреспонденту «все время своего досуга (ottii) проводить не досужно (non otiose)». Ср.: Boccaccio G. Della Genealogia de gli Dei / Trad, per G. Betussio. Venezia, 1585, lib. XIV, p. 227.
[Закрыть].
Поджо Браччолини – о нем рассказывает все тот же Бистиччи – «сверх секретарских обязанностей и скриптория, никогда не терял времени, предаваясь сочинениям и переводам». Став канцлером, он также совмещал «ufficio» и «ozio». В старости он подал в отставку, «чтобы иметь досуг и лучше высвободиться для занятий». «Он был к этому времени очень богат, прожив долго при римской курии. Он обладал немалой суммой в наличных, землями, многими домами во Флоренции, прекраснейшей мебелью и скарбом и множеством достойных книг и поэтому не нуждался в заработке… Покинув дворец [Синьории], имея досуг, он начал „Историю Флоренции“»[55]55
Bisticci V. da. Op. cit., p. 423–425.
[Закрыть].
Джанноццо Манетти, член флорентийского правительства (Синьории), дипломат и викарий, сочинил жизнеописания Сократа и Сенеки, опять-таки «несмотря на всю эту занятость», и сумел написать свою книгу «О достоинстве и превосходстве человека», ибо «распределял время так, чтобы не терять его».
Время всегда приходится выкраивать, и гуманистами становятся именно в эти высвобожденные часы досуга. Дзаноби Страда, сын «Джованни Грамматика, который держал во Флоренции общественную школу», в юности помогал вместе с братом отцу, «чтобы заработать и пропитать бедную жизнь» (позже он служил при Неаполитанском дворе и был апостолическим протонотарием). «Но он, с его высоким свободным духом, который по врожденному благородству не мог смириться с вещами низкими и заурядными, все время, которое мог выкроить… сколько бы его ни оставалось, прилежнейшим образом тратил на изучение поэтов и философских наставлений, за которыми следовал в пламенном учении (con ardentissimo studio), отчего стал в юности своей и большим поэтом и достойным сочинителем прозы…» Когда Дзаноби получил должность при курии, «это отличие очень повредило его занятиям, ибо, желая хорошо исправлять свою службу, он не прилежал, да и не мог прилежать, занятиям поэтическим и, став уже человеком богатым, [службу] оставил».
Подобных противопоставлений нет у Ф. Виллани в биографиях врачей или юристов, они возникают только в связи с жизнеописаниями гуманистов, которые Виллани, впрочем, еще не выделяет вполне осознанно. Но именно в рассказах о Боккаччо, Салютати, Дзаноби Страде возникает характерный мотив поисков истинного призвания и независимого ozio в стороне от привычных и практичных профессий. Ранним гуманистам приходилось при этом восставать против родительской воли. Боккаччо «еще не вполне изучил грамматику, когда отец пожелал и заставил его ради прибыли сидеть за счетами и разъезжать», а затем «отдал его изучать каноническое право», но в конце концов уступил «горячему желанию» сына – и «Джованни, почувствовав себя свободным, с величайшим старанием начал исследовать то, что было потребно для поэзии»[56]56
См.: Villani F. Op. cit., p. 5–6,9–10.
[Закрыть]. Простая эпитафия, которую сочинил сам Боккаччо и которая была высечена над его могилой в Чертальдо, звучала для средневековья необычно: «Его любимым занятием была благодатная поэзия». Этим в качестве жизненного итога обозначен не «negotium», a «otium». Эпитафия указывала, кем был автор «Фьезоланских нимф» на деле, а не по внешнесоциальным признакам; не кем его делали происхождение и готовые обстоятельства, а кем он сам себя сделал.
Свобода распоряжаться собой и своим временем – предварительное условие для того, чтобы стать гуманистом; причина выбора необычного пути неизменно описывается как неудержимый внутренний порыв, как веление личной судьбы. Салютати «по желанию отца перешел (после овладения свободными искусствами. – Л. Б.) к изучению нотариального дела» и лишь позже добился возможности «отдаться поэзии, словно бы призванный к этому более счастливыми звездами», «как если бы он для этого был рожден». Такова же биографическая схема, по которой стали гуманистами Манетти или Леон Альберти: могучее призвание, охватывающее юношу и рано или поздно (у Манетти после 25 лет) побеждающее косную волю семьи, побуждая выламываться из традиционного образа жизни и предопределенного набора социальных занятий. Отец Никколо Никколи был «купцом и богачом», имел четырех сыновей, и все занимались торговлей. «Когда Никколо был ребенком, захотел отец, чтобы он делал то же самое, и не смог он, как желал бы, высвободиться ради словесности». Только после смерти отца, получив хорошее наследство, Никколи сразу бросил торговлю и «отдался латинской словесности»[57]57
Ibid. p. 14; Bisticci V. da. Op. cit., p. 473. Ср. рассуждения Вазари (гораздо более поздние, но верно описывающие минувшую ситуацию) об отцах, мешающих детям отдаться тому делу, которое им больше по вкусу. В артистической среде этот конфликт затянулся дольше, чем в гуманистической. Отец Джулиано де Майано, сам каменотес, хотел сделать из сына нотариуса; отец Гирландайо, ювелир, отдал сына в ученики к ювелиру же; Бальдовинетти, чтобы заняться живописью, пришлось порвать с традиционной для его семьи торговлей и т. д. (Вазари Дж. Жизнеописания. М., 1963, т. II, с. 239, 305). См. также: Wittkower R., Wittkower M. Born under Saturn. London, 1963, p. 11–12.
[Закрыть].
В одном из писем Верджерио мы находим назидательный рассказ о том, как отец просил его жениться, а он отказывался, не желая стеснять свободы ученых занятий. Доводы отца и возражения сына изложены в виде маленького диспута. Обе речи звучат весьма красноречиво, проникнуты – что далеко не всегда бывало в реальности – взаимным пониманием. Беседа закончилась тем, что «отец предоставил мне свободный выбор»… Как водится, приобщение к studia humanitatis насыщено в социальном плане пафосом свободного определения жизненного пути. «Я знаю, что ничто не обременительно для человека, ежели он сам этого желает».
Автобиографический экскурс выступает у Верджерио иллюстрацией к предшествующему рассуждению о выборе профессии. Это «трудное решение», ибо, выбрав жизненное дело, мы служим ему до последнего вздоха. Нельзя навязывать юношам в этом отношении опыт отцов, необходимо довериться их собственным природным склонностям. И тут же Верджерио характерно показывает, что гуманизм, собственно, не профессия, а призвание, – обличая людей, которые обращаются к словесности ради денег и почестей, а не учености и добродетели. «Мы считаем мудрыми, благими и счастливыми тех, кого таковыми считает толпа, полагаясь не на правильное суждение, а на общее мнение. Так же и в занятиях наших мы ищем не благородного и достойного, а почестей и выгод, взыскуемых честолюбием и алчностью»[58]58
Vergerio P.P. Epistole, № XXIV, p. 29–32.
[Закрыть].
«Правильное суждение» противопоставлено «общему мнению», гуманисты – профессионалам, истинно мудрые – толпе, самодостаточные ученые занятия – занятиям словесностью ради внекультурных и корыстных целей. Формулы очень почтенной давности заключают в себе новую подоснову: антитезу otium и negotium как критерий отличения гуманизма и гуманистов. Верджерио выдвигает отвлеченно-идеальные требования, но его риторические стереотипы все же преломляют действительное положение вещей. Конечно, гуманисты не стеснялись обменивать свои знания на деньги и престиж, не переставая от этого быть гуманистами, но их общественное влияние и групповая общность исчезли бы, если бы они не припадали к чисто культурному источнику того и другого, о незамутненности которого печется Верджерио.
Социальный статус ренессансных интеллигентов заключался в отсутствии определенного статуса. Талант и образованность помогали сделать карьеру и утвердиться на любом поприще, даже облачиться в кардинальскую мантию или пройти, как Томмазо Парентучелли, путь от мастерской переписчика до папского престола. Конкретные социальные облики гуманистов разнообразны, потому что их функция универсальна: они не «узкие специалисты», а специалисты по культуре вообще. Они – носители нового благородства (nobilitas), отождествляемого с личной доблестью и знанием. Этим гуманисты отличаются и от средневековых цеховых интеллектуалов, и от интеллигентов индустриального общества. Выбор для них лишен жесткости, ибо носит личный характер, осуществляется вне прежних шаблонов, дает возможность проявить себя в широком наборе социальных ролей и преуспеть в них настолько, насколько позволяют собственная одаренность, энергия и случай. Все они – личности, пусть неодинакового масштаба, все жаждут самовыражения, многим из них изящная латынь заменяет родословную, а остроумие – власть. Цицерон и Платон прокладывают им дорогу к славе.
Их объединяет открытость судьбы.
Так как их социальный статус был лишь малоосязаемым и зыбким следствием статуса гуманистической личности, неудивительно, что каждый из этих людей озабочен самоутверждением. Самые скромные из них все-таки напоминают своего великого родоначальника Петрарку, у которого не было более важного и увлекательного объекта для размышлений, чем его собственное «я». Чему, как не этому «я», были обязаны все они своей почетной интеллигентностью? Увы, благородное духовное честолюбие нередко обращалось в тщеславие. Гуманисты затевали склоки, осыпали друг друга грязными оскорблениями и тем парадоксально доказывали свою групповую общность… Впрочем, они не только соперничали, но и дружили. В какой бы город ни приехал гуманист, он легко разыскивал собратьев по духу. Они дорожили личными контактами, ободряли друг друга, обменивались бесчисленными эпистолами и в конце концов в XVI в., разбросанные по Европе, почувствовали себя гражданами единой «республики ученых».
Так интеллигенция узнала о своем существовании.
Самоутверждение личности: Пико делла МирандолаС какой горделивой и достойной скромностью, с каким обостренным личным самосознанием (чуждым, однако, того, чтобы противопоставлять себя субстанциональному или видеть в оригинальности истины что-либо, кроме выражения ее вечности), с каким бездонным честолюбием и с какой погруженностью в высшие интересы духа – короче, с каким характерно гуманистическим индивидуализмом отстаивал молодой Пико делла Мирандола в «Речи о достоинстве человека» свою знаменитую идею диспута в Риме! Он предложил провести этот диспут вокруг сочиненных им «900 тезисов», где были сведены идеи многих авторов, а также его собственные идеи касательно всех проблем, волновавших умы тогдашних философов, теологов, астрологов и прочих, кто размышлял о Боге, человеке и природе. Как известно, Пико собирался защищать свои тезисы против всех ученых, которые пожелали бы прибыть в Рим за счет автора.
«Некоторые не одобряют в целом такого рода диспутов и обыкновения публично обсуждать ученые вопросы, настойчиво утверждая, что это дает не столько сопоставление учености, сколько возможность покрасоваться талантом и образованностью». Другие же не одобряют «такого рода занятий» не вообще, а именно в нем, в Пико, «ибо я, в этом возрасте двадцати четырех лет, осмеливаюсь предложить диспут в знаменитейшем городе, на обширнейшем сборище ученейших людей, в апостолическом сенате, относительно возвышенных тайн христианской теологии, высочайших положений философии и покрытых неизвестностью учений».
Но ведь мало того что диспут для ученых – то же, что и гимнастика для тела. Он, Пико, решился на него, ибо, и проиграв, он выиграет. Когда речь идет об истине – нет проигравших. Он искренне и по совести заявляет, что лишен чего-либо великого и исключительного и при всей страсти к учению не претендует на имя ученого и не является им. Но пусть о нем, Пико, судят не по молодым его годам, а по сути тезисов.
Это – при подобающих формулах скромности – иллюстрация к основной мысли «Речи» о возможности для каждого человека возвыситься до существа небесного, если он того пожелает. Идея диспута в контексте трактата «О достоинстве человека» неизбежно означает утверждение космического достоинства автора, и все хвалы Человеку, делающему свободный выбор и воспаряющему к Богу, с полной естественностью и уверенностью подразумеваются в замечаниях сугубо личного порядка. «Отваживаясь на такое великое предприятие, я должен или провалиться или восторжествовать, и если я восторжествую, то не вижу, почему победить на 10 тезисах похвально, а на 900 может быть поставлено в вину».
И далее следует цитата из Проперция: «…se deficiant vires, audacia certe / Laus erit: in magnis et voluisse sat est» («Если сил и не хватает, то, конечно, смелость похвальна: в великих делах достаточно уже желания»). Этот стих был вполне в духе эпохи. Гуманисты могли бы избрать его девизом. «В нашем веке многие… не только что по девятистам вопросам, но даже по всем вопросам, какие ни на есть, привыкли предлагать диспуты, не без чести для себя»[59]59
Pico della Mirandola G. De hominis dignitate. Heptaplus. De Ente et Uno / A cura di E. Garin. Firenze, 1942, p. 132, 136, 138. Ср. с замечанием Кастильоне по поводу популярного тогда (приводимого и у Фичино) рассказа об Александре Македонском, услышавшем, что существует бесчисленное множество миров, и воскликнувшем в ответ: «А я не покорил еще даже одного!» Кастильоне пишет: «Но выдающимся людям поистине надлежит прощать, когда они заносятся; потому что, кто берется за великие дела, тому потребны смелость в их осуществлении и вера в себя» (Castiglione В. Cortegiano. Torino, 1955, lib. I, cap. 18, p. 113).
[Закрыть].
Итак, гуманисты – это неформальная малая группа, которая вырабатывала не просто идеи и т. п., а нового субъекта культуры. Гуманистическую группу можно выделить по характеру otium, не случайно имевшего решающее значение для ее конституирования, по кругу интересов и занятий в «свободное время», по стилю жизни и общения, по способу мышления и культурного самосознания, ибо для такой группы самосознание и самоопределение выступают, естественно, важнейшим и вполне «объективным» отличительным признаком. Необычность групповой общности, столь отличной от всех существовавших ранее корпоративных связей и лишь очень немногими и частными приметами перекликавшейся с веселыми флорентийскими компаниями («brigate») еще дантовских времен, была, конечно, вполне оценена и прочувствована гуманистами.
Понятно, что общность такого рода, образовавшаяся вокруг некоторого идеализированного социально-культурного представления, вокруг сознательной духовной ориентации, была бы просто невозможна без группового самосознания, без раздумий гуманистов над тем, что же их объединяет.
Бистиччи рассказывает об одном из самых ранних гуманистических кружков Кватроченто, собиравшемся у Франко Саккетти – младшего. Саккетти «никогда не делал никакого дела: он занимался только словесностью». Дважды в году он приглашал к себе в загородный дом на два-три дня компанию из 10–12 «образованных и благородных людей». «Все они были из самых влиятельных в городе, образованных и опытных». Здесь можно было увидеть Пандольфи, Пьеро и Доменико Пандольфини, Аламанно Ринуччини и «ученнейшего грека Джованни Аргиропуло в сопровождении учеников», который был душой кружка. У Саккетти не развлекались играми, «как во многих виллах». «Прогулки, которым они предавались, были заполнены рассуждениями о словесности, об управлении общественными делами и о [других] достойных вещах».
«Родились между названными [мужами] узы любви столь великой, что можно сказать – были они многими душами в одном теле. Таковы плоды истинной дружбы. Был столь силен дружеский союз стольких достойных людей, что редкий день они не собирались вместе из-за сходства их нравов [совпадения их образа жизни]»[60]60
Bisticci V. da. Op. cit., p. 483–484; Guarino Veronese. Epistolario, vol. II, p. 141.
[Закрыть]. «La similitudine di lore costumi» – удачная формула. В переписке Гуарино встречаются формулы не менее развернутые и точные (впрочем, тоже стереотипные для Кватроченто). Общность, к которой он принадлежит, – это «ученые люди и все сословие литераторов» (или: «занимающихся словесностью», «litteratorum ordo»). Гуманисты определялись через гуманизм. И действительно, сначала появились термины «studia humanitatis», «humanitas», а позже – «humanista»[61]61
Campana A. The Origin of the Word «Humanist» // Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, 1946, vol. IX, p. 60–73.
[Закрыть]. Другого критерия не знали, этот же существовал как идеальная норма поверх социальных различий. Конечно, под покровом стилизованных отношений такие различия не могли не давать о себе знать, но весь тон гуманистической среды оттеснял их в сторону, давал людям сойтись, невзирая на разницу в общественном положении; здесь первенствовали более интеллектуально блестящие, а не более богатые и могущественные. Не забудем, что в школе Гуарино, как и у Витторино да Фельтре, учились на равных лица самого скромного положения и отпрыски княжеских родов, что вообще сближению гуманистов разного происхождения способствовала унаследованная от века коммун и чуждая сословной дистанцированности «демократическая», как мы теперь сказали бы, общественно-бытовая атмосфера. Простота и достоинство в отношениях самых рядовых ремесленников с самыми именитыми людьми города хорошо видны, например, в новеллистике и особенно характерны для Флоренции.
«Сословие литераторов» – это «те, кто возделывает ученость, бодрствует при добродетелях, взыскует славы и научает своих дальних, современников и потомков». В 1427 г. гуманист Гаспарино Пергамено рекомендовал Гуарино ученика, некоего Франческо Мариано, который направлялся в Верону и был «готов перенести стойко все неудобства ради возможности присовокупить к латинскому языку еще и знание греческого». Корреспондент Гуарино ссылался в подкрепление просьбы на «такую тесную близость вследствие сообщества по этой нашей словесности (societas litterarum)»[62]62
Guarino Veronese. Epistolario, vol. II, p. 141; vol. 1, p. 560.
[Закрыть].
…Когда на Флоренцию двигались нанятые Альфонсом Арагонским войска под командованием тирана Римини, неистового и просвещенного Сиджизмондо Малатесты, Синьория выслала к нему навстречу для переговоров Джанноццо Манетти. Гуманист и кондотьер беседовали о новых рукописях, попавших в библиотеку Козимо, и о других ученых материях. Придя в восторг от беседы, Малатеста раздумал воевать с Медичи и повернул войска. Правда, разгневанный неаполитанский король объяснял предательство Малатесты тем, что ему не было целиком выплачено условленное вознаграждение… Но, если даже это так, мы вправе поверить, что беседа с Манетти могла для такого поразительного человека, каким был Сиджизмондо, послужить дополнительной, тоже реальной причиной внезапного изменения настроения[63]63
Об этом эпизоде и вообще о Сиджизмондо Малатесте см.: Венедиктов А. Ренессанс в Римини. М., 1970.
[Закрыть]. «Societas litterarum» воспринималось теми, кто был с ним хотя бы отчасти связан, вполне серьезно.









































