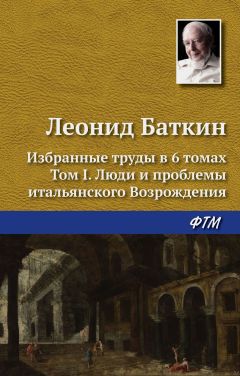
Автор книги: Леонид Баткин
Жанр: Культурология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: 18+
сообщить о неприемлемом содержимом
В «Камальдульских диспутах» Ландино гуманисты встречаются в святом и уединенном месте; вокруг монастыря простираются рощи и луга; здесь, «вдали от городского шума и тревог», легко вести «образ жизни, посвященный исследованию великих вещей»[146]146
Landino Ch. Disputationes camaldulenses, p. 724–730.
[Закрыть]. В большой ученой компании собеседники взбираются на вершину лесистого холма. Слушая пение птиц и нежное бормотание ручья, они готовы обмениваться мудрыми и красноречивыми рассуждениями.
Общение гуманистов требовало аркадийской обстановки, прекрасного зрительного обрамления, будь то сельский пейзаж или антикизированный интерьер, музыкального аккомпанемента, изящных увеселений и осмысленного распорядка.
Ранняя стадия выработки стереотипов, организующих общение, особенно подробно и хорошо описана у Джованни да Прато[147]147
Веселовский А.Н. Указ. соч., с. 193–194, 214–217,166–167.
[Закрыть]. «…Дражайшему отцу Коллуччио, канцлеру нашему, пришло на мысль собрать у себя за обедом несколько именитых друзей, флорентийцев и других, случайно находившихся во Флоренции, медиков, артистов». Так составилось «сообщество столь именитых людей, богословов и философов, которым равно доступны и открыты учения как нравственной, так и натуральной философии». Антонио Альберти предложил Салютати и гостям посетить его виллу «Парадизо», «где нам будет спокойнее и приятнее, чем в городе», и где «в одном месте соединены все удовольствия и удобства, каких только можно пожелать». Далее послушаем сжатый пересказ А. Н. Веселовского: «Антонио с братьями встретили гостей, и все вместе отслушали обедню в домашней часовне; затем все общество располагается у фонтана, под тенью сосен, где приготовлены богато украшенные скамьи и на ставке вазы, серебряные и другие, с вином и плодами; птицы поют на верху кипарисов и пиний, редкие звери гуляют по лужайкам, и Франческо (дельи Органи. – Л. Б.) сладко играет на органе».
После танцев под лютню заходит спор об отношениях мужчин и женщин. Новеллы, рассказываемые участниками компании, перемежаются изложением теории любви. Тут же Биаджо смешит собравшихся шутовскими выходками и передразниваниями. В последующие дни по утрам, пока нет дам, обсуждаются назначение и судьба человека; есть ли разум у животных, и обладают ли некоторые из животных большим «искусством и способностями» (arte e ingegno), чем другие; каковы честные пути добывания денег, и допустимо ли ростовщичество (со ссылками на Аристотеля и Платона и подробной логической аргументацией); наконец, происходит разговор об основании и истории Флоренции. Ученые дискуссии по-прежнему сопровождаются новеллами, пением, музыкой, выступлением неаполитанского скомороха и т. п. Смех, «как свежий шербет под горячим солнцем у эфиопов», освежает внимание и восстанавливает силы, утомленные дискуссией.
Это времяпрепровождение напоминает десятерых кавалеров и дам, спасшихся от чумы в «Декамероне», и предвещает более строгие и зрелые формы общения в «академиях» второй половины XV в., также, впрочем, бывших не только учеными кружками, но и непринужденно-дружескими сборищами, совмещающими диспут, пирушку, прогулку, музыку, высокую поэзию и развлечения[148]148
А.Н. Веселовский справедливо ставил беседы в обществе виллы «Парадизо» в один преемственный ряд с кружком Луиджи Марсильи; с компанией, собиравшейся в монастыре Сан Спирито, где блистал Манетти; с кружком Аргиропуло, встречавшимся на вилле Франко Саккетти-младшего; с последующими «академическими» диспутами. Жанр «Paradiso» он определял так: «Наш роман относится к переходной литературной поре, стоя и в формальном и в историческом отношениях на перепутье между конкретной новеллой XIV века и отвлеченно-философскими прениями позднейшего Renaissance. Здесь еще рассказывают и болтают, но еще больше толкуют, поднимая тонкие вопросы и выставляя на вид богатство античной науки, недавно приобретенное» (Веселовский А.Н. Указ. соч., с. 229, а также 238 и др.). Нужно только заметить, что и в Высоком Возрождении ученое общение не ограничивалось «отвлеченными прениями».
[Закрыть]. Вообще характер ренессансных «компаний», «brigate», «академий», придворных кружков, конечно, менялся и варьировался, но сохранял некоторое общее свойство универсальности общения, одновременно серьезного и игрового, интимного и приподнятого, житейского и культурного.
Такова обстановка, описанная в «Азоланцах» Бембо, с непременным антуражем бесед – садом, лугом, ручьем, отведенным в мраморное ложе, и т. д., с тем же, что в «Парадизо», смешением тона ученого трактата и новеллы. Такова и картина, набросанная в «Придворном» Кастильоне. Конечно же, перед нами, как и в других разбираемых случаях, не протокольная запись разговоров и нравов при дворе Елизабетты Гонзага, а идеализированная литературная модель. Но, очевидно, реальное общение не слишком отличалось от модели, которой оно сознательно стремилось следовать; участники всех ренессансных диалогов – живые современники автора, их действительное поведение и мнения хорошо известны читателям, и сами они тоже в числе этих читателей; поэтому диалоги должны были быть правдивы, по крайней мере, по общему колориту и тенденции, изображая персонажей в ролях, которые они старательно играли в жизни. Этих свидетельств мало, чтобы узнать эмпирию культуры, но они имеют решающее значение для понимания ее конструктивной сути.
Нельзя судить и о том, как действительно выглядела вилла Кареджи или какой-либо иной загородный дом гуманиста, по трактатам Леона Альберти, где описывается идеальная вилла, или по письмам Фичино. Знаменитый приют платоновской Академии, маленький фичиновский дом «Accademiola», или вилла Полициано, построенная Микелоццо, были гораздо скромнее своего умозрительного образца и не могли сравниться, скажем, с великолепными виллами Козимо и Лоренцо Медичи в том же Кареджи и в Поджо-а-Кайяно, но каждая из них тянулась к идеалу, и в глазах своих обитателей эти виллы были достойными жилищами философов[149]149
Castel A. Arte e umanesimo… p. 157–159,160–166.
[Закрыть]. Аналогично обстоит дело с описаниями стиля общения, которыми мы располагаем. Незачем видеть в них слепок с действительности, но это не слишком существенно, ибо сама действительность отличалась «сделанностью», общение понималось как искусство, и описания, вроде кастильоневского, достоверны в том смысле, что они нормативны.
«Этот дом, – пишет Кастильоне, – поистине мог быть назван настоящим приютом радости, и я не думаю, чтобы когда-либо в ином месте с такой силой ощущалась сладость, которую дает пребывание в дорогой и возлюбленной компании». «Почтеннейшие нравы были соединены [в ней] с величайшей свободой», «игры и увеселения» – с «изящной и торжественной величественностью» (graziosa e grave maesta), и «сама свобода служила величайшей уздой»[150]150
Castiglione В. Op. cit., lib. I, cap. 4, p. 85–96. Мимоходом Кастильоне формулирует здесь то понимание взаимообусловленного отношения творческой свободы и высшей нормативности, которое было также идеалом ренессансного искусства и которое лежало, например, в основе трактатов Леона Баттисты Альберта или Леонардо да Винчи о живописи.
[Закрыть].
Если мы теперь вернемся из Урбино во Флоренцию, из начала XVI в конец XIV в., из придворно-аристократической среды в пополанско-олигархическую республику, в гораздо более пестрое и простое общество виллы «Парадизо», мы услышим нечто сходное в отзыве автора о собиравшихся у Антонио Альберта ученых людях: «О, как трудно и не под силу передать все их остроумные изречения, божественные жесты, игривые шутки и чудную речь!»[151]151
Веселовский А.Н. Указ. соч., с. 192.
[Закрыть] И тот же мотив «il proprio albergo della allegria», поразительное соединение игривости и божественности, шутки и глубокомыслия, «riso» и «maesta», но только в несравненно более рефлексивном, выверенном античностью, теоретически законченном виде мы обнаружим, попав на фичиновскую виллу Кареджи[152]152
Chastel A. Marsile Ficin et l'art. Genève; Lille, 1954, p. 7–22; Marsel R. Marsile Ficin. p. 279–290 etc. Цит по кн.: Kristeller P. Il pensiero filosofico di Marsilio Ficino. Firenze, 1953, p. 317, 319 (см. также: с. 303–308, 322).
[Закрыть]. Участников дружеских сходок платоновской Академии встречала здесь надпись: «Все идет от благого к благому. Радуйся настоящему, но не цени имущества и не гонись за почестями. Избегай излишнего, избегай [суетных] трудов, радуйся настоящему». Фичино сообщает: «Ты увидишь в моем гимназиуме изображение мировой сферы, а рядом с нею тут же – Демокрита и Гераклита, одного – смеющегося, другого же – плачущего. Чему смеется Демокрит? Тому же, над чем плачет Гераклит, – над толпой, чудовищным животным, безумным и жалким»[153]153
Об архетипичности образов Демокрита и Гераклита в связи с диалогом Л. Альберта «Момус» см.: Klein R. Un aspect de l'hermeneutique a l'âge de l'humanisme classique: Le thème du fou et l'ironie humaniste // Umanesimo e ermeneutica. Padova, 1963, p. 11 e seg., 22.
[Закрыть].
Смех и печаль выражали амбивалентность философской мудрости, ибо философ, рождающийся под знаком Сатурна, должен быть погружен в платоническую меланхолию, но созерцание высоких тайн и отрешенность от суетных забот даруют ему также спокойную ясность и блаженство души, делая божественно веселым. Серьезность и веселость философа, таким образом, проистекают из одного источника, «плач» и «смех» предполагают друг друга. Поэтому, когда почтенный Фичино и его молодые корреспонденты обменивались подчас двусмысленными шутками в том же скандированном ритме латинской речи, объявляя себя служителями вымышленной нимфы Маммолы; когда возвышенный теоретик платонической любви отпускал словечки в духе площадного карнавала, – все это носило не просто бытовой, а словно бы ритуальный характер. Прогулки по тосканским холмам считались лекарством от меланхолии, залогом здоровья и стимулом к медитации. Музицирование на вилле Кареджи, пение solo и вместе под лютню Фичино, которой он, по-видимому, прекрасно владел, проходили под знаком Орфея, чье изображение было нанесено на инструмент. Застолье – с вполне реальными возлияниями – означало для участников философской трапезы «двойной пир, один из коих подкрепляет тела, а другой – наши души»[154]154
Bruni L. Ad Petrum Histrum, p. 98; Ficino M. Commentarium in Convivium, lib. 1, cap. 1.
[Закрыть]. И – как в романе Рабле – Панург здесь восседал в обнимку с Эпистемионом. Гуманист бывал ими обоими в одном лице.
Биограф Фичино представил нам хозяина «Accademiola» «неизменно торжественно-праздничным, превосходным рассказчиком, который, конечно, никому не уступал в тонкости обращения и остроумия. Его речи отличались большей частью этрусскими оборотами (т. е. загадочной и архаичной непристойностью. – Л. Б.); повседневно в часы, когда приходили друзья, они бывали полны фацетиями, остротами и весельем, а порой также тем, о чем поэт сказал: „Лукаво играть близ самого сердца“»[155]155
Vita Marsilii Ficini per loannem Cursium, cap. XVIII // Marsel R. Marsile Ficin, p. 686. Ср. с описанием обстановки «in agro Caregio» самого Фичино, в письме к Козимо Медичи подчеркивавшего духовную возвышенность общения (Supplementum ficinianum, vol. II, p. 87–88). Как и многие другие элементы латинской традиции, включение веселых и острых «фацетий» в возвышенную сферу серьезности было возрождено и узаконено уже Петраркой (см. раздел «De facetiis ac salibus illustrum» // Petrarca F. Rerum memorandarum libri / Per cura G. Billanovich. Firenze, 1945, p. 68–100).
[Закрыть]. Это и есть игра, отводящая к серьезности, и смех, полный значительности: попытка реализовать некоторые мыслительные формулы в жизни.
Раздумывая над праздничностью гуманистического жизненного уклада (institutum vitae), очень трудно обойтись без понятия «эстетизм», но в таком понятии, если употреблять его не в кавычках, не сугубо условно, есть нечто скорее оскар-уайльдовское, чем ренессансное, и оно способно увести нас в ложном направлении. «Эстетизм» гуманистической среды был, как выше отмечалось, основан на нерасчлененности мышления и на возможности чувственно обладать своей культурой, еще не отчужденной.
Все дело в том, что обстановка, описанная в ренессансных диалогах и более или менее близкая к реальной, складывалась из предметной топики и символических атрибутов. Назначение стереотипного фона, на котором должны были протекать ученые бдения и дружеские беседы, никак не сводилось к тому, чтобы доставлять удовольствие глазу и уху, обеспечивать психическую разрядку и уют, располагать к интеллектуальной сосредоточенности, хотя все эти потребности, несомненно, учитывались и удовлетворялись. Ни чисто эстетическая, ни гедонистическая, ни утилитарно-деловая мерки не годятся, чтобы понять условия труда и общения гуманистов. Ведь то, что мы назвали «внешним фоном», было отнюдь не «внешним» и не «фоном», а материализацией и продолжением, развертыванием в быт гуманистических понятий и мифологем. Все детали обстановки, окружавшей гуманиста, особенно в медичейскую пору, были рассчитаны на ученое восприятие, имели универсальное знаковое содержание. Вилла, лес, холм, прогулка, пирушка, пение, тишина, уединение – каждый элемент ландшафта или быта имел не только непосредственный, но и высший смысл, перекликался со всеми остальными, вписывался в некую предметно-духовную тотальность. Поэтому жизненная обстановка гуманиста всегда может быть прочитана в качестве текста[156]156
Под «текстом» здесь понимается семиотическое понятие, в соответствии с которым как текст могут рассматриваться улица, одежда и т. д. – вообще любые предметы, выполняющие наряду с другими функциями также знаковую (см.: Лотман Ю.М. Структура художественного текста. М., 1970.). Способность быть текстом, как отмечает Ю.М. Лотман, не только допускает, но и предполагает полифункциональность, например, совмещение практически-прикладных и мировоззренческих задач. Это замечательно выступает в ренессансной вилле: она должна была соответствовать ряду климатических, гигиенических, хозяйственных, архитектурных и, наконец, этических и эстетических требований; притом ее конструктивные свойства, осмысленные и приведенные в систему уже Леоном Альберти, легко переходили в образ мира и в соответствующую семантику «otium philosophicum» (см.: Chastel A. Arte e umanesimo… p. 157–166).
[Закрыть].
В одном из писем Фичино рассказывается, как они с Пико делла Мирандолой гуляли в окрестностях Фьезоле и восхищались открывавшейся оттуда панорамой Флоренции. Они говорили о том, что здесь было бы хорошо поставить жилище. Дом должен быть повернут на юг и восток, укрыт от жары и ветра, хорошо снабжен водой. Нужно сделать его укромным и вместе с тем оставить выход в открытое и полное воздухом пространство (т. е. поставить на границе уединения и общения). Нужно, чтобы вокруг были и леса, и обработанные поля (т. е. и природа, и культура). И вдруг Пико вскричал: то, чего желали, «форма, созданная в уме», – вот, перед глазами. Ибо в месте, куда они забрели, действительно расположилась вилла, построенная для Леонардо Бруни; здесь поблизости когда-то жил Боккаччо, а затем и Пьерфилиппо Пандольфини[157]157
Chastel A. Arte e umanesimo… p. 157–158.
[Закрыть].
«Физическая» топика виллы оказалась, таким образом, давно воплощенной, грань между архетипом и бытом – стертой…
Фичино описывал времяпрепровождение в Кареджи при помощи торжественных древних формул. «Юноши здесь или с приятностью и легкостью усваивают посреди забав наставления в нравах, или посреди игр учатся искусству рассуждать. Зрелые мужи основательно изучают науку о семейных и общественных делах. Старцы надеются сменить смертную жизнь на жизнь вечную». В саду Академии поэты внимают Аполлону, в вестибюле ораторы видят декламирующего Меркурия. «Во внутренних помещениях философы познают своего Сатурна, созерцателя небесных тайн. И повсюду жрецы и учителя святости находят оружие, коим они бодро защищают благочестие против нечестивых»[158]158
См.: Marsel R. Marsile Ficin, p. 296. Ср. с «Philosophia triceps naturalis, rationalis, moralis humanorum rerum», изображавшейся на гравюрах начала XVI в. в виде трехголового существа (Alverny M. Quelques aspects du symbolisme de la «Sapientia» chez les humanistes // Umanesimo e esoterismo. Padova, 1960, p. 323). Ср. также с аллегорическим изображением трех возрастов на картине, приписываемой Тициану («Prudentia»), где дан «signum triceps» трех аспектов времени (Seznec I. The Survival of the Pagan Gods: The Myphological Tradition and Its Place in Renaissance Humanism and Art. N.Y., 1953, p. 119–121).
[Закрыть]. Конечно, стиль общения приобретает в этой схеме, связывающей иерархию искусств и наук с планом виллы, совершенно условные и отвлеченные черты. Это уже топика, выделенная в чистом виде, быт в ней неузнаваем. Но символика с поразительной естественностью возвращалась в быт и сливалась с ним. Примером может служить письмо к Фичино от Анджело Полициано.
Послание, богатое свежими и разнообразными мыслями об отношениях между гуманистами, о различии и единстве ученых интересов Полициано, Фичино и Пико, о дружбе между ними, заканчивалось так: «Когда в твоем Кареджи в августе слишком раскаленно, не побрезгуй моим фьезоланским поместьем. У нас много воды, ибо тут лощина, и совсем мало солнца, никогда не перестает дуть ветерок; скромная вилла сама стоит в стороне, укрытая в глубине леса, но почтить Флоренцию отсюда нетрудно. И хотя поблизости величайшее многолюдство, у меня, однако, всегда настоящее уединение для того, кто любит совершенное отшельничество. Ты мог бы воспользоваться им вдвойне. Ибо часто из своего Кверчето ко мне внезапно заглядывает Пико и, застав врасплох, исторгнув из убежища, ведет с собою к нашей маленькой трапезе, воздержанной, но зато всегда полной тонких и приятных речей и шуток. Но ты мог бы оставаться у меня. Ты трапезовал бы не хуже, а пил бы больше и лучше, ибо по части винного погреба я потягаюсь с самим Пико. Будь здоров»[159]159
Supplementum ficinianum, vol. II, p. 279.
[Закрыть].
Эти интимные и непринужденные строки очень мало напоминают при первом взгляде риторические схемы Фичино и кажутся наброском с натуры, каковым они, возможно, и были. Тем не менее топографические и климатические особенности «фьезоланского поместья» – уже знакомые нам клише. Вилла Полициано, подобно идеальной вилле в письме Фичино к Ф. Валори, противопоставляет и соединяет «глубину леса» (природу) и Флоренцию (культуру), «одиночество» ученого и «многолюдство» его социального космоса. «Совершенное отшельничество» в деревенской тишине связано с архетипическими оппозициями сельской жизни и жизни городской, созерцания и деятельности, сатурнинской меланхолии и рассеяния. Общение Полициано с Пико описано в тысячекратно повторенных в XV в. терминах ученой дружбы, и даже шутливое упоминание о выпивке – традиционный штрих философского застолья. В письме Полициано на поверку нет ничего, кроме общих мест! Но это не мешает ему звучать живым голосом времени[160]160
Для сопоставления можно использовать письмо Леонардо Джустиниано к Гуарино Веронскому (Guarino Veronese. Epistolario, vol. I, № 186, p. 294–296) с подробным описанием занятий гуманиста – «серьезных и забавных». Хотя автор называет «заслуживающей смеха апологией неотесанности» мысль, что «словесность без жизни ни к чему не может быть годна, скорее уж жизнь без словесности», все же Джустиниано признается, что и ему это часто приходит на ум, ибо он, при всей сладости чтения, не может им удовлетвориться. От чтения он переходит к дружеским беседам и спорам «то о положении общественных дел, то об управлении делами семейными, то о древнем происхождении и судьбах государства и наших граждан, то о счастье прошедших веков, о бедствиях нашего времени, о славе, о доблести и других делах человеческих всегда бывает спор, конечно, с пользой и праздничностью… Но и это меня не занимает постоянно». Упомянув также устроение жизни и нравов, монастыри, чтение «христианских философов» и Библии, Джустиниано затем переходит к удовольствиям от созерцания природы и того в ней, что не зависит от человеческих усилий: плодов и разнотравья, обильно выросших на заливных землях. Он припоминает при этом сведения из «натуральной философии» или же, когда иссякают запасы полученных в юности знаний, «относит, на народный лад, к чудесам то, что произвела тайная сила природы». Устав от прогулки, он берет лодку, ловит рыбу или, поставив силки на птиц, располагается под навесом в тени, укрывающей от палящего солнца и обвевающей прохладой; «и всегда со мной возлежит, рассуждает и беседует какой-либо латинский или греческий сотоварищ». Прибавив к этому еще и музицирование, Джустиниано заключает уже приводившейся мною формулой: «Таковы, следовательно, труды мои на досуге». Здесь, как и в письме Полициано, как и письме Макьявелли к Ф. Веттори (с той же прогулкой на лесном птичьем току с книгой античного автора в руках), почти неразличима грань между литературными и бытовыми стереотипами.
[Закрыть].
Может быть, ни один другой вид источников так выразительно не показывает искусственность, выстроенность, придуманность, стилизованность жизни и общения гуманистов, как их эпистолы.
Когда-то литературовед Карло Комби в предисловии к изданным им письмам Верджерио находил, что «обдуманные конструкции, изысканные сплетения и витиеватость фраз, классические цитаты, исторические сведения из римской и греческой античности, мифологические намеки лишали гуманистическую переписку всякой легкости и свежести»[161]161
Vergerio P.P. Op. cit., p. XXIX–XXX. Правда, К. Комби делал исключение для немногих, в чьих эпистолах он находил нечто живое, в том числе для Верджерио. Но «живое», конечно, противостояло в его глазах «обдуманности», сделанности, эрудитству и шаблонам, которых и у Верджерио, Бруни, Поджо более чем достаточно.
[Закрыть]. Корреспонденты рядились «в тоги латинистов» и пользовались письмами не для обмена злободневной и личной информацией, а для общих рассуждений и упражнений в элоквенции по цицероновскому образцу. Эпистола часто посылалась не только адресату, но и друзьям адресата, а те, в свою очередь, делали с нее копии, так что она могла расходиться во многих экземплярах. Это были, собственно, не письма, как мы их понимаем, а сочинения особого литературного жанра. К. Комби сопоставлял их с позднейшей журналистикой.
Такое – чисто позитивистское – отношение к эпистолярной продукции итальянских гуманистов оставалось общепринятым еще совсем недавно. Особенно последовательно и талантливо его сформулировал в нашем веке Леонардо Ольшки, интересовавшийся перепиской XIV–XVI вв. в связи с генезисом научной периодики. Ольшки также подчеркивал, что со времен Петрарки письма с самого начала предназначались для опубликования, интерес к ним существовал «не личный, а чисто стилистический». Всякая книжность, риторика и т. п. в глазах Ольшки, разыскивавшего посреди литературно-эрудитских напластований Чинквеченто первые отрадные проблески научного метода, были, конечно, чем-то мертвым. Он пренебрежительно уличал гуманистические латинские эпистолы в «стилизации» и «высокопарности», одобряя лишь «непритязательные и интимные» письма на народном языке[162]162
Ольшки Л. История научной литературы на новых языках. Т. 2: Образование и наука в эпоху Ренессанса в Италии. М.; Л., 1934, с. 198–201.
[Закрыть].
Л. Ольшки был по-своему прав, хотя навязывал Ренессансу оценочные критерии, совершенно чуждые этой эпохе. «Непритязательность и интимность» стали достоинством и приобрели нормативное эмоциональное и стилистическое значение лишь в период, начинающийся, пожалуй, Монтенем и Якопо Бассано и завершающийся «Новой Элоизой» и Грезом; эти качества в очень разных вариантах были восприняты сентименталистами, романтиками и «физиологической школой»; их уже привычно ценил XIX в., их – в новых идейно-психологических контекстах – продолжаем ценить мы, в XX в. Но ренессансные гуманисты именно притязали каждым словом и жестом и старались придать самым интимным движениям души торжественную публичность.
Что до «высокопарности», то одни только эпистолярные формулы обращения и титулований, если бы посвятить им специальное исследование, действительно дали бы ошеломляющий материал. Гуманисты наперебой изощрялись во взаимных риторических комплиментах и на протяжении полутораста лет в десятках тысяч писем успели наградить друг друга таким количеством великолепных прилагательных, что историку, ценящему особенно скромность, лучше было бы заняться какой-нибудь другой эпохой…
Уже для Салютати было самым обычным делом назвать Верджерио «фениксом всякой античной доблести» или написать Петрарке, с которым он дружил заочно: «Здравствуй же, высочайший муж, который снискал себе и добродетелями, и блеском учености, и светом красноречия вечную славу, с коей не может сравниться даже вся античность!»[163]163
Цит по кн.: Marsel R. Marsile Ficin, p. 98.
[Закрыть] А уж о клише вроде «vir humanissime et eruditissime» нечего и толковать.
Допустим, Полициано пространно расхваливал Эрмолао Барбаро в письме к нему, поскольку «тот век, который отмечен чем-либо выдающимся, может смело противостоять и древности, и будущему…». Эрмолао Барбаро тут же усаживался за ответ: «Я благодарен тебе и всегда буду благодарен не только как другу и благожелателю, но и как Полициано, то есть ученнейшему человеку. Ведь получить похвалу от Полициано [значит] больше, чем [получить ее просто] от друга. Может быть ошибочным свидетельство и суждение друга, но не возлюбленного Полициано». Тот же Барбаро восклицал, обращаясь уже к Пико: «Ты в такой степени Геркулес, что тот, кто тебя не хвалит, вредит собственной [способности] суждения и доброму имени». Нет смысла множить образчики подобного рода, им несть числа; некоторые из них нам еще встретятся. В таком тоне писали не только люди, находившиеся в дружеских отношениях, но и довольно далекие друг другу, и Каллимах превозносил «божественный талант» (divinum ingenium) Полициано не менее приподнято, чем это делали Фичино или Барбаро: «Здравствуй, украшение словесности и учености!»[164]164
Poliziano A. Opera, p. 9–10; Pico della Mirandola G. Opera, p. 391; Callimachus Ph. Epistulae selectae. Wratislawiae, 1967, p. 96. Ср. особенно письмо Каллимаха к Фичино (с. 134). Отношения Каллимаха с обоими платониками были довольно прохладными, но внешняя форма, прежде всего с его стороны, оставалась ритуально-восторженной.
[Закрыть]
Мнение об условно-литературном характере гуманистических писем имеет серьезные основания. Известно, что авторы, накопив изрядное количество эпистол, составляли из них сборники, распределяли в обдуманном порядке и включали в прижизненные издания своих сочинений. Замечательный пример первым подал Петрарка[165]165
Об эпистолярном творчестве Петрарки см.: Billanovich G. Petrarca letterato… p. 32–34, 53–54 etc.; Baron H. From Petrarch to Leonardo Bruni: Studies in Humanistic and Political Literature. Chicago, 1968, p. 13–20; Wilkins E. Petrarch's Correspondence. Padua, 1960.
[Закрыть]. Он перерабатывал и редактировал свои «Письма к близким» задним числом. Первые две книги петрарковского «Эпистолярия», датированные 1330–1340 гг., были на самом деле написаны заново преимущественно около 1351–1353 гг. и пополнялись или исправлялись до 1366 г. Петрарка вставлял в них, в частности, цитаты из авторов, которых не мог знать в те годы, к которым отнесены письма. Сочиненные в жанрах «consolatoriae» и «hortatoriae», т. е. «утешения» и «воодушевленного обращения», эти письма были адресованы подчас людям, жившим более тысячелетия тому назад, – Цицерону, Сенеке, Титу Ливию, а одно письмо обращено к потомкам, которым Петрарка считал необходимым сообщить подробности, характеризующие его личность, интересы и труды.
Реальная переписка начинается с третьей книги эпистолярия, но и здесь множество позднейших интерполяций. Письмо о восхождении на альпийскую вершину Мон-Ванту, датированное 1336 г., как недавно выяснилось, сочинено около 1353 г., и значит, этот прославленный документ, всегда приводимый как пример новой художественной впечатлительности, повествует о вымышленных фактах. Рядом с эпистолами, которые были целиком созданы специально для книги и никогда не посылались адресатам, располагались письма, действительно отосланные, но много лет спустя переработанные. Ганс Барон считает, что Петрарка делал это ради идейно-риторической симметрии и композиционного равновесия «Эпистолярия» и, возможно, ради возвышения своего юношеского облика.
Знаменательно, что если действительные письма в петрарковском «Эпистолярии» несли все признаки литературного сочинения, то послания, обращенные к античным классикам, тщательно интонировались и оформлялись как «настоящие» письма, имея, помимо даты, еще и обозначение места написания, всегда избиравшегося со значением, по ассоциации с адресатом. Литература выступала в форме жизненного общения, а реальная переписка – особенно в «Старческих письмах» – претворяла бытовые мелочи в литературу. Грань между повседневностью существования воклюзского отшельника и идеализованностью его умственных увлечений, таким образом, сознательно размывалась и делалась плохо различимой.









































