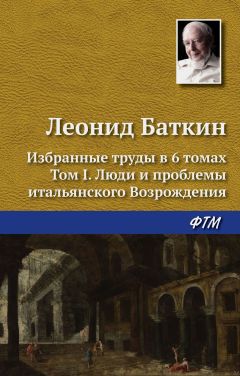
Автор книги: Леонид Баткин
Жанр: Культурология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 18 (всего у книги 57 страниц) [доступный отрывок для чтения: 19 страниц]
Но ведь ты, Полициано, – говорят ему фантастические существа (Ламии), – грамматик, писатель, а не философ. Да, соглашается Полициано, я не философ, для меня тщетно было бы претендовать на это звание, и я его предоставляю другим, хотя и перевожу труды философов («Ламии» – введение к переводу первой «Аналитики» Аристотеля). Но автору трудно признать, что «в его сочинениях и речах даже и не пахнет философией». Он вправе ссылаться на философов, ибо, во-первых, «философ по природе своей любит мифы и изучает поэтические вымыслы (philosophus natura philomythos, id est fabulae studiosus est)». С другой стороны, к «грамматике» относятся любого рода сочинения, ее ведению подлежат все, кто рассуждает и излагает, – поэты, историки, ораторы, философы, врачи, юристы. В древности грамматиков почитали как судей над писателями, мы же низвели это звание до пустой и мелочной забавы или до обучения детей азбуке. «Прозывайте же меня или грамматиком, или, если угодно, философствующим, или кем-то в этом роде». Хорошо, отвечают Ламии, будем называть тебя грамматиком[211]211
Poliziano A. Opera, p. 451–461.
[Закрыть].
Полициано желал включить философию в гуманистическую словесность, желал видеть словесность философской; Пико стремился включить словесность в философию, сделать философию гуманистической. Они выражали противоположные, но взаимодополняющие подходы[212]212
Врач Никколо Лиочени обратился к Полициано с письмом, в котором признавался, что сам он далек от studia humanitatis, но, познакомившись с сочинениями Полициано, увидел, что находится «не на чужом поле». Ибо он обнаружил в них изящное и ученое объяснение не только поэтических и ораторских, но и медицинских и философских сентенций. Это внушает ему, Никколо, надежду, что Полициано возьмется изложить «общую философию» (philosophia universa), которая «у варваров сделалась варварской», на ясной и чистой латыни. Ведь ты, Полициано, изучал в юности, у опытных наставников, Платона и Аристотеля. Ты мог бы быстро достичь в «sapientiae» тех же вершин, которых уже достиг «in oratoria ac poetica facultate» (Ibid., p. 117). В сущности, Никколо взывал к alter ego Полициано и искал в нем философа точно так же, как Барбаро искал в Пико ритора.
[Закрыть]. Сам Полициано хорошо передал это ощущение единства в многообразии, когда в письме к Фичино, отстаивая свое право заниматься не чистой философией, а словесностью, «которая не менее привлекательна, даже если она и менее авторитетна», заметил: мы все, т. е. Фичино, Пико и он, Полициано, дружны между собой не только в жизни, но и в науке, мы честно и мужественно предаемся, побуждаемые бескорыстной любовью, неустанным ученым занятиям, «однако так распределив между нами обязанности, дабы никоим образом не была заброшена ни одна из областей знания»[213]213
Supplementum ficinianum, vol. II, p. 278–279.
[Закрыть].
Переписка Пико с Барбаро иначе выглядит в мягком освещении этой примирительной мудрости. Нельзя только забывать, что конечное согласие между Пико и Барбаро было возможно лишь в форме противопоставления обособившихся точек зрения, каждая из которых должна быть страстно и решительно доведена до конца, и лишь тогда разные толкования истины начинают нуждаться друг в друге, в самой своей односторонности черпая возможность синтеза, «мира философов», а в синтезе, в вечности, в Боге находя оправдание раздельному существованию несходных проявлений истины и бытия.
«О наслаждении» Лоренцо ВаллыНам остается, чтобы полней проверить предположение о диалогичности гуманистического мышления, вновь вернуться к диалогу как жанру, избрав для анализа уже упоминавшееся сочинение Лоренцо Валлы «О наслаждении», достаточно показательное для Кватроченто[214]214
Valla L. Opera. Basiliae, 1543.
[Закрыть].
Как и всегда, диалог Валлы – это встреча людей, близких по ученым интересам и образу жизни, это приветливо-предупредительная, расцвеченная остроумием (не злым, но попадающим в цель), игровая беседа. Это спор внутри тесного гуманистического круга. Валла расхваливает всех своих персонажей. Бруни обращается у него к «viri doctissimi atque amicissimi» (с. 899). Когда Бруни произносит «наш Вергилий», «наш Сенека» (с. 900), – эти писатели действительно «наши» и для его оппонентов. Бруни живет в том же культурном космосе, что и Панормита, каждый черпает свое из общего фонда.
Собеседники с удовольствием слушают и Бруни, и Панормиту, и Никколи – «без обиды, но с вниманием и благожелательно» (non cum offensione, sed cum benevolentia et attentione) (с. 906). Леонардо улыбается в ответ на язвительную реплику Антонио (с. 919; ср. с. 912–913), расхваливает достоинства своего противника, его красноречие, жесты, повадки, нравы и жилище (с. 964). Панормита – «возродившийся в ином теле Эпикур». И тут же острит: о, если бы все эти достоинства были обращены «pro re honesta», какой это дало бы результат! Но Бруни, впрочем, не собирается осуждать поведение Панормиты, укладывающееся в античную топику. Кстати, христианнейший Никколи тоже преспокойно объявляет автора «Гермафродита» добродетельным и богословски образованным человеком (с. 975)[215]215
А.И. Хоментовская писала по этому поводу, что Никколи «пытается превратить в шутку» выступление Панормиты (Хоментовская А.И. Указ. соч., с. 44). Но указание на провокационный характер антитезы характерно вообще для диалогов XV в. Валла никого не «наводит на ложный след», а просто следует законам жанра. Что касается отношения к Панормите, то Никколи лишь повторяет то, что писали почти все гуманисты, в том числе благочестивейшие Маффео Веджо и Гуарино Веронский (см.: Fois M. Il pensiero cristiano di Lorenzo Valla del quadro storico cultural del suoambiente. Roma, 1969, p. 25–31).
[Закрыть]. В разгар спора «все встали со смехом», и Антонио, взяв Леонардо под руку, повел друзей к себе. Соглашаясь пиршествовать в саду у Панормиты – «будем и мы сегодня эпикурейцами, дабы ты возрадовался, пришел в восторг, торжествовал», – Бруни не упускает случая сделать очередной выпад: может быть, последствия возлияний, говорит он Панормите, убедят тебя в ошибочности твоих взглядов успешней, чем логические доводы (с. 962).
Участники диспута сознают, что ожесточение и язвительность – его ритуальное условие. Но это ни в коем случае не должно переходить в действительное ожесточение! «Мы ведь, когда ведем диспут, не враги и не сражаемся между собой, а боремся на той и на другой стороне под знаменами одного полководца: ради истины»[216]216
Valla L. Opera, p. 731.
[Закрыть]. Антонио не одобряет ненависти и упорства стоиков («odiosa pervicacia»), которые полагают, что «недостойно отказываться от однажды принятого убеждения», и никогда не протянут руку противнику, «предпочитая умертвить себя в диспуте, чем быть плененными» (maluntque se trucidare in disputando quam capi), приходя в ярость, подобно тиграм. «Что же касается меня, то, если кто-либо выскажется лучше, чем я, я не стану возражать и даже буду благодарен. Ибо ведь и в судебных прениях смысл сопоставления состоит не в том, чтобы тот или иной адвокат выиграл тяжбу, а в том, чтобы из их столкновения воссияли истина и справедливость (ex illorum conflictatione eluceat vel veritas vel iusticia)». Поэтому, заключает Панормита, оратор не должен «присягать законам какой бы то ни было секты (in cuiusquam sectae iurare leges)». Но если ты, Бруни, решил высказаться за стоиков, что ж, давай спорить, а присутствующие пусть будут судьями (с. 911).
Как сознательно и четко Валла формулирует этический и одновременно логический статус спора, основанного на объединяющем всех собеседников чувстве терпимости, неокончательности любого утверждения перед лицом истины! В этой доброжелательной готовности слушать и соглашаться, в этом отвращении к исступлению и непримиримости агеластов и состоит та высокая серьезность, которая легко совмещалась с игровой стороной гуманистического диспута и предполагала ее. Диалог Валлы при всей его глубине – именно благодаря глубине! – пронизан весельем духа. В последней реплике Никколи звучат эти же слова: «iocari», «amicos illudere» (с. 998).
Когда Антонио Панормита готовится начать свою речь и предупреждает: «Между тобой и мною – великий спор (magna controversia)», Бруни отвечает, что охотно послушает, хотя полагает, что эта контроверза – «не всерьез, а в шутку». Как раз в ответ на это замечание Панормита и произносит кредо диалогизма. Он не согласен, что спор – лишь игра. «Ты слушаешь, и я прошу тебя с готовностью слушать, как ты сказал. Если ты так поступаешь, значит, мои возражения не кажутся тебе ни шуткой, ни забавой» (с. 910). Но… серьезность спора не должна походить на одиозное упорство стоиков и т. д. (Далее следует уже известный нам монолог о терпимости и поисках истины.)
Правы оба. Это игра, но серьезная игра, ничуть не исключающая искренности высказывания и служения истине. Это серьезность, но игровая серьезность, без пены на губах, без угрюмости, жесткости, тяжеловесности, непререкаемости какого бы то ни было убеждения. Гуманисты спорят не на шутку, отстаивают выношенные убеждения, это их подлинные, а не «притворные» мнения, но они готовы к диалогу, готовы, если будут убеждены в обратном, отказаться от своих мнений и тем самым обнаруживают, что не срослись с ними и могут отделиться от себя самих. Поэтому их серьезность скрепляется не кровью, а смехом. Они оказываются способными поддразнивать друг друга, забавляться, услаждаться спором при всей громадной жизненной важности обсуждаемых проблем. Их радует не красное словцо, не уловка, ими движет не спортивный интерес, а любовь к истине, но истине, переливающейся возможностями, непредвзятой, открытой, играющей с собой, играющей внутри себя. Это спор, сознательно задуманный и обставленный как божественное игрище духа.
Поняв это, легче ответить на вопрос, столь сложный по отношению едва ли не к любому гуманистическому диалогу: где здесь скрывается автор, в чем состоят взгляды самого Валлы? Наверное, правы исследователи, которые считают, что Валла пытался сблизить гедонистический утилитаризм и христианский спиритуализм. Наверное, можно спорить о результате: что к чему все-таки больше приблизилось? Однако мысль кватрочентистского гуманиста обладает не только корпускулярной, но и волновой природой. Мы ищем ее и находим в определенной точке культурного пространства, но она есть также само это пространство. Лоренцо Валла глубже себя, и его взгляды, возможно, менее важны, чем его способ вглядываться, движение мысли исторически значимей, чем конечный результат.
В предисловии Валла излагает замысел трактата: отчасти опровергнуть философские школы стоиков и эпикурейцев при помощи собственного оружия, отчасти же столкнуть их в междоусобной (буквально: «домашней») войне, «in domesticum bellum» (с. 897). Но для этого ему кажется совершенно необходимым вжиться в стиль философствования и ораторствования, свойственный каждой из этих школ. Ибо «что может быть более чуждым для отстаивания наслаждения, чем тяжкая и суровая речь». Нельзя, говоря от имени эпикурейцев, вести себя, как стоик; надлежит изменить резкий, страстный, возбужденный род высказывания на веселый лад (laeto genere dicendi)[217]217
Ibid., p. 897. См. наблюдения Франко Гаэты (Gaeta F. Lorenzo Valla // Filologia e storia nell'umanesimo italiano. Napoli, 1955, p. 25–26.) над стилем трактата, в котором действительно чутко введены различия между сухо-логическим, строгим, уснащенным специальной терминологией изложением стоической части и живым, обычным, без научного аппарата языком эпикурейской части. Между прочим, почему самые добродетельные из гуманистов ничуть не были скандализованы «Гермафродитом» Бекаделли и приветствовали его появление? Потому, что Бекаделли хорошо вошел в непристойный стиль, уместный для его темы. Марио Фоис упрекает этих набожных и славившихся примерным поведением людей за то, что для них стилистические достоинства легких, изящных, искусных стихов Панормиты оказались важней христианской морали (Fois M. Op. cit., p. 30). Но дело обстояло гораздо сложней. Во-первых, гуманисты не считали противоречащим морали откровенное изображение человеческого тела и разоблачение природы. Во-вторых, сочинение Бекаделли воспринималось как феномен культуры, а не быта и не отождествлялось с прагматической программой поведения. В-третьих, в этом сказалась склонность гуманистов к культурному перевоплощению, к вхождению внутрь даже той духовной ситуации, которая для них самих, казалось бы, чужда. Не потому ли исполненный серьезности и достоинства Гуарино, не колеблясь, восклицает в защиту «Гермафродита»: «Посреди лупанария я хвалю развратный стих» (Guarino Veronese. Epistolario, № 346, p. 505).
[Закрыть]. Таким образом, каждый голос в этой полифонической ткани должен звучать независимо. Валла поочередно перевоплощается в каждый культурный облик, преподнося читателям свое как отделившееся от него, как чужое («aliam religionem quam nostram habuerunt»!), и чужое делая своим.
Бруни высказывает горько-стоический взгляд на несовершенную человеческую природу, не скрывая, что эти мысли для него тяжелы, и требует возражений: «Ибо хоть я и думаю, что нет доводов, которые опровергли бы меня, но я жажду быть опровергнутым, дабы смягчить эту мою душевную муку и недуг» (с. 904). Бруни готов, при всей логической и пластической завершенности его убеждения, к принятию иного взгляда на вещи тоже как своего. Он нуждается в беседе, он просит о споре. Затем на фоне «эпикурейских» возражений Панормиты, занимающих больше половины трактата, краткая стоическая запевка Бруни как будто бы совершенно стушевывается, но она уже выполнила свое назначение, придав великолепной речи Панормиты альтернативный характер, характер одной из возможных позиций; без тезы Бруни был бы невозможен синтез Никколи.
Спор гуманистов воспроизводит внутреннее борение каждого из них. Попробуем сразу исходить из того, что взволнованный голос Бруни («animo commoto») – это и голос Валлы, вступающего в спор не с внешней, враждебной идеей, а с глубоко усвоенными и прочувствованными им уроками учителя, которые не могут быть исторгнуты из валловского сознания, но должны быть преодолены. Героический стоицизм – не случайный и не второстепенный элемент кватрочентистского гуманизма. У Валлы Бруни настаивает на необходимости полагаться на «честь», на способность с достоинством переносить несовершенства и терзания человеческой жизни, ибо «мы рождаемся животными, а не людьми», наша природа не заслуживает доверия и не может принести нам счастье. Эта мысль тягостна для Бруни (и для Валлы!), так как ставит под сомнение самое дорогое для гуманиста – достоинство человека. Неприглядная эмпирия оказывается преградой на пути к совершенству. Но если бы эмпирия была иное и если бы человек сразу рождался человеком – он не мог бы стать им посредством культивации. Тогда не оставалось бы места для «доблести», для возвышающих индивидуальных усилий. Поэтому пессимизм Бруни в отношении человеческой природы в определенном смысле нужен Валле как момент духовного самоформирования. Не очищенная совершенствованием природа, возможность опуститься до уровня животного, о которой позже будет писать Пико делла Мирандола, и идея противостояния универсального человека эмпирии, противопоставление ей небесного порыва – все это обязательный элемент, без которого нет проблематики гуманизма.
Недоверие к природе лишь должно быть дополнено радостным доверием к ней, и оба подхода потребны для достижения гармонии: на тонкой грани между духовностью и чувственностью, культивированностью и природностью, земным наслаждением, понятым как ступень к небесному созерцанию, и небесным раем, изображенным как сублимация той же земной чувственности. Валла с восторгом развивает гедонистические идеи, хотя и не отождествляет себя с этой прекрасно-односторонней позицией. Традиционный стоицизм Бруни ему также необходим: не для простого его опровержения, а для внутренней объемности и напряжения истины, для диалога, для того, чтобы предпочесть стоицизму совсем иную позицию, не ограничившись, впрочем, и ею.
Ибо после вдохновенно развернутой антитезы – апологи и чувственного наслаждения и пользы – в спор вступает Никколо Никколи. Начинается синтез.
Никколо колеблется, вступать ли ему в обсуждение, ибо он не хотел бы задеть кого-либо из спорящих, обоих он любит и чтит. Но еще больше он боится в своих рассуждениях погрешить против истины, чтобы Леонардо и Антонио не подумали о нем плохо. Итак, он прямодушно скажет то, что чувствует, и, хотя ему предстоит рассудить «двух самых близких ему друзей», его сентенция никого не должна оскорбить. И Бруни, и Панормита – оба «справедливые люди, движимые любовью к истине». Он, Никколи, беспристрастно выскажет свое несогласие с обеими речами. «И тем не менее я хочу удовлетворить обоих». Ибо обе позиции – и «честь» и «наслаждение» – «должны быть и одобрены, и опровергнуты». И далее Никколи начинает свою апологию «небесного наслаждения», это диковинное – но такое ренессансное! – органическое смешение земной чувственности и возвышенной духовности (с. 965–966).
Формально говоря, именно здесь последнее слово Лоренцо Валлы. У нас нет ни малейших оснований сомневаться в том, что он искренне выполнил таким образом обещание, данное во введении, прийти к благочестивому разрешению проблемы, проведя ее предварительно через «домашнюю войну» языческой философии. «Наслаждение бывает двух родов, одно – в этой жизни, другое – в будущей, и нам необходимо рассудить и о том, и о другом, но так, чтобы мы увидели раньше предшествующую ступень, а затем последующую» (с. 896). Но глубокое, хотя не догматическое христианство Валлы, засвидетельствованное рядом его чисто теологических сочинений, вступая в приятельскую беседу с Эпиктетом и Эпикуром (перетолкованными, впрочем, весьма вольно), тем самым включается в диалогическое оперирование рядоположными истинами, в поистине «домашнюю войну», происходящую внутри гуманизма, внутри валловского сознания. Побивая стоицизм и «эпикуреизм», христианство Никколи ими заряжается, оно противопоставляет себя им, но и согласует их друг с другом и с собой. Поэтому функция синтеза, как и в любом гуманистическом диалоге, необычайно существенна: не выражением в нем еще одной, «последней» истины, не примирительным «выводом», а самим принципом примирительности. Именно в синтезе полнее всего просвечивает, сжимаясь, структура диалога.
Потому-то речь Никколи, как не раз отмечалось в литературе, противоречива и «эклектична» в отличие от цельных позиций его собеседников: ведь противоречивость, выступавшая в столкновении двух разных речей и разных людей, теперь фокусируется в одной голове. В этом порой усматривают слабость речи Никколи и доказательство ее неадекватности авторской точке зрения. Между тем как раз в этом, если угодно, особая важность и представительность Никколи как голоса Валлы. Ибо его речь – диалог в диалоге, выражение диалогичности par excellence[218]218
Интересно сравнить двух Никколи, валловского и бруниевского (т. е. «Ad Petrum Histrum» и «De voluptate»). У Бруни Никколи поочередно защищает две противоположные точки зрения, у Валлы – совмещает их одновременно. Возможность сосуществования разных истин у Бруни подтверждена тем, что их с одинаковым пылом защищает один человек, у Валлы – тем, что взгляды двух людей примиряются в голове третьего. Но следовательно: «эклектизм» валловского Никколи и «притворство» бруниевского Никколи – одного логического происхождения. В первом случае «эклектизм» на деле означает столкновение истин в форме их единства; во втором случае – единство истин в форме их столкновения.
[Закрыть].
Круг, замыкаясь, тут же размыкается. Наиболее близко подходя к цели, Никколи, чем он последовательней, тем противоречивей, чем убедительней в своей верности духу гуманистического спора, тем менее убедителен в «выводах». Каков бы ни был вывод Никколи, каков бы ни был вывод Валлы, структура диалога лишает его окончательности. Не случайно в конце трактата один из присутствующих, заявляя, что Никколо освободил всех от сомнений, которые внушил Антонио, затем, выстраивает посредством риторической топики ряд оппозиций: Антонио представляет поэзию, Никколо – ораторское искусство, Антонио – утонченность города, Никколо – мудрость сельского уединения; Антонио – соловей, Никколо – ласточка и т. д. (с. 997). Истина Никколо Никколи, пусть признанная победительницей, вставлена в более широкий контекст. Она – лучшая, но не единственная.
«О преимуществах римской курии» Лапо да КастильонкьоПрежде чем высказать некоторые заключительные соображения, я хотел бы коснуться еще одного диалога, который отчасти вернет нас к тому, с чего мы начали, – к самоопровержению Никколи в трактате Бруни. Это диалог «О преимуществах римской курии» Лапо да Кастильонкьо[219]219
Castiglionchio L. da. Dialogue de curiae commodis // Prosatori latini… p. 174–206 etc.
[Закрыть]. Беседуют только двое: сам автор и Анджело Реканати, у которого Лапо остановился в Ферраре. Разговор начинается с того, что Анджело советует гостю оставить службу в курии, ибо в ней заправляют распутники, невежды, мошенники и злодеи, а люди добронравные и ученые принижены и гонимы. Лапо берется переубедить хозяина и разворачивает обстоятельную аргументацию. Сначала он доказывает, что так как религия – единственный путь к вечному и наивысшему счастью, то и жить нужно в величественном средоточии культа, где религия являет себя лучше всего. Анджело спрашивает: «Что же может быть более несвойственным римской курии, чем религия?» (с. 186). «Но где ты сыщешь такое множество священников?» – отвечает Лапо, а когда Анджело резонно возражает, что дело здесь не в количестве, Лапо ссылается, так сказать, на статистическую вероятность: в такой толпе священников многие должны быть благочестивыми (с. 188).
Конечно, в доводах Лапо нетрудно расслышать иронию, в какой-то мере это sermo fictus, «притворная речь», но вместе с тем Кастильонкьо, секретарь папской курии, перечисляет преимущества своей жизни в Риме вполне серьезно. Он описывает великолепие церковной мессы, которую служит первосвященник, богатство и красочность риз, сладостность музыки и пения, наслаждение для глаза и слуха, когда даже стены храма радуются и торжествуют. «Какое зрелище на земле прекрасней, грандиозней, божественней, достойней восхищения, памяти и словесности?» (с. 190). Этот поразительный довод заставляет Анджело сделать первую уступку: «Что ж, не скажу, чтобы смерть была желанна где бы то ни было, но так как мы наверняка должны умереть, то я лучше скончался бы в курии, чем в ином месте, ибо смерть там обставлена надежней и святей» (с. 194). Но и жизнь там лучше, настаивает Лапо. Почему? Улисс ради драгоценного познания вещей побывал у Калипсо, Цирцеи, феакийцев, сирен и циклопов, приобретал свою мудрость годами, в утомительных странствиях, претерпевая повседневный страх и опасность для жизни – но «всем этим тебя в изобилии снабдит римская курия» (с. 196). Здесь узел европейских дел, здесь обсуждаются все сколько-нибудь важные события христианского мира, «как на некоем общественном форуме». «Тому, кто вращается среди такого мелькания людей и вещей, необходимо уметь многое видеть, многое слышать, многому учиться и, наконец, много действовать самому: встречаться, поддерживать разговор и уметь обходиться с разными людьми, узнавать разные нравы и образы жизни. Из всего этого вырабатывается сила доказательства и опровержения, способность вязать и разрешать, отклонять и принимать, исправлять и улучшать, так что, каковы бы ни были способности человека, если он не пренебрегает ими и хотя бы некоторое время потрется в курии, он часто превосходит одареннейших людей» (с. 196).
Но в курии, признается Лапо, сколько угодно слабоумных и малодушных, поверхностных и развращенных, не желающих и не способных овладеть мудростью. Когда Анджело в ответ приводит насмешливую поговорку о тех, кто подвизается в римской курии, Лапо не только соглашается, но и начинает настоящую инвективу против упадка курии, требуя, чтобы дорогу к почестям открывали «свободные искусства». «Теперь же все обстоит наоборот. Ибо кто настолько жалок, чтобы его можно было сопоставить с папским придворным?» (с. 202–204).
Так собеседники вдруг меняются местами. Теперь уже Лапо неистовствует, требуя срочного исправления курии, где не умеют ценить гуманистов, а его хозяин советует прекратить бесполезные жалобы, которые к тому же и опасны, «ибо есть великое множество негодяев, которые могли бы принять эти слова на свой счет» (с. 204).
Лапо успокаивается и… «возвращается к замыслу речи» («ad propositum sermonem referam»), вновь расхваливая курию, в которой столько людей, занятых не одними делами и светскими развлечениями, но и людей культуры («in ocium studiumque transferre»), притом не только «профессоров святой теологии, с занятиями которых мы не имеем ничего общего», не только физиков, математиков, астрономов, музыкантов, правоведов, но и погруженных в studia haec humanitatis. Диалог заканчивается торжественным перечнем гуманистов, живших и живущих при папском дворе.
Беседа завязалась как сопоставление двух точек зрения двух людей. Затем оказалось, что это две точки зрения одного человека или, если угодно, одна точка зрения двух человек. Спорящий не тождествен своему высказыванию, он способен перемещаться с одной позиции на другую. Серьезное обсуждение носит игровой характер. Оно внутренне иронично. Теза состоит в том, что курия порочна и что там не место для гуманиста; антитеза – в том, что жизнь при курии оправдана преданностью религии, эстетическими впечатлениями. Синтез не выделен особо, но достаточно ясен. В жизни гуманиста при курии есть и свои трудности и свои преимущества. Обе оценки ограниченны, опровергаемы в своей частичности, замкнутости, изолированности, в своем «или – или». Но обе оправданны в соотнесенности, споре, общении, диалоге, служа коррективами друг к другу.
Мы видели, что даже в пределах небольшого числа избранных нами примеров схема гуманистического диалога внешне выглядит по-разному. В споре могут участвовать два или три протагониста. Антитеза может быть выражена сжато, или во всех отношениях уравновешена с тезой, или быть центральным эпизодом диалога, меняясь, по существу, функциями с тезой. Синтез может быть дан в развернутой заключительной части сочинения, как это сделано у Поджо и Валлы, но часто синтеза внешне нет. У Бруни трактат кончается перевернутой тезой, у Ландино и Кастильонкьо синтез повторяет тезу в уточненном виде. Однако во всех наших примерах внутренняя форма – трехчастная: Т – А – С, или Т – А – ^, или Т – А – Т.
Я, конечно, не собираюсь здесь заниматься классификацией, для этого надо было бы проанализировать несравненно более обширный материал. Важно лишь подчеркнуть следующее. Даже там, где синтез дан полностью, т. е. в качестве третьей точки зрения, принадлежащей беспристрастному арбитру, – он, по существу, не снимает предыдущего бинарного противопоставления, не прекращает разноголосицы, а, напротив, освящает ее. Ибо, во-первых, синтез, поскольку он действительно предлагает какой-то новый угол зрения, звучит как еще один голос.
Во-вторых, и это главное, конкретность нового голоса в том, что он раздается от имени всеобщности. Тут есть противоречие. Чтобы сопоставить и примирить предшествовавшие точки зрения, синтез сам должен быть определенной точкой зрения, но тогда синтез как особая речь, особое мнение противоречит своему собственному синтезирующему принципу, противоречит себе как голосу всеобщего и абсолютного. Никакая заключительная речь не исчерпывает всеобщего, ибо божественно-всеобщее не может быть исчерпано в чем-либо конечном. Никколи примиряет речи Бруни и Панормиты, но и речь самого Никколи в ее содержательной определенности должна быть примирена с другими речами, и это способен сделать только автор, но не при помощи еще одного, «самого последнего», прямого, «авторского» слова (тогда парадокс синтеза просто повторился бы с дурной бесконечностью), а сопряженностью всех голосов, самодействием диалогической структуры.
Поэтому и не обязателен формальный синтез; часто двое собеседников отлично обходятся без третьего; провоцируя друг друга, меняясь местами, они высвобождают между собой некое логическое пространство, в котором размещается подразумеваемая синтетичность спора.
Синтез как некий более широкий и гибкий подход демонстрирует возможность сосуществования разных истин, их сводимость к единому, к точечности, что лишь предполагает их множественность и не мешает им разбегаться из этой абсолютной точки в разные стороны. Диалоги Бруни, Ландино, Кастильонкьо могут быть перевернуты, т. е. можно с равным успехом двигаться от последней речи Никколи, Альберти, Лапо к первой. Дело в том, что бинарность не снимается, а подразумевается синтезом. В диалоге нет развития, а есть инвариантность истин, поэтому диалог логически обратим. И у Поджо, и у Валлы синтеза нет как вывода, как конца, в этой роли он выглядит наиболее формально, плоско, беспомощно, «эклектично». Это только другое начало, другой конец той же оси.
Попытаемся проделать мысленный эксперимент: представим, что, например, трактат «О наслаждении» начинается с речи Никколи, т. е. с внутренне противоречивого объединения разнородных подходов. Тогда дальнейшее движение состояло бы в обнаружении двойственности синтеза и в расхождении свернутых в нем духовных потенций. Если гуманистический диалог в некотором роде устремлен от множественности к единству, от разомкнутости к точечности, то в не меньшей мере он направлен от общего и примиряющего к различному и спорящему. Диалог логически движется в двух встречных направлениях.

Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































