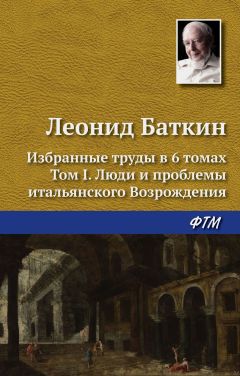
Автор книги: Леонид Баткин
Жанр: Культурология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 19 (всего у книги 57 страниц) [доступный отрывок для чтения: 19 страниц]
Можно предположить, что диалогичность гуманизма есть специфическое совмещение замкнутости и открытости. Без открытости и терпимости, без того ощущения неисчерпаемого плюрализма истины, которое так хорошо и сознательно воплотилось в пиковском «мире философов», гуманистический диалог как дружеский спор разных культурных позиций был бы немыслим, во всяком случае в XV в. Ludum serium сразу превратилось бы в столкновение лбами. Тогда запахло бы теми кострами, на которых савонароловские «плаксы» сжигали ренессансные картины и книги, или тем костром, на котором впоследствии сожгли самого Савонаролу. Но открытость в равной мере была невозможна без замкнутости, т. е. без того, что делает рядоположные истины не безразлично-терпимыми, а внутренне связанными в рамках какой-то божественно-полной и вечной истины.
Ренессанс подорвал средневековую авторитарность мышления, не отбросив ее, а, наоборот, доведя до предела и обратив в противоположность. Средневековье чтило высший авторитет в каждой сфере, и особенно авторитет теологии и Библии, возвышавшийся над всеми сферами. Авторитарность же Возрождения, так сказать, не монархическая, а республиканская: античные, церковные, восточные авторы – все авторитетны, и потому любой отдельный авторитет (даже Святого писания) стал частичным, относительным, а не полным выражением истины. Христианское откровение было теперь понято как запечатленное во всей истории человечества, до Христа и после Христа, в религии и вне религии, и, следовательно, не исчерпывающееся ничем и никем, даже Христом. Ренессансная убежденность в релятивности всяких человеческих проявлений, способностей и мнений коренилась в ощущении абсолютности человека и мира, не могущей быть сведенной к чему-то конкретному. Отсюда: представление ранних гуманистов о том, что каждая личность в состоянии индивидуально доработаться до идеального «универсального человека»; их цицеронианская манера черпать отовсюду, их признание античности самостоятельно ценной духовностью, непохожей на христианство, но в конечном счете выражающей то же самое; их любовь к неиссякающему слову, а затем овладевшее флорентийскими неоплатониками еще более отчетливое, жгучее чувство единства истины во всех религиях и философиях, пантеистичности космоса и особой функции в нем человека, ко всему причастного и ни в чем не закрепляющегося[220]220
Тема ренессансного «единства истины» сжато и точно суммирована в кн.: Kristeller P. Renaissance Concept of Man and Other Essay. N.Y., 1972, p. 43–63.
[Закрыть].
Как расценить в культурно-содержательном плане «рамочность», замкнутость, центрированность, абсолютность ренессансного мышления – иначе говоря, тот синтез, без явного и подразумеваемого присутствия которого был бы невозможен гуманистический диалог? (И невозможен, кстати, расцвет ренессансного искусства, с его поразительно свободным отношением к христианству и язычеству, духу и плоти, с его напряженностью и гармонией, идеализованностью и материальностью, нормативностью и богатством изобретательных индивидуальных поисков, с парадоксальным соединением всех этих противоположных вещей в целостном мироощущении, в законченном художественном стиле.)
Ренессанс – это культура общения культур. Чем больше мы проникаем в оригинальность Ренессанса, тем яснее, что она выражалась в переходности. Обосновывать одно – значит обосновывать другое. Переход от средневековья к новому времени потребовал совершенно необычного типа культуры, который должен быть объяснен прежде всего из себя самого, а не просто из того, что было до и после него. Но эта признанная оригинальность Ренессанса существовала не вопреки его переходности, а как переходность в наиболее конструктивно-независимом, логически зрелом виде, как самая великая культура перехода, которая когда-либо была в мировой истории. Переходность Ренессанса выражалась в оригинальности, а не в «сочетании» средневекового и новоевропейского, «старого» и «нового».
Возникает немалое искушение сказать: содержательность, историческая уникальность ренессансного синтеза – «среднего члена» в диалоге – состоит как раз в том, что синтез сам по себе бессодержателен, он – величественное ничто, он – пустота, в которой потому-то непринужденно и мирно размещаются воспринятые или подготовленные Ренессансом культуры: античная, восточно-эллинистическая, христианско-средневековая, новоевропейская… Ренессанс «как таковой» – лишь неповторимая возможность диалога; все конкретно-определенное в сфере его мысли и творчества, собственно, неренессансно, будь то христианство, «словесность», платонизм, герметизм, аверроизм, интерес к внешнему миру и к измерению. Все это, взятое в отдельности, принадлежит прошлому или будущему. Собственная содержательность эпохи негативна, как Бог у Дионисия Ареопагита и Пико делла Мирандолы. Ренессансна только встреча неренессансных культур в индивиде, свободном по отношению к каждой из них. Такой индивид и есть положительное и оригинальное содержание Возрождения.
Подобный подход позволяет высветить очень существенное свойство ренессансной культуры[221]221
См.: Библер B.C. Мышление как творчество: Введение в логику мысленного диалога. М., 1975, с. 114–118. Беседы с автором этой книги явились для меня постоянным и важным стимулом; я рад возможности высказать свою признательность.
[Закрыть]. Однако, оставшись лишь на его почве, мы рискуем упустить нечто не менее характерное – самосознание гуманистов, не подозревавших о «внелогичности» их ученых трактатов, о том, что «синтезом здесь… становится тот самый индивид, в котором культуры сталкиваются», но, напротив, почему-то убежденных в синтезе надындивидуальном и надысторическом. Очевидно, самосознание гуманистов не в состоянии было вполне оценить собственную специфическую историко-культурную ситуацию, и мы, по выражению М. М. Бахтина, не обязаны верить эпохе на слово. Но и гуманисты вправе нам не поверить. «Ошибочное» самотолкование культуры есть, в свою очередь, существенный факт этой культуры. Если мы хотим услышать гуманистов, а не только говорить сами, нам придется так или иначе включить в наше суждение о ренессансном синтезе, в нашу правоту их правоту.
Иначе окажется плохо понятым именно то, что конкретно-исторически сделало возможной эту неслыханную подмену всеобщего индивидом. Именно высвобождавшаяся личность будет объяснена слишком ретроспективно: словно она уже обладала представлениями о ее самоценности и о культурном релятивизме. Между тем гуманист дорожил собою и всем исторически особенным и отдельным – в соотнесенности с божественно-тотальным, как бы оно ни понималось на разных этапах и в разных ответвлениях Возрождения. Ренессансный индивид смог обрести действительно громадную культурную свободу, лишь истолковав ее как обет послушания, лишь потому, что ни о какой «культурной свободе» и вообще о «чисто культурной» деятельности не помышлял. Попытаюсь объяснить, что я имею в виду.
Неоплатоническое «единое», разумеется, было единым, поскольку не совпадало ни с каким наличным бытием, вечно раскрываясь в нем, изнутри вещей и людей, включая в себе, следовательно, будущее. Оно было в мире и над миром одновременно, оно было движением от своей негативности к необозримости конкретного, но и назад, от многоголосицы божественных истин к божественному молчанию. В раннем гуманизме слово – суть человека, данная в общении, но его божественная суть, сказывающаяся в каждой прекрасной речи и возвращающаяся к себе. Конечно, слово, единое, Бог в себе в качестве некоего свернутого и бесконечного первоначала выглядели весьма таинственно и неопределенно, но оттого не менее реально. Божественность человека вообще была мистерией, но мистерией, осязаемо подтверждавшейся заново в каждом деянии, изобретении, сентенции, фреске, в чудесах античной и современной «доблести», в классических руинах и новых храмах, в Христе и Платоне, Геракле и Орфее и в самих ренессансных гуманистах и художниках. Вот почему диалогический синтез не мог быть для них чисто субъективной возможностью, формальным оправданием относительного и преходящего, как и Бог в негативной теологии менее всего похож на рациональную категорию. Не забудем о ренессансном мифологизме и символизме. Еще не была утрачена способность воспринимать мир как целое в непосредственном переживании.
Ренессансные итальянцы видели себя и свой «век» находящимися в средоточии времен. Отсюда эта странная всеядность, этот гениальный «эклектизм», вскормленный уверенностью, что синтез – не из них, а в них, заложен в природе человека. Они-то сами в своем творчестве вовсе не чувствовали себя остраненно играющими разнородным культурным материалом. Чем больше они вносили в мир нового, тем больше им казалось, что они лишь прозревают в мире и в себе некую вневременную норму. Божественная природа говорила их устами и двигала их руками, но ее нужно было высвободить в себе посредством сознательных усилий, «бдений» и «доблести». Отсюда то, что мы называем ренессансным индивидуализмом и что после средневековья было бы иначе совершенной загадкой.
При очень свободном отношении к античности и христианству люди Возрождения двигались внутри этих духовных миров и, хотя были способны подойти к каждому из них с меркой другого, это для них в конечном счете один мир, и не просто мир «культуры» (в нашем смысле слова). Не они синтезировали античность и христианство, а Бог; оба «века» содержали по-своему общую суть; им же, людям Кватроченто, оставалось только это понять. Они совершенно не в состоянии были ощутить себя внеположными и античной и христианской традициям. Если они обращались с мыслью, словом, пластикой, как с культурой, то сами этого не замечали: ибо они секуляризовали религию, но зато культуру сакрализовали, и не зря Фичино возжигал лампаду перед бюстом Платона.
Поэтому ренессансная терпимость так далека от равнодушия, от простого допущения рядом с собой чего-то иного; поэтому синтез, внешне несамостоятельный и поверхностный, господствует в диалоге; поэтому ренессансный релятивизм проникнут не ужасом «некоммуникабельности», как это случилось с релятивизмом XX в., а восторгом общения. Релятивизм был для Возрождения знаком неиссякающего единосущного творения.
Способ ренессансного мышления неотделим от онтологии: от представлений о движении исторического времени, о космосе, о Боге, месте человека в мире.
Мы совершили бы ошибку, если, сосредоточив внимание на способе мышления и отвлекшись до поры до времени от предметного содержания Возрождения, позволили бы себе забыть, насколько то, что думали гуманисты, входило в то, как они думали. Желая понять в творении Творца, в предметном материале – формообразующую энергию, в культурных результатах – скрытую логику культуры, – мы должны приблизиться к подвижной и рискованной грани и удержаться на ней. Ведь конкретные воззрения эпохи не были чем-то только пассивным и внешним по отношению к реконструируемым нами логико-культурным особенностям и возможностям ренессансного исторического субъекта.
Индивид Возрождения впервые сталкивал разные культуры, не совпадая полностью ни с одной из них, тем самым становился демиургом, вырабатывал свою субъектность.
Гуманизм и диалогическая традицияГуманистический диалог XV в. мог опереться на античную платоновскую традицию и на так называемую диалектику XII в.
«Диалектика» выделилась из средневековой логики как ее составная часть, в связи с методами обучения[222]222
Ниже я использую главным образом уже упоминавшиеся статьи Э. Гарена «Идеал знания в культуре XII века» и «Диалектика и риторика от XII до XVI века» (Garin Е. L'età nuova, p. 13–79), а также: Brezzi P. Limiti e caratteri dell'umanesimo nella cultura del secoli XI e XII // Humanitas, 1950, vol. V, p. 705–721.
[Закрыть]. Она была «искусством возражать и защищаться» (ars opponendi et respondendi), техникой дискуссии (disputatio), основанной на «мнениях». В отличие от логического доказательства (resolutio) непреложной истины (ex omne vero), диалектическое рассуждение (ars disserendi) должно было убеждать, казаться правдоподобным (ex probabilibus). Поэтому при споре между двумя собеседниками (duorum sermo) необязательно присутствие третьего, который вынес бы приговор (dialectica disputatio tota versatur et finitur inter duos). Абеляр полагал, что цель диалектики – возбуждая сомнение, вести через исследование к истине. Но истинными могут оказаться оба противоположных мнения, поскольку любой термин двусмыслен и зависит от контекста и ситуации. Спорщики уточняли его, оперируя перечнями «мест» (topos), т. е. привычными и достоверными смысловыми связями вещей. Диалектика тем самым сближалась с риторикой.
Уже в XII в. раздавались голоса (например, Иоанна из Солсбери в «Металогиконе») против двух опасностей «диалектики», впадающей в софистику или выступающей с онтологическими претензиями, подменяя вещи словами. В XIII–XIV вв. эти опасности вполне реализовались, схоластика утратила юношескую гибкость, диалектика подчинилась логике «сумм» и окончательно формализовалась как техника спора. Ранние гуманисты неизбежно выступили против схоластики, однако в их творчестве, несомненно, была возобновлена и подверглась переработке угаснувшая «диалектическая» традиция XII в. – времени, отмеченного «сохранением длящегося диалога», когда «доктринальный выбор еще не совершился, битва искусств была в полном разгаре» и «любое „sic“ имело перед собою „non“ в незавершенной дискуссии»[223]223
Garin E. L'età nuova, p. 29.
[Закрыть].
Тем не менее различия между диалогами XII и XV вв. очевидны и огромны. У Абеляра, скажем, спорят аллегорические фигуры. Почвой «диалектики» был школьный диспут, а не дружеский кружок. Иная среда, иной характер общения, иной материал и проблематика. Иная цель, прежде всего дидактическая. «Диалектика» изначально имела слишком формальный и служебный характер, родилась под знаком теологии и употреблялась людьми, которые, хотя еще и не сделали «доктринального выбора», не сомневались в его конечной необходимости. «Диалектика» XII в. стала гимнастикой не систематизированной еще схоластики и не случайно довольно быстро выдохлась. Ее предметом было скорее разноречие, чем разномыслие. Ведь абеляровское сопоставление противоположных «святых речений» (dicta sanctorum), согласование pro и contra вовсе не означало – и это главное различие – неизбежной относительности и плюрализма истины. В средневековом диалоге в сравнении с гуманистическим отсутствовала диалогичность как принцип культуры.
Еще любопытней могло бы оказаться в этом плане сравнение гуманистов с Платоном. Ограничусь столь же сжатыми замечаниями.
Никому не придет в голову задаваться вопросом, таким обычным при изучении гуманистов: где сыскать в платоновском сочинении точку зрения Платона? Ее выражает Сократ и только Сократ. Нет ничего более монологичного, чем платоновский диалог. Сократ непроницаем и недосягаем для собеседников, он легко манипулирует ими, оставаясь сам недвижимым[224]224
См.: Аверинцев С.С. Греческая «литература» и ближневосточная «словесность», с. 215.
[Закрыть]. Остальные – только слушатели, ученики, мальчики для битья. Если это действительно противник, например Протагор, – он обрисован крайне недоброжелательно и обречен на поражение. Окружающим только кажется, что они знают истину, и только сократовское сомнение обнаруживает мнимость их знания. Другое дело, что мысль Сократа внутренне диалогична, его монологизм – это спор с самим собой. Но не с другими. Чужие мысли не участвуют в споре. Разные мнения не могут остаться таковыми, сохранив достоинство, не могут объективироваться на равных. Конечно, Сократ все время становится на позиции, не совпадающие с теми, к которым он придет в конце рассуждения, но, «проиграв» их, использовав, выжав, он их отбрасывает, снимает, делает пройденным моментом движения мысли. Ибо мысль Сократа развивается. Внутреннее оппонирование ей необходимо, чтобы измениться необратимо. Она не знает трехчастной формы тезы – антитезы – синтеза, она не закругляется, не обособляется в каждой из сторон бинарного противопоставления и не нуждается в примирении.
Понятно, что в философско-логическом (и в художественном) отношении Платон во сто раз глубже, тоньше, оригинальней, чем гуманисты. Рядом с Сократом персонажи гуманистического диалога выглядят как усердные школяры. Они словно проглотили аршин. Их высказывания на фоне сократовской диалектики – слишком риторичные, поверхностные, окостенелые. И все-таки в них есть то, чего нет в гениальном Сократе, нет вообще в античности. Они принадлежат к другому типу культуры, какой же смысл прикладывать к ним и к Сократу одинаковую мерку?
Сократ был устремлен в глубь самого себя, он непрерывно, даже беседуя о первоначалах бытия, мыслил о том, как он мыслит. Гуманисты, напротив, энергично осваивали внешний мир и даже чисто этические и психологические проблемы рассматривали онтологически. Их онтология давно устарела, а самосознание Сократа всегда будет полно поучительности. Поэтому платоновский диалог бессмертен, а гуманистический – читают преимущественно специалисты.
Но Сократ двигался, пусть нелегким, кружным путем, к единственной истине. Познать самого себя – значило познать человека в целом. Греки удовлетворялись самопознанием. Чужое, будь то варвары или Восток, вызывало чувство недоумения, отвращения или заманчиво-недоступной мудрости, но не чувство своего чужого, общего в разном. Как и христианство, античность видела в мире только себя (или не себя). Это мышление инициаторов. Оно не общительно.
Ренессанс – первое в европейской (и, очевидно, в мировой?) истории мышление наследников. Уточним: и до Ренессанса, разумеется, бывала проблема наследия, но не проблема наследий. Т. е. не просто своей же древности, вневременных образцов, которым надлежало следовать (как, скажем, в том, что Н. И. Конрад назвал «Восточным Возрождением»), и не чужой (языческой) древности, которую надлежало отбросить, или адаптировать, – нет, разных культурных наследий, одновременно своих и чужих, античности и христианства, единство которых надо было еще опознать и обосновать, не подражая, не повторяя их, а творя по-своему и тем самым властно входя в права наследства.
Этой-то поликультурной толщи не было между Сократом и истинами, коих он доискивался. Проблема диалога культур могла, казалось бы, возникнуть перед римлянами, но они попросту завоевывали мир, присоединяя к себе все чужое и охотно перекраивая для себя, ставя в родных храмах статуи иноземных богов, синтезируя действием, а не мыслью. Рим ухитрился включить в себя даже христианство, не догадавшись о своей несовместимости с ним и скорой своей погибели.
Впервые гуманисты решились строить новую культуру на семи ветрах, из гетерогенного наследия, с острым историческим и критическим чувством остранения и не менее острым прозрением близости. Гуманисты впервые обнаружили, что история дискретна и целостна одновременно. Вот что они сделали: сохраняя звучание каждого голоса в отдельности, попытались уравновесить их, отождествляя общее с индивидуальным. Ренессансный синтез по природе своей не мог быть чисто логическим, логически он действительно беден, и результаты, сопоставимые с античностью, он не случайно дал не в дискурсивном, а в интуитивно-художественном мышлении. Что касается гуманистов, которых так часто упрекали в подражательности, в использовании готового мыслительного материала, то они создали новый тип такого использования, новый способ функционирования культуры. Надо полагать, что это имеет некоторое отношение к философии и философской оригинальности и что именно тут следует искать всемирно-историческое значение итальянского гуманизма.
От дантовского Лимба к «Афинской школе» РафаэляОчевидно, заключительный раздел пишется не для того, чтобы избавить читателей от необходимости знакомиться со всем остальным. Но тогда нет особого смысла схематично повторять в таком разделе то, что ранее было высказано более обстоятельно и доказательно. И для автора, и для читателей куда интересней подытожить содержание высказанного иначе: бросив на него свежий взгляд, словно бы со стороны. В заключение полезен новый и, возможно, неожиданный угол зрения. В нашем случае найти его, наверно, нетрудно. Особенности субъекта ренессансной культуры могут и должны быть обнаружены также в отделившихся от него предметных результатах. Например, в философии истории, этике, антропологии, поэтике и т. д. И прежде всего – в искусстве Возрождения. Философ, живописец или поэт не просто воспроизводят себя в тексте.
Произведение культуры вместе с тем само ее производит, выступая в качестве уже отделившегося от автора, как бы самостоятельного, субъекта. Культура есть не только произведение, но и логико-культурная возможность его появления. Между такой возможностью – и готовым текстом (готовность которого ведь условна, поскольку это всегда произвольная остановка творческого процесса, решение считать его готовым); между произведением – и его нескончаемыми толкованиями, актами понимания; наконец, внутри каждого из подобных актов (поскольку истинное понимайте также и для отдельного читателя или зрителя неоднозначно, и, следовательно, остается незавершенным, неокончательным) – обнаруживается некая смысловая растянутость, духовное пространство, насыщенное диалогическими возможностями. Автор продолжает жить в созданном им тексте уже и по законам этого текста. Короче говоря, ренессансный способ мышления, если бы мы рассмотрели его со стороны предметных результатов, не просто воспроизводится, но постоянно рождается наново.
То и дело исследователи находят даже у одного и того же ренессансного автора, внутри единых по замыслу и осуществлению творений, какую-то неустранимую раздвоенность, не поддающуюся четкой фокусировке. Уж на что, казалось бы, «Декамерон» – книга насквозь нового и цельного мироощущения. Но видный итальянский литературовед В. Бранка в работе, полемически озаглавленной «Средневековый Боккаччо», выяснил, в какой огромной степени не только сюжеты, но и стилистика, и даже идейный мир «Декамерона» восходят к средневековым традициям анекдота и дидактического наставления, причем действительно новым у Боккаччо стало соединение того, что раньше было разделено между разными жанрами и психологическими установками.
Отечественный исследователь Р. И. Хлодовский, со своей стороны, показал, что у Боккаччо внимание к непосредственному, реально-человеческому существованию и фантастическое мироощущение укоренены друг в друге. Более того, если, с первого взгляда, может показаться нелепым сопоставление «Декамерона» с ученым трактатом Марсилио Фичино «Комментарий к „Пиру“ Платона», тем не менее эти два сочинения сходятся в общем понимании любви, хотя точка схождения расположена вне пределов каждого из них, взятого в отдельности. Эти две книги выглядят антиподами, они и были антиподами, но только в том смысле, что их духовные центры – и, соответственно, их периферии – помечены противоположными знаками. В «Декамероне» центром – само собой! – служит земная, плотская любовь; ее уравновешивает, однако, идеально-куртуазное чувство в трогательно-поучительных новеллах (преимущественно 4-го, 5-го и 10-го дней). Оба мотива примирены в композиционной рамке. В трактате Фичино смысловой центр занят, конечно же, теорией христианско-платонической любви; на периферии, однако, располагается обширнейший материал о плотской страсти и совокуплении, с некоторыми, даже медицинскими разъяснениями; притом любовь небесная и любовь телесная иерархически соотносятся и примиряются в находящейся посредине «человеческой» любви. Самая чувственная (игровая) и самая спиритуальная (серьезная) книги Итальянского Возрождения имеют амбивалентное (т. е. двойственно-целостное) основание, зеркально отражают друг друга и с противоположных сторон выходят к построению общего культурного мира. Если некая внутренняя расслоенность, некий «плюрализм» точек зрения мешают однозначно истолковать отдельного автора, отдельное произведение, то тем более сложной становится оценка этапов или сквозных проблем ренессансной культуры. Например, в творческой атмосфере флорентийской академии Медичи историки усматривают и некий мистико-религиозный, аристократический отход от Возрождения (Фичино, Пико делла Мирандола, Полициано, Боттичелли), и одно из высочайших его выражений. Или: каково ренессансное отношение к христианству? Ответ обычно зависит от того, какие факты более симпатичны исследователю и какой стороне дела он склонен придать решающее значение. Ведь наряду с центробежной напряженностью внутри каждого явления (например: что важней для понимания религиозности Валлы, его трактаты против монашества, разоблачение «Константинова дара» или его же чисто богословские сочинения?) «средний» уровень ренессансного мышления в целом также складывается из разбегающихся крайностей. Заметно выделяются особая набожность Энея Пикколомини, или фра Анджелико, или Маффео Веджо; особое «язычество» Панормиты, или ранних Боттичелли и Тициана, или полициановского «Орфея», или микеланджеловского «Вакха»; особая мистическая экстатичность Пико делла Мирандолы; особые натурализм, сенсуализм и «безбожие» Каллимаха, Помпонацци, Луиджи Пульчи; особая монументальность и строгость Пьеро делла Франчески; особая причудливость и сказочность Учелло и т. д. Что из всего этого и почему, собственно, нужно считать более характерным для эпохи? Или, как это, увы, часто делалось и делается, отбирать только то, что по своему духу ближе к новому времени, дальше от средневековья? Но именно такой подход делает крайне затруднительной полемику с католическими историками, поступающими, разумеется, противоположным образом.
Односторонние объяснения Возрождения – его модернизация или медиевизация, подчеркивание в нем христианского или языческого, средневекового или античного начала, художественного приближения к реальности или ее мифологического преображения, имманентизма или трансцендентизма – любое из подобных объяснений слишком легко находит себе подтверждение в материале… а значит, все они словно бы взаимно погашаются. Можно, конечно, без устали напоминать, что Возрождение было эпохой переходной и что поэтому в нем и встречаются вещи самые разные… Однако если речь идет о переходности в смысле внешнего столкновения или соединения, сосуществования «старого» и «нового», то где же само Возрождение? Если ренессансное мышление, как это теперь утверждают многие западные историки, эклектично, то поиски какой-то общей формулы эпохи и впрямь безнадежны и беспредметны?
Короче говоря, ни выдвижение на первый план какой-либо из «сторон» Возрождения, ни простая констатация их совмещения не в состоянии дать ключ к пониманию как раз исторической целостности, оригинальности, которые интуитивно ощутимы для нас в этом типе культуры, мощно-конструктивном, несмотря на переходность и эклектику – или благодаря «эклектике»? Или это никакая не эклектика?
Верно и неоспоримо одно: резюмировать суть ренессансности оказывается необычайно затруднительным потому, что для ренессансного миропонимания свойственно постоянное стремление совместить полярности и примирить то, что, казалось бы, примирить нельзя: божественное и человеческое, предельное торжество духа и свободную радость плоти, возвышенность и повседневность, космический порядок и свободу воли, фантастику и реализм, этический пафос и натурализм, благочестие и светскость, христианство и античность. Взгляните – ну, хотя бы на «Св. Себастьяна» Антонелло да Мессины (из Дрезденской галереи). Почему этот святой с вознесенным к небу взглядом и по-античному прекрасным нагим телом стоит посреди городской площади? Какое отношение к нему имеют остальные персонажи, например, спящий неподалеку стражник или женщина с ребенком? Как соотнесены передний и задний планы картины? Торжественна она или интимна? Полна умиротворенности и покоя или напряжения? Течет ли на ней время или остановилось? Разве все компоненты картины не поразительно разноречивы, не спорят друг с другом? Отчего же впечатление, хотя и загадочно, но цельно? Как его сформулировать? В этом конкретном случае, как и во множестве других, толкование зависит, очевидно, от нашего представления о ренессансном способе мышления вообще и прежде всего об его переходности, или пресловутой эклектичности, или плюрализме.
Не скрывается ли за «эклектикой» нечто принципиально последовательное и продуманно структурное, не есть ли «плюрализм», т. е. заимствование и совмещение в ренессансной культуре и даже у одного и того же автора разнородного духовного материала и устремлений, необходимое условие и результат логико-исторической органичности Возрождения?
Диалогичность Возрождения великолепно может быть проиллюстрирована картиной Тициана «Любовь небесная и любовь земная». Сложная символика этой вещи хорошо изучена, я не могу ее здесь касаться.
Но замечательно, что современный зритель, с этой символикой не знакомый, скорее всего, с первого взгляда перепутает, где тут любовь земная и где небесная. Христианство (Amor sacra) изображено в фигуре обнаженной, полной движения, чувственной неги и мечтательности; язычество (Amor profana) в фигуре, пышно и торжественно разодетой, монументальной и строгой. Иначе говоря, язычество выглядит христианским, христианство – языческим[225]225
Ср.: Wind E. Pagan Mysteries in the Renaissance. Bungay; Suffolk, 1967, p. 24 (в ренессансном искусстве Венера часто похожа на Мадонну, а Мадонна на Венеру, так что христианское профанируется, а языческое мистицизируется на христианский лад. Автор называет это «гибридизацией»; сам термин мне кажется неудачным, но сходные наблюдения делались неоднократно. Ср.: Panofsky E. Studies in Iconology. N.Y., 1967, p. 70–71, 213–218 (мотив Ганимеда), 101, 114, 115 (мотив Купидона, его духовно-чувственная, христианско-языческая «ambiquous attitude») и т. д.
[Закрыть]. Каждый из образов допускает в себя другой, оставаясь собой. Две богини сидят на одном пространственном уровне, по краям разделяющего и соединяющего их небольшого источника, между ними Купидон, они композиционно равны и едины, оставаясь независимыми; их взгляды не встречаются, но легко могут встретиться; они и воплощают противоположности, и похожи на сестер[226]226
Ibid.: «Их фигуры не выражают контраста между добром и пороком, но символизируют единое начало в двух модусах существования и на двух ступенях совершенства». Ср. образы Орландо и Ринальдо у Ариосто, в которых можно рассмотреть то же соотношение «amor sacra» и «amor profana» (Toffanin G. La religione degli umanisti. Bologna, 1950, p. 83–101).
[Закрыть]. Они, если угодно, ведут незримую беседу – подобно участникам гуманистического диалога, каким-нибудь Антонио Панормите и Никколо Никколи в сочинении Валлы.
Добавлю, что тот же способ мышления скрывается за ренессансным пониманием взаимоотношения и смены «веков», т. е. исторического времени. Это понимание включило в себя идею о неизменной природе человека, наиболее высоким и достойным образом выказавшей себя в деяниях и сочинениях древних, у которых следует искать примеры для подражания, – и оставалось в своей сакраментальной обращенности к прошлому и к вечному, казалось бы, традиционным. Но ренессансное восприятие временного ритма было укоренено также в ясном ощущении дистанции, отделяющей от античности, в историзме, давшем о себе знать в успехах текстологии, в признании разнокачественности «веков», решающей важности индивидуальных усилий, возможности и привлекательности новизны, в открытости времени. Как могли совместиться столь противоположные ориентации – на прошлое и на будущее, на подражание и на новизну, на абсолютное и на особенное? Как они могли органически совпасть – и выразиться в конечном счете в небывалом восхищении итальянцев Высокого Возрождения настоящим, собственной эпохой, самими собой, своими свершениями?
Переходность Возрождения опять обнаруживается со всей отчетливостью. Ренессансная концепция времени напоминает сразу и традиционалистскую, и новоевропейскую. Но она – не то и не другое, не движение по кругу и не линейное время, разматывающееся в одном направлении. Дело в том, что авторитет античности не исключал, даже предполагал равноправное и – если достанет «доблести»! – победоносное состязание с древними. Ведь природная человеческая субстанция, божественная по происхождению и цели, но выявляющаяся лишь во всей совокупности достойных ее людей и «веков», тем самым всегда неполна и готова к очередному раскрытию и варьированию. Чтобы пребывать, она должна выходить за свои пределы. Чтобы утвердиться в абсолютности, она нуждается в особенном и относительном. Она, следовательно, неисчерпаема – причем то, что несходно в людях и временах, исторические перемены и новизна, для ренессансного сознания не призрачные оболочки сути, но и не какие-то этапы эволюции, а состояния, в которых реализуется всеобщее и которые всякий раз соотнесены с ним непосредственно. Поэтому будущее – не повторение и не преодоление прошлого, это выражение на оригинальный лад того же. История, возвращаясь к себе, находит себя изменившейся. Изменившись, она остается прежней. Если представить, что человеческие возможности в каком-то поколении, у какого-то рубежа исчерпались полностью, т. е. что потомкам осталось бы только повторение, – человечество разом утратило бы божественность, которая осуществима лишь в бесконечном результате. А бесконечный результат всегда впереди. Поэтому ренессансный культ античности был, по существу, обращен в будущее. Благоговение перед славным прошлым служило опорой творческой активности. «Ведь мы включены в эту бесконечную череду поколений, которая может от бесконечного действия излиться в бесконечную мощь» (Фичино). Неисчерпаемое раскрытие и варьирование вечного во времени, всеобщего в особенном означало открытость истории, но не ее «развитие» в позднейшем смысле. Нет необратимости истории. Центр времен воссоздается всюду, где только свидетельствует о себе героическая «humanitas». Потому-то центром можно было считать, наряду с античностью, и ренессансную современность. Отсюда эта странная всеядность, этот гениальный «эклектизм», вскормленный уверенностью в том, что всякой мудрости и всему человеческому должно найтись место в универсальном человеке и в универсальной мудрости возвращающегося в Италию «золотого века».
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































