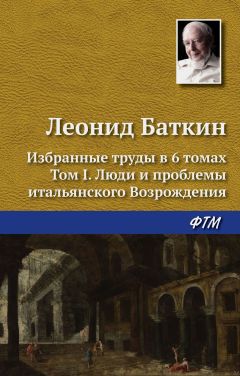
Автор книги: Леонид Баткин
Жанр: Культурология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 16 (всего у книги 57 страниц) [доступный отрывок для чтения: 19 страниц]
Возможно, будет нелишне предпослать нашему опыту некоторые методологические соображения.
Для истолкования исторической природы гуманизма не существенней ли «формальные», структурные свойства диалога, чем непосредственное, конкретное содержание тех или иных сочинений? Отвлекаясь от гуманистических мнений, зачастую сталкивающихся и внешне непоследовательных, разных у разных авторов, поколений и направлений гуманизма, чуждых систематичности, и занимаясь более или менее сходными и общими методами выработки мнений, т. е. интересуясь не тем, что говорят и думают гуманисты, а как они это делают, мы, разумеется, отнюдь не впадаем в какой-то «формализм». Напротив. Ограничиваться высказываниями того ли, другого ли гуманиста по поводу, допустим, созерцательной и деятельной жизни, высшего блага, доблести, богатства, семьи, наслаждения, словесности, истории, свободы воли, римской курии, монашества и еще сотни тем – не это ли значит подходить к делу слишком формально? Тогда гуманизм выглядит как сумма суждений и оценок, выговоренных этими людьми вслух, лежащих на поверхности и, по нашим представлениям, подобающих ренессансным идеологам. Нам остается лишь сгруппировать эти «взгляды» и подобрать к ним подходящие обозначения: натурализм, имманентизм, пантеизм, рационализм, сенсуализм и т. д. Разве для людей Возрождения не было так естественно отстаивать подобные идеи: предпочитать деятельную жизнь созерцательной, защищать земные наслаждения, изобличать лицемерие святош, понимать природу как причину себя самой и т. д.? Гуманистическое мировоззрение при таком подходе предстает не как процесс мышления, а только как набор порожденных им идеологических и теоретических результатов.
Увы, гуманисты ратовали также за созерцательную жизнь, призывали к умеренности, ставили дух неизмеримо выше плоти, небесное выше земного, ценили благочестие, служили папам, соглашались с Августином и Аквинатом, увлекались магией и восточноэллинистической мистикой. То и дело обнаруживается, что у Петрарки и Салютати, даже у Альберти и Валлы, не говоря уже о Фичино или Пико делла Мирандоле, полным-полно высказываний, в привычную идейную парадигму гуманизма не укладывающихся. В таких случаях принято считать, что эти авторы противоречат себе, «делают уступки средневековью» или притворствуют; некоторых из них, на худой конец, приходится даже выводить за пределы кватрочентистского гуманизма, дабы придать нашим представлениям о Возрождении большую цельность… Вместе с тем если брать лишь гуманистические «взгляды», а не порождавшую их структуру мышления, то нечто близкое несложно найти в совсем иных эпохах и отдаленных регионах, отчего получается, будто гуманизм бывал всегда и везде.
Нет ни малейших сомнений в том, что идеология – особенно обязательный предмет исследования, если мы хотим понять отдельных мыслителей или какие-то конкретные культурные феномены в определенной фазе их развития и при данных обстоятельствах. Например, чтобы воссоздать духовный облик Леонардо Бруни, разумеется, нужно отметить его приверженность флорентийскому республиканизму; для Антонио Лоски, наоборот, характерна апология не «римской свободы», а «римского мира»; для Салютати или Верджерио существенна мысль о превосходстве «деятельной жизни»; для Ландино или Пико делла Мирандолы – убежденность в превосходстве созерцания и т. д. Их конкретные идейные позиции различны или даже противоположны, а миропонимание движется в одних и тех же категориях. Без учета идеологической разноголосицы, конечно, нельзя дать диахроническое описание Возрождения. Но что, если мы зададимся целью понять, что объединяет Салютати и Лоски, гуманистов-республиканцев и гуманистов-цезаристов, ранних «гражданских гуманистов» и неоплатоников последней трети XV в., Донателло и Боттичелли, Полициано и Макьявелли – совершенно идеологически разных людей, что их делает все же людьми одного типа культуры? Так как все спорящие между собой персонажи этой культуры – в равной мере «гуманисты», их противоречивые мнения, очевидно, свидетельствуют о гуманизме не столько сами по себе, сколько в силу выразившейся в них особой манеры думать, спорить, аргументировать, в силу некоего конструктивного сходства.
Это сходство тоже идеологично, но на гораздо более эпохально-протяженном, повторяющемся, тонком, «молекулярном» уровне. Анализ строения гуманистических диалогов должен иметь своим подлинным предметом мироотношение. Ведь способ мыслить – и есть стержень мироотношения, самое сокровенное в нем то, что мыслитель чаще свидетельствует не о себе, а собою. Весь комплекс культуры, с его внутренними натяжениями и антиномиями, необходимо соотносится с «логикой» самопостроения культуры, определяющей самосознание ее деятелей, но именно поэтому незаметной для них, т. е. не выступающей для них как предмет особой рефлексии, а растворенной во всеобщем предмете. Так, глаз способен видеть и сознательно пользоваться своей способностью благодаря тому, что не видит себя.
Ясно, что с этой точки зрения мыслительная структура – никакая не «форма», а самое что ни на есть глубинное содержание культуры, не внешний ее слой, а субстрат, по отношению к которому как раз те или иные гуманистические взгляды могут рассматриваться как внешнее, как форма выявления и конкретизации субстрата в его взаимодействии с повседневными интересами и ситуациями. Каждый историк культуры, разумеется, вправе в соответствии с личными склонностями сосредоточиться на той или на другой стороне исторического процесса; обе необходимы и расчленимы лишь в нашем исследовательском сознании; но хороший историк должен бы обязательно выверять изучение «взглядов» «субстратом», и наоборот. Оба подхода не противоречат друг другу, хотя они явно находятся в отношении «дополнительности». Фиксируя «взгляды» некоего гуманиста как определенную точку в объемном духовном пространстве эпохи, мы элиминируем авторское мироотношение как состояние этого пространства, как «силовое поле» культуры; беря творчество этого же гуманиста как особое выражение всего Ренессанса, гуманистического стиля мышления, мы неизбежно оставляем в стороне идейную закрепленность автора в таком-то направлении мысли, на таком-то этапе, в такой-то ситуации. Наверное, только положение дел в историографии придает тому или другому подходу большую важность. Сейчас это положение в науке о Возрождении таково, что особенности любого, даже третьестепенного гуманиста и его место в гуманизме изучены довольно хорошо; что касается неповторимых особенностей и места гуманизма в истории мировой культуры, то здесь ясности пока не много.
Вне сомнения, диалогическое миропонимание – не законченная, исходная данность ренессансной культуры, а скорее ее творческое мучение, искомая ею мера. Дело не только в том, что начиная с «Исповеди» и сонетов Петрарки диалогическое противоборство родственно-враждебных состояний раздвоенного духа прошло в Ренессансе долгую эволюцию: способ получения мыслительных результатов тоже может быть понят как исторический результат. Но, кроме того, такая, гуманистическая структура мышления, основанная не на жесткой выводной логике, а на поисках истины в общении, на признании общения истиной, по самой сути никогда не бывала готовой, но лишь становящейся, каждый раз воспроизводящей себя снова и по-новому. Законченность она обретает лишь ретроспективно, в качестве нашей историко-логической идеализации.
Я вовсе не собираюсь утверждать, что все итальянские диалоги XV в. одинаково диалогичны, в равной мере последовательно и выпукло заключают в себе конструктивные возможности гуманистической мысли, которые станут предметом нашего разбора. Я коснусь только нескольких примеров, надеюсь, достаточно выразительных и показательных, чтобы с их помощью наметить проблему и ее решение. Речь пойдет о некой – впрочем, на мой взгляд, решающей для исторического своеобразия итальянского гуманизма – тенденции, не совпадающей, конечно, с эмпирическим бытием жанра и тем более гуманистической традиции в целом.
Исторический экскурс: Л. Ольшки о диалогах XV векаКак это ни странно, в необозримо огромной литературе о гуманистах Кватроченто, и в частности об их диалогических сочинениях, самому диалогу как жанру, как некой эстетико-интеллектуальной реальности посвящено, если я не ошибаюсь, разве что несколько беглых и частных замечаний. Проблема в целом никогда, по существу, не ставилась[190]190
Наиболее важны, пожалуй, соображения Э. Гарена в его статьях о «диалектике» XII в. (Garin E. L'età nuova, p. 67), мы обратимся к ним ниже. Но специально о диалогической форме у гуманистов мне известна только статья Н. Гилберта: Gilbert N. The Early Italian Humanists and Disputation // Renaissance: Studies in Honor of Hans Baron. Firenze, 1971, p. 201–226. Н. Гилберт сосредоточивает внимание как раз на диалоге Бруни «К Петру Гистрию», который послужит отправным пунктом и для нас. Однако автор, разбирая не структуру диалогов, а лишь интересные отзывы гуманистов об их пользе, сводит дело к тому, что ранние гуманисты (Петрарка, Боккаччо, Салютати), несмотря на демонстративное отвращение к схоластической логике в целом, относились с уважением к «диалектическим» прениям и охотно включали disputatio в арсенал своей педагогики (ср. у Верджерио: Il pensiero pedagogico dell'umanesimo. Firenze, 1958, p. 132).
[Закрыть]. Отмечу здесь лишь суждения Л. Ольшки. В них дает о себе знать его обычная проницательность, впрочем, в сочетании с не менее характерной для него позитивистской снисходительностью к гуманистам. Элоквенция и античная эрудиция, которыми эти люди жили и гордились, кажутся Ольшки историческим балластом, мешавшим подготовке к более строгому и дисциплинированному стилю мышления. Гуманизм, собственно, интересен для Ольшки только как экзотическая предыстория науки. Приведу выписки, в которых некоторые черты гуманистической диалогистики были все же походя подмечены этим исследователем полвека назад, хотя Ольшки и не сумел понять значение собственных наблюдений[191]191
Ольшки Л. История научной литературы на новых языках, т. 2, с. 194–98.
[Закрыть].
Он писал, что в диалоге «действительный предмет беседы и обсуждения… вставлен в рамку взаимных комплиментов, которыми обмениваются собеседники, морально-философских рассуждений, сентенций и ученых ссылок; посторонние и риторические вопросы и ответы, фиктивные сомнения и не идущие к делу отступления вытесняют его из поля зрения. Так возникают торжественные обращения, банальные выражения ложной скромности, весь этот театральный реквизит…»
Но, может быть, «действительный предмет беседы» гуманистов состоит как раз в «театральном реквизите»? И больше всего идут к делу «не идущие к делу отступления»?..
Ольшки не задавался этим вопросом, который кажется напрашивающимся современному историку, но считал нужным указать наряду с недостатками «модной» ренессансной формы и на ее преимущества: «… это растворение проблем и рассуждений в беседах нескольких лиц ведет к свободе и непринужденности в сцеплении вопросов и ответов» (курсив мой. – Л. Б.). Напомнив о схоластических диспутах (quaestionea), построенных на вопросах и ответах (objectio et responsio), Ольшки продолжал: «Когда зарождающийся гуманизм пробудил к новой жизни античное искусство спора и изложения, он мог опереться на сложную живую традицию, обеспечившую ему успех». И далее: «Эклектизм ученых эпохи Возрождения нашел в диалоге превосходную форму для своего раскрытия. Тем, что в диалоге встречались разные оттенки умонастроений, давалась возможность углублять и распространять их в разные стороны. Диалог был самой эластичной из прозаических форм, вмещал благодаря своему свободному построению любую массу учености…» (курсив мой. – Л. Б.).
И опять-таки: не в этой ли «свободной» и «углубленной» встрече в диалоге «разных оттенков» и «сторон» умонастроения следует искать конструктивный смысл излюбленного гуманистами жанра? Но тогда «взаимные комплименты», «торжественные обращения», «фиктивные сомнения» и «ложная скромность» – не условие ли взаимного уважения и прислушивания различных духовных позиций, не демонстрация ли их готовности к встрече? Тогда, может быть, обилие «сентенций и ученых ссылок», т. е. культурного материала, составляющего общий язык собеседников, вместе со всей риторической топикой, вводящей сталкивающиеся мнения в пределы некой духовной всеобщности и единства, суть не внешние прикрасы диалога, а его внутренняя необходимость? И не тут ли разгадка пресловутого «эклектизма» ренессансной мысли?
Л. Ольшки дотронулся до проблемы, не заметив этого.
Вот его приговор: «Оттого что вместе с литературной формой были переняты пиры, сады при виллах и академические беседы, диалог не получил еще действительного оправдания. Нельзя было заменить жизнь театральным представлением».
Ольшки видел, что гуманисты «переняли» некий способ жизни в культуре – литературную форму именно «вместе» с формами общения. По его мнению, однако, все было книжным и искусственным (что само по себе тоже справедливо, если не вкладывать в эти слова оценочного смысла и не считать «искусственное» непременно далеким от «жизни»). Ольшки небрежно отнесся к пирам, садам и беседам, потому что они показались ему «театральным представлением», игрой. Он и тут угадал все, кроме громадной серьезности и важности этой игры для истории мировой культуры. Чем наблюдательней и остроумней Ольшки отказывал гуманизму в «оправдании», тем резче приведенные ради их позитивистской показательности выдержки обозначают порог, за которым лишь начинаются задачи нашей собственной интерпретации.
«Разные склады ума»Однажды в присутствии Козимо Медичи мессер Джованни Аргиропуло поспорил с Отто Никколини. Никколини утверждал, что право входит в состав моральной философии; Аргиропуло настаивал, что право не часть философии, а подчинено ей. «Козимо знал, что законы права подчинены моральной философии, но ему хотелось посмотреть, как будет защищаться мессер Отто, ибо это дело трудное; нужно исходить из разумных оснований (per ragione), а это трудно; спор между ними так и остался незавершенным, потому что было трудно доказывать. Козимо получил от диспута величайшее удовольствие, наблюдая разные склады ума»[192]192
Bisticci V. da. Op. cit., p. 266.
[Закрыть].
Старому Веспасиано да Бистиччи, который всю жизнь почтительно и восхищенно внимал разговорам своих просвещенных друзей-клиентов, природа этого «величайшего удовольствия» кажется самоочевидной: «per vedere la varieta degl'ingegni». Козимо заранее знает ответ, и не ответ, не конечный предметный результат его интересует, а путь к нему. Предметом интереса в споре оказывается сам процесс спора, его «трудность» – недаром Бистиччи трижды, без стилистических затей, повторяет это слово. Было бы в высшей степени неправильно свести увлечение спором к каким-то логическим ухищрениям и словесным арабескам. Конечно, Козимо – и, вне сомнения, участники диспута – наслаждался своего рода интеллектуальным турниром, но это никак не означало равнодушие к сути проблемы. Ведь способ доказательства истины входит в саму истину. Важно и поучительно не просто знать правильный ответ, а знать его per ragione. Вечно разумные основания всякой истины выявляются и реализуются, по ренессансному представлению, не вне человека: они совпадают с его индивидуальной одаренностью (ingegno). «Разнообразие» человеческих талантов и складов ума – понятие, часто встречающееся в ренессансных текстах, и неизменно с энтузиастическим оттенком. Смысл его состоит в том, что божественная полнота человеческой природы разворачивается и открывается в неисчерпаемом многообразии вариантов, т. е. дар всего человечества осуществляется через varieta, и, следовательно, только «наблюдая разные склады ума», можно познать всю истину и всего человека.
Вот три высказывания трех разных авторов. «Почти всегда к вершине всякого совершенства можно прийти различными путями. Нет такой природы, которая не заключала бы в себе множества однородных, но не сходных вещей, при этом равно достойных похвалы». «Если человеческое равно сообщается отдельным лицам, местам и временам, то, следовательно, оно не исчерпывается никаким лицом, никаким местом и даже никаким временем». «Я положил себе за правило, не клянясь ничьими словами, основываться на всех учителях философии, рассмотреть все сочинения и узнать все школы… в каждой школе есть нечто примечательное, что отличает ее от остальных… и, конечно, узок ум, который последовал бы за чем-то одним, будь то [перипатетический] Портик или платоновская Академия»[193]193
Castiglione B. Op. cit., lib. I, cap. 37, p. 147; Ficino M. Theologia Platonica, lib. VIII, cap. 1, p. 287; Pico della Mirandola G. De hominis dignitate, p. 138–140.
[Закрыть].
Суждения Кастильоне, Фичино, Пико делла Мирандолы подводят к существу диалога. Гуманистический диалог – столкновение разных умов, разных истин, несходных культурных позиций, составляющих единый ум, единую истину и общую культуру.
…За обедом у Салютати шел разговор «о согласии религии со всей метафизической и натуральной философией». Этот тезис обосновывал астролог и математик Биаджо из Пармы, «чем он доставил такое удовольствие маэстро Луиджи (Марсильи. – Л. Б.), который ему противоречил, что, по его собственному признанию, он такого еще никогда не испытывал»[194]194
Веселовский А.Н. Указ. соч., с. 193.
[Закрыть]. Конечно, это – игра, у которой есть свой ритуал и распорядок («II nostro gioco abbia la forma ordinata», – пишет Кастильоне): председательствующий; тот, кто взялся развить некую тему; тот, кому поручены вопросы и возражения («I'autorita dataci del contradire», «ufficio di domandare»); полные внимания и изнемогающие от удовольствия слушатели[195]195
Castiglione В. Op. cit., lib. I, cap. 15, p. 106.
[Закрыть]. Это игра, но она признается самым серьезным и достойным человека занятием, какое только возможно, и ее содержание – обсуждение самых существенных философских и жизненных вопросов. Это ludum serium, игра в культуру, игра-культура, совпадающая с наиболее глубоким духовным общением и постижением, а не просто гимнастика ума, не краснобайство.
Козимо приходит в восторг от спора, который ни к чему не привел. Марсильи испытывает не меньшее удовлетворение от доводов, с которыми не согласен. Объяснение, кажется, состоит в том, что Биаджо развивает взгляд, которого Марсильи не разделяет, но который ему, Марсильи, не вполне чужд, каким-то образом включен в его миропонимание, тоже нужен и дорог. Однако возможно ли это?
Самоопровержение Никколи в сочинении Леонардо Бруни «К Петру Гистрию»В диалоге «К Петру Гистрию» выведенный в нем в качестве первого оратора Никколо Никколи оплакивает исчезновение красноречия и способности спорить, упадок свободных искусств и философии, созданной некогда в Греции и благодаря Цицерону ставшей достоянием Италии. Никколи кратко излагает учения стоиков, платоников, перипатетиков, эпикурейцев. От всего этого богатства наши предки сберегли немногое: они сохранили посредственные сочинения Халцидия или Кассиодора и дали погибнуть «книгам Цицерона, красивее и слаще коих не создавала латинская муза». Никколи высмеивает нынешних учителей философии, которые не знают того, чему учат. Он развертывает скорбный перечень утраченных текстов и авторов, известных ныне лишь по именам.
Затем ему возражает Роберто Росси. В наше время свободные искусства, конечно, понесли некоторый ущерб («optimae artes labem aliquam passae»), но не настолько, чтоб вовсе исчезла ученость. Цицерон дошел до нас, хоть и не полностью. Нет Варрона, зато есть Сенека. Не будем пренебрегать тем, что есть.
Председательствует Салютати, о котором Никколи, между прочим, роняет фразу, что он «мудростью и красноречием превосходит или, уж конечно, равен тем древним, которыми мы привыкли восхищаться». Салютати, следовательно, в качестве арбитра одним своим присутствием уже ставит под сомнение тезу Никколи. Салютати проницательно замечает, что Никколи слишком красноречиво доказывал исчезновение красноречия и слишком умело спорил, утверждая невозможность спорить (в конце Кватроченто Эрмолао Барбаро выдвинет этот же аргумент против Пико делла Мирандолы, принижавшего элоквенцию по всем правилам элоквенции). В самом деле. Рассуждение Никколи двойственно и двусмысленно. Об упадке latinitas говорится в высоком античном риторическом стиле. Тон рассуждения выдает причастность оратора изнутри к той культурной традиции, которую он объявляет исчезнувшей. Салютати нетрудно выявить в речи Никколи тайное самовозражение.
Но этого мало. Никколи и Росси исподволь меняются местами. Росси, возражая, на деле становится на позицию Никколи – умеренностью возражений, готовностью удовлетвориться крохами с пиршественного стола древних. Росси говорит как человек начала XV в., наслаждающийся хоть некоторой близостью к античности, а Никколи – как античный римлянин, недовольный XV в., в который его забросила судьба. Максимализм Никколи, не желающего смириться с упадком словесности, в большей мере свидетельствует о сохранении высокого уровня культуры, хоть он это и отрицает, чем здравый смысл Росси, довольный тем, что есть, и считающий естественным «некоторый ущерб».
Никколи произносит еще одну большую речь, на сей раз яростно обрушиваясь на Данте, Петрарку и Боккаччо, на «три флорентийских светильника», в которых нет былой учености и яркости латинского духа. Отвечать должен Салютати. Он улыбается и обещает высказаться завтра.
На следующее утро происходит неожиданное. Салютати заявляет, что Никколи произнес свою инвективу против Данте и всей новейшей поэзии лишь для того, чтобы поддразнить его, Салютати, и вызвать на возражения. Я, признается Салютати, накануне и впрямь принял все всерьез и был задет. Ты думал, что я, взволнованный твоими доводами («argutiis tuis commotum»), начну хвалы в честь «трех светильников»? Ну так, он, Салютати, хоть и готов к спору, делать этого не станет.
Никколи со смехом соглашается: да, вчера он произнес «поддельную речь» (fictum sermonem), он нападал на «триумвиров» лишь для того, чтобы Салютати их превознес («non alia de cause heri impugnasse, nisi ut Colucium ad illorum laudes excitarem»). Если Салютати его разгадал и отказывается оппонировать, что ж, он сам опровергнет свои вчерашние «притворные» (simulate) речи. И Никколи действительно выступает в заключение диалога с новой блестящей речью, прямо противоположного содержания…[196]196
Bruni L. Ad Petrum Histrum, p. 82–84 etc.
[Закрыть]
Итак, структура бруниевского диалога основана на интеллектуальной провокации. Мы убеждаемся, что это высокая игра возможностями мысли, ее переливами, ее процессуальностью. Причем истинным оппонентом Никколи оказались не Росси и не Салютати, а он сам. Несомненно, автор разделяет пафос последней речи Никколи. Но… все не так просто.
Почему мы, собственно, должны верить на слово Никколи (и автору), что нас дурачили в первой половине диалога и что лишь теперь Никколи говорит искренне? Предыдущая позиция Никколи была развернута со всей обстоятельностью, с большим искусством, с огромным эмоциональным напором. «Поддельные речи» ничуть не уступают в убедительности и серьезности настоящей. Язвительные нападки на схоластику, горестные сожаления о погибших вместе с Римской империей сочинениях, пылкие объяснения в любви Цицерону и античности – разве это не подлинный голос Никколи, не голос самого Леонардо Бруни?
Разве Никколи не высказывает в «притворных речах» характерно гуманистическое отношение к «мнениям толпы» (vulgi opinionibus) и не повторяет в заключительной речи это же противопоставление «людей, которые не распробовали сладости поэзии и в глаза не видали словесности», и тех, кто, подобно ему, Никколи, «всегда жил среди книг и словесности»? Разве оратор, который упрекает Данте в недостатке латинской образованности и вкуса («latinitas defuit»), не исходит затем в похвалах Данте из того же критерия?[197]197
Ibid., p. 68–80, 82–84, 90 etc.
[Закрыть] Во всем диалоге нет ни одной идеи, которой не мог бы разделять Бруни, пусть он ее и не разделял, которая не высказывалась бы в его среде и принципиально не укладывалась бы в гуманизм[198]198
M.A. Гуковский сомневался в том, что в диалоге Бруни дано «окончательное решение» о «триумвирах», полагая, впрочем, что важнее всего критическое отношение к ним в первых («simulate») речах Никколи. Автор констатировал отсутствие «прямого ответа на вопрос» и в диалоге Бруни «О знатности», и в диалогах Поджо Браччолини. См: Гуковский М.А. Итальянское Возрождение. Л., 1961, т. II, с. 154, 162–163, 165.
[Закрыть].
Я думаю, правильней сказать, что все речи, все позиции, выраженные в диалоге, взаимно провоцируют и дополняют друг друга. Поэтому в гуманистическом диалоге мысль не развивается, а лишь выступает поочередно в противоположных обликах, как актер, меняющий маски. В глубине спора лежит убежденность в единстве истины, дарующем ей открытость, дающем возможность подходить к ней с разных сторон и согласовывать разные позиции, даже совмещать их в одной голове. Совмещение достигается не логикой, а общением, не умом, а остроумием, не строгостью, а весельем духа, играющего в убедительном слове («facultas dicendi», «vis dicendi»).
В первой части трактата Никколи произносит: «Я, клянусь Гераклом, отдал бы все ваши книжонки (т. е. Данте, Петрарку и Боккаччо. – Л. Б.) за одно лишь письмо Цицерона, за одну лишь песню Вергилия». В заключительном монологе он, напротив, говорит, что «отдал бы за речь Петрарки все письма Вергилия и за стих Петрарки – все песни Цицерона»[199]199
Bruni L. Ad Petrum Histrum, p. 74, 79.
[Закрыть]. Милейший Никколи, кажется, опять лукавит? Ведь речи Петрарки уместно сопоставлять вовсе не с Вергилием, который славен не письмами, а с Цицероном; зато его стихи нужно бы сравнивать не с Цицероном, а с Вергилием. Словно невзначай все перепутав, Никколи ясно обнаруживает желание шутя и играя уйти от прямого сопоставления. Он не сталкивает Петрарку с Цицероном и Вергилием, беря их в разных отношениях. Он опровергает свое предыдущее мнение не в большей мере, чем то мнение опровергает это. Ни одна из речей не содержит в себе всей истины и ни в одной из позиций мы не можем считать исчерпанной позицию автора.
В самом деле, оставим в покое Никколи и его собеседников. За ними в конце концов стоит автор, который вложил талант и силу убеждения в оба мнения Никколи. Об упадке словесности сокрушались и Петрарка, и Салютати, считающие свой «век» (aetas) ниже античности, но именно поэтому гордившиеся, что сумели возродить ученость и красноречие и возвыситься до уровня древних. Сходно и мироощущение Бруни, еще разделяющего ностальгию своих старших современников, но разгорающегося все большим энтузиазмом. В первой и особенно во второй речах дан фрагмент мысли Бруни, притом в крайней и обособленной форме, и требует поэтому опровержения. Однако есть единая истина: в ней и упадок, и возрождение латинского духа; в ней соревнование античного и нынешнего «веков», подвергаемое непрерывной критической оценке; отсюда ревностно-придирчивое отношение к «трем светильникам» и гордость ими.
Формально в диалоге «К Петру Гистрию» нет синтеза. В какой-то мере им могла бы служить небольшая промежуточная речь Росси, благоразумие которой отчасти включает в себя и похвалу нынешнему веку, и признание, что он уступает античности. Росси придает обеим констатациям умеренность, легко их примиряющую, а значит, его речь вяло противоречит не только первому, но и последнему выступлению Никколи и больше похожа на синтез, чем то, что в диалоге занимает место синтеза. Однако если Росси противоречит обоим Никколи, то и второй Никколи возражает, следовательно, не только себе, но и Росси. Ставя собственную тезу вниз головой, Никколи произносит речь, больше похожую на антитезу, чем то, что занимает место антитезы.
И все-таки формальное отсутствие синтеза в диалоге не лишает его синтетичности, как и формальное наличие синтеза в других ренессансных диалогах не исчерпывает их синтетичности заключительной речью. Синтез у Бруни в том, что разные и противоположные оценки современного состояния «словесности» исходят из одних критериев, из одной культурной почвы, изнутри одного и того же культурного сознания, которое чувствует себя одновременно античным и неантичным, которое вмещает античность и современность как два своих определения, конфликтные и совпадающие. Не Никколи, а сам Бруни спорит с собой. Чтобы прийти к апологии «трех светильников» и своего «века», который вскоре гуманисты назовут «золотым», ему необходим этот спор, необходим двойник, с дружеским смехом провоцирующий его мысль. Тем самым он включает отвергаемое – fictum sermonem – в себя как часть какой-то более полной истины. Позиция Бруни в целом может быть понята и описана только как диалогическая встреча и сопряженность разных позиций.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































