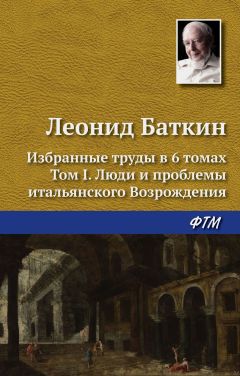
Автор книги: Леонид Баткин
Жанр: Культурология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: 18+
сообщить о неприемлемом содержимом
Лоренцо Валла, перечисляя пять важнейших условий, потребных для ученых занятий, жаловался, что он был лишен их всех. Первые два условия состоят в «общении с образованными людьми» («litteratorum consuetude» – в весьма вольном современном переводе это можно было бы назвать «научной средой»), а также в «изобилии книг». Далее следуют «удобное место» и «свободное время» (temporis otium). И наконец, «душевный покой» – «animi vacuitas», особая «пустота, незаполненность, высвобожденность души», делающая ее готовой к наполнению ученостью и мудростью.
«Если отсутствует хотя бы одно из этих условий, это приносит множество неудобств; что же следует подумать, если отсутствуют они все? Однако я непрестанно сопротивлялся и в конце концов, насколько возможно, противостоял обстоятельствам; плавая и бродя по свету, борясь – я все же часто обращался к занятиям… Пусть и не было должных условий; этот урон, я полагаю, возмещался сведениями о многих вещах, которые мне довелось увидеть или испытать»[64]64
Valla L. Elegantiarum, p. 622–624.
[Закрыть].
Далее следует цитата из «Одиссеи» о странствиях, обогативших ум Улисса.
Сквозь насыщенную классическими реминисценциями и готовыми формулами, но непринужденную и гибкую латынь проступают совершенно четкие контуры того, что было реально потребно для духовных усилий и формирования ренессансного интеллигента. Ну конечно, otium, спокойное место, богатая библиотека и отрешенная от суеты сосредоточенность, расположенность к медитации. Однако перечень начинается с потребности в общении с себе подобными. Завершается же он тем антиусловием, которое, противореча всем предыдущим, оказывается, в сущности, не менее необходимым, чем они. Это – погруженность гуманиста в большой мир за окном его кабинета. В этом мире судьба гуманиста не закреплена. Условия умственной работы и превратности биографии выступают в видимом противоречии. Но бодрая жалоба Валлы подтверждает, что противоречие было благодетельным для культуры, умевшей совместить книжность и жизненность. Переход от внутригрупповой общности – litteratorum consuetudo – к социальному макрокосму (и обратно) бывал небезоблачен, но органичен и естествен для нескольких поколений гуманистов, от Петрарки до Фичино и Кастильоне, не только для граждански и республикански настроенных ранних кватрочентистов, но и для утонченно-созерцательных неоплатоников.
Социальный престиж гуманистической образованностиГуманист Никколо Никколи, встретив однажды Пьеро деи Пацци, сына благородного мессера Андреа деи Пацци, сказал ему: «Постыдно, что ты, будучи сыном своего отца и пригожим с виду, не занимаешься изучением латинской словесности, которая была бы тебе великим украшением; если ты ее не изучишь, тебя совсем не будут уважать; когда пройдет цвет твоей молодости, ты окажешься лишенным всякой доблести». Пьеро деи Пацци тут же решил последовать доброму совету и пригласил к себе домашним учителем – за сто флоринов в год – блестящего Понтано. Ему удалось преуспеть в занятиях. И «посредством словесности он завел дружбу с первыми гражданами города»[65]65
Bisticci V. da. Op. cit., p. 372–373. См. также: Morelli G. Ricordi / A cura di V. Branca. Firenze, 1956, p. 271–272.
[Закрыть].
Этот высочайший социальный престиж гуманистических познаний и талантов, этот культ культуры – характерная черта Возрождения. Данте терпел унижения, Петрарку уже короновали, и флорентийские приоры обратились к нему через Боккаччо с письмом, где говорилось об «отеческой нежности» к нему соотечественников и о том, что ему будет немедленно возвращено имущество, конфискованное некогда у его отца, лишь бы Петрарка соблаговолил вернуться на родину, избрав любую книгу для публичного комментирования: «Твоя родина заклинает тебя всем самым святым, всеми правами, которые она на тебя имеет, чтобы ты посвятил ей свое время…». Ибо приоры решили возвысить Флоренцию, поощряя расцвет словесности и искусства, «убежденные, что тем самым отдадут ей, подобно Риму, нашей матери, своего рода власть над остальной Италией»[66]66
Marsel R. Marsile Ficin, p. 90–91.
[Закрыть].
Вскоре Салютати и другие канцлеры возведут хороший латинский стиль на уровень политики, и в первые десятилетия XV в. восторг перед studia humanitatis станет привычной чертой общественного быта, ранее всего, конечно, во Флоренции и при многих дворах от Неаполя до Римини, Урбино и Милана.
Многие приезжали во Флоренцию, утверждает Бистиччи, только для того, чтобы повидать Леонардо Бруни и заказать переписку его рукописей. Посланец Альфонса Арагонского, некий испанский дворянин, явился к Бруни с предложением на любых условиях переехать к королевскому двору. Прибыв к знаменитому гуманисту, этот дворянин «бросился на колени, и было трудно заставить его подняться»[67]67
Bisticci V. da. Op. cit., p. 436. Ср. с рассказом биографа Леона Баттисты Альберти о конфликте этого младшего современника Бруни с родней, издевавшейся над его занятиями и сочинениями («несмотря на то, что ими интересовались даже за границей») (см.: Альберти Л.Б. Десять книг о зодчестве. М., 1935, т. I, с. XXII–XXIII). В это время подобное отношение носило во Флоренции уже архаический характер.
[Закрыть].
На ренессансной почве рождались независимый авторитет светской культуры, та сила писателя и ученого в глазах общественного мнения, которая впоследствии побудит Екатерину и Фридриха переписываться с Вольтером, Наполеона искать свидания с Лапласом и Гёте.
Уже в раннем Кватроченто Филельфо, а в XVI в. Аретино сумели превратить эту только что возникшую и невесомую вещь в товар, шантажируя и торгуя в розницу панегириками и эпиграммами. Замечательно, что их действительно побаивались и ублажали. Аретино, укрывшись в Венеции, «с помощью бумаги и бутылки чернил» заставил всю читающую Италию смотреть себе в рот и повторять строку из «Неистового Орландо»: «Вот бич князей, божественный Пьетро Аретино». Услуги его были столь дороги, что, например, Козимо I Медичи вынужден был очень вежливо и осторожно отклонить их, ссылаясь на то, что тосканская казна слишком опустошена, чтобы взять Аретино на содержание. Не совсем твердые представления о порядочности Аретино возместил артистизмом, это Петрарка, отбросивший терзания и забывший об Августине. Спустя четыре века фигура Аретино очаровывает, но не внушает уважения. Однако современники его уважали. Ибо гуманисты настолько приучили их ценить интеллектуальный и художественный блеск, что соединение культуры с нравственной высотой уже не воспринималось идущим к закату Возрождением как обязательное внутреннее условие.
Не менее, чем о преклонении испанца перед Бруни, красноречив другой рассказ старого переписчика о шумном успехе во Флоренции лекций Филельфо по греческой словесности и философии (в Studio), a также его чтений о Данте в церкви Санта-Либерата по праздничным дням, «чтобы удовлетворить аппетит к словесности». Но еще лучше о своем неслыханном триумфе поведал в одном из писем сам гуманист. «Флоренция меня радует многим. Ведь это город, в котором нет недостатка ни в чем: ни в великолепии и привлекательности домов, ни в достоинстве и блеске граждан. Прибавь к этому то, что весь город расположен ко мне. Все меня уважают и почитают. Все возносят до небес высочайшие похвалы. Мое имя на устах у всех. Когда я иду по городу, не только первые граждане, но и благороднейшие женщины в знак уважения уступают мне дорогу и так превозносят, что мне неловко за такой культ. Слушателей ежедневно бывает человек по сорок и даже больше»[68]68
Цит. по кн.: Schalk F. Das Publicum in italienischen Humanismus. Krefeld, 1955, s. 19–20.
[Закрыть].
Несколько ранее не менее громким успехом пользовался монах-гуманист Луиджи Марсильи. «Его келья бывала полна достойнейшими молодыми людьми, которые подражали его жизни и нравам». «Его посещали лучшие и достойнейшие мужи этого города, которые стекались к нему как к некоему божественному оракулу»[69]69
Цит. по кн.: Marsel R. Marsile Ficin, p. 103.
[Закрыть].
Нет смысла далее множить подобные факты, они хорошо известны. Гуманисты стали наставниками нескольких поколений образованных людей Италии. Купец Морелли, переписчик Бистиччи, граф Кастильоне, чьи сочинения были созданы на протяжении столетия, люди совершенно разного круга и ни в чем не сходных биографий, одинаково убеждены, что «словесность» необходима всем. Новый статус и новое содержание культуры, скрывавшиеся за понятием «lettere», превратились в мощный идеологический импульс, проникавший в любую грамотную среду, менявшийся, разумеется, с различными оттенками в зависимости от каждой социальной ситуации, но все же и сам накладывавший объединяющий колорит. Гуманисты создали публику по своему образу и подобию. Кастильоне пояснял, что совершенный придворный не обязательно должен быть хорошим писателем, но, упражняясь в словесности сам, он учится понимать литературу. Lettere не вредят воинскому делу дворянина, ибо подвиги свершаются прежде всего ради славы, а славу и ее бессмертие, которое в большей мере жизнь, чем сама бренная жизнь, дают именно lettere, вдохновляющие на уподобление героям античности.
С презрением Кастильоне отзывался о французских дворянах, которые «знают только благородство ратное, а все остальное вовсе не почитают, поэтому не только не ценят словесности, но даже гнушаются ею и всех ученых почитают людьми подлого звания, так что им кажется большим оскорблением, если кого-либо называют „клириком“». Кастильоне предсказывает расцвет словесности и во Франции, возлагая надежды на герцога Ангулемского, будущего Франциска I. Но пока для Кастильоне Франция – варварская страна. Не только потому, что в ней по-прежнему царит сословно-рыцарский идеал доблести, но и потому, что светская культура нового типа там пока неизвестна. Несмотря на свой «благородный университет», т. е. Сорбонну, французы «чужды» гуманизма; понятия «образованный человек» и «клирик» еще являются для них синонимами.
Между тем для Кастильоне гуманистические социально-этические представления – главный критерий оценки придворного, который должен быть прежде всего человеком добродетельным, образованным, тонким и универсально развитым, совершенным человеком вообще, а уже потом и благодаря этому совершенным придворным. Таковы последствия полуторасталетнего воздействия гуманистов на общественную психологию. Даже сквозь куртуазно-изысканные вариации легко просвечивает общий ренессансный субстрат, который обеспечил гуманистам широкую общественную поддержку.
«Помимо добродетели, истинное и главное украшение души каждого человека составляет, я думаю, словесность»[70]70
Castiglione B. Op. cit., lib. I, cap. 42, p. 157.
[Закрыть].
Какие, так сказать, «профессиональные» достоинства гуманиста особенно ценились окружающими и более всего способствовали его успеху и известности?
Веспасиано Бистиччи счел нужным вставить в жизнеописания гуманистов рассказ о некоем Лауро Квирино, который запомнился ему только тем, что, «будучи молодым и горячим в занятиях», сочинил «инвективу против того места [выполненного Леонардо Бруни перевода на латинский с языка оригинала „Никомаховой этики“ Аристотеля], где сказано summum bonum (высшее благо. – Л. Б.), утверждая, что это [переведено] нехорошо и что надобно сказать bonum per se (самодостаточное благо. – Л. Б.)». Бруни ответил колкой эпистолой, сообщив ее некоему кардиналу, у которого в то время он гостил. Лауро Квирино был, поясняет Бистиччи, знающим, но не красноречивым человеком и не обладал, как мессер Леонардо, «силой слога» (la forza nello scrivere). Разумеется, он проиграл в этом столкновении. Ответ Бруни вызвал сочувственный смех кардинала: «Этакий мальчишка осмелился писать против мессера Леонардо, человека великого авторитета и репутации»[71]71
Bisticci V. da. Op. cit., p. 510.
[Закрыть].
Случай любопытен особенно тем, что два гуманиста поссорились буквально из-за одного слова, а Квирино даже благодаря этой ничтожной филологической контроверзе вошел в историю. Спор о слове, впрочем, не мог быть ничтожным в глазах самих гуманистов; у меня еще будет повод рассказать, как Полициано разорвал дружеские отношения с Бартоломео делла Скалой из-за вопроса о том, в мужском или женском роде следует писать существительное «culex»… Филология была основным инструментом и фундаментом гуманизма. Безупречное знание «обоих языков», и особенно искусное владение классической латынью, составляло условие репутации гуманистов; иные из них, менее одаренные и оригинальные, только на этом свою репутацию и строили. При этих обстоятельствах выступление Квирино было для него прекрасным способом обратить на себя внимание, бросив маститому ученому вызов, который не мог быть оставлен без ответа. «Сила слога» не только служила аргументом ad hominem, но и была высоко почитавшимся доказательством правоты Бруни по существу; ведь дело заключалось не в одном толковании аристотелевского термина, но и в демонстрации поставленного оппонентом под сомнение свободного владения античной языковой стихией и эрудицией.
С. С. Аверинцев отмечает сходную ситуацию в позднеантичной риторской и писательской среде в связи с фигурой Лукиана из Самосаты. «Такие люди, как Лукиан, были обязаны своему литераторству решительно всем: и духовными и материальными основами своего существования, своим человеческим лицом и общественным статусом. Понятно поэтому, что, когда Лукиану приходилось сталкиваться с неблагоприятными отзывами касательно чистоты своего стиля, писатель приходил в такое неистовство, в какое его едва ли привела бы самая страшная клевета относительно чистоты его нравов… он привлекает неимоверный аппарат учености, чтобы реабилитировать свое словоупотребление, больнее задеть его просто невозможно. По-видимому, созревание „литераторского“ социального самочувствия всегда сопровождается подобными эксцессами: достаточно вспомнить нравы итальянских гуманистов XV столетия…»
Исследование С. С. Аверинцева показывает, что гуманисты генетически зависели, конечно, от греческого «творческого принципа», и в этом смысле всюду, где я перевожу «litterae» как «словесность», нужно было бы сказать «литература». Вместе с тем, не решаясь что-либо уверенно утверждать относительно античности, я склонен все же думать, что интеллигенции, хотя бы в ренессансном виде, античность не знала. С. С. Аверинцев справедливо подчеркивает, что «задачу синтеза „Афин“ и „Иерусалима“, поставленную в эллинистическую эпоху, решать должна была европейская культура, и притом всем своим существованием». Ее решали и гуманисты вслед за патриотической и средневековой традицией и вопреки ей. Поэтому их «litterae» не были только «литературой», сами же они (особенно неоплатоники, но и ранние гуманисты) – не были профессиональными литераторами. Они совместили на свой лад (а иначе и не могло произойти после почти полутора тысячелетий непрерывного синтеза) «Афины» с «Иерусалимом». Их «litterae» – это также и «словесность». Антитеза жизни и бытия, существования и сущности, сакрального и художественного, мудреца и литератора, «мышления-в-мире» и «мышления-о-мире», антитеза, столь пластично изображенная С. С. Аверинцевым на эллинский лад в виде «характеров» и «масок» двух культур, была гуманистами снята. Собственно, именно десакрализация «словесности», внесение ее духа в светскую сферу «литературы», культуры; вместе с тем принципиальная открытость «литературы» в космос и социум, неслыханное смешение двух противоположных подходов к слову; внутреннее отождествление жизни и культуры, но благодаря их дистанцированию; понимание их как процесса окультуривания жизни и экзистенциального наполнения культуры, реализации сущности в существовании – именно это дало «гуманизм итальянского типа, в предельном напряжении сил создавший доселе небывалые нормы культуры»[72]72
Аверинцев С.С. Греческая «литература» и ближневосточная «словесность» (противостояние и встреча двух творческих принципов) // Типология и взаимосвязи литератур древнего мира. М., 1971, с. 263 (примеч. 11), 251 (примеч. 3).
[Закрыть].
Итак, прежде всего, конечно, требовались превосходное знание языка, а заодно и четкий почерк. Папа Иннокентий, чтобы выбрать одного из двух претендентов на должность своего секретаря, «велел написать обоим одно и то же письмо»; «письмо, выполненное мессером Леонардо, было лучше, и поэтому место секретаря получил он»[73]73
Bisticci V. da. Op. cit., p. 427–428.
[Закрыть].
Во-вторых, требовалась неимоверная память. «Моя беседа с ним тянулась долгими часами, и, однако, я всегда уходил от него неохотно. Ибо дух мой не мог вполне насытиться общением с этим мужем. Какова в нем, о бессмертные боги, сила речи! Какое богатство! Какая память о стольких вещах! Ибо он удерживал в голове не только то, что относится к религии, но и то, что мы называем языческим. Всегда Цицерон, Вергилий, Сенека и другие древние были у него на устах: и не только их мнения и сентенции, но даже сами слова он часто произносил так, что они казались принадлежащими ему самому, а не заимствованными»[74]74
Bruni L. Ad Petrum Histrum // Prosatori latini… p. 50.
[Закрыть].
Этот отзыв Бруни о Луиджи Марсильи, вложенный им в уста Салютати, как нельзя лучше показывает, что, хотя память в известном смысле совпадала с культурой именно в средние века (как и во всяком обществе, ориентированном на авторитет традиционного прошлого, заветной мудрости, священного писания, на готовые образцы и формулы) и хотя ренессансное мышление, поскольку оно утверждало себя на античных текстах и примерах и видело идеал позади себя, сохраняло тем самым отчасти средневековые свойства, все же в характере и функциях культурной памяти происходило существенное изменение. Оно состояло прежде всего, разумеется, в секуляризации памяти, устремленной к «языческой» мудрости и красноречию. Но, следовательно, память приобщала не к надвременной истине, а к истине, развернутой в истории. В отзыве Бруни видно, что наибольшее восхищение вызывало такое знание древних, при котором исчезает ощущение цитирования. Память не приковывает к тексту, а освобождает. Если собственные мысли нуждаются в опоре на чужие, зато чужое становится своим, заимствование сливается с творчеством; помнить – здесь означает не только знать, но и уметь жить в античности, отождествлять себя с нею и свободно распоряжаться античной культурой. Больше всего тогда ценили именно способность претворять классическую эрудицию в непосредственное действие и жизненные формы. В этом смысле Ренессанс предстает как проникнутая возвышенной серьезностью игра в античность.
Неудивительно, что ничто, пожалуй, не могло принести раннему гуманисту такого внешнего успеха, как искусство устной латинской речи. Если верить Бистиччи, сын врача Томмазо Парентучелли стал папой под именем Николая V потому, что искусней других кардиналов произнес поминальное слово на похоронах своего предшественника Евгения IV. Античное обыкновение сочинять речи – погребальные, свадебные и иные – было восстановлено. Торжественная публичная речь вошла в дипломатический обиход. Даже папа теперь давал аудиенции не «in segreto», a «in publico». Бистиччи восторженно уверяет, будто выступление Джанноццо Манетти (в качестве флорентийского посла) на коронации Николая V слушали 150 тыс. человек. «Во всей римской курии только и говорили, что об этой речи», и венецианская делегация срочно снеслась с родным городом, дабы в ее состав был включен человек, способный не уступить Манетти в латинском красноречии. Когда тот же знаменитый Манетти прибыл послом в Венецию, он говорил, обращаясь к дожу Франческо Фоскати, более часа и «никто не шелохнулся», а при выходе из Палаццо дожей толковали: «Если бы наша Синьория имела такого человека, стоило бы отдать за это одну из наших главных земель».
Еще один рассказ Бистиччи о Манетти особенно жив и выразителен. При встрече во Флоренции императора Сигизмунда Козимо Медичи пожелал, чтобы от имени Синьории гостя приветствовал не Манетти, входивший тогда в ее состав, а Карло д'Ареццо, состоявший при ней канцлером. Но получилось так, что в речи выступавшего затем от имени императора Энея Сильвио Пикколомини, который только что стал кардиналом, содержались некоторые предложения, требовавшие немедленного ответа. Карло наотрез отказался, заявив приорам, что не может произнести новую речь без подготовки. Приорам ничего не оставалось, как просить мессера Джанноццо избавить их от стыда; тем временем император со свитой и все собравшиеся ждали продолжения церемонии… Пауза затянулась, ибо Манетти согласился не сразу, получив удачную возможность насладиться своей незаменимостью. Но когда он наконец произнес импровизацию, «все те, кто знал латинский и разбирался в этом, решили, что мессер Джанноццо выступил без подготовки много лучше, чем мессер Карло подготовившись»[75]75
Bisticci V. da. Op. cit., p. 452, 454, 456, 461.
[Закрыть].
Вот он – наглядный общественный триумф гуманиста! Притом Манетти, бесспорно, сильно уступал в оригинальности и таланте таким людям, как Бруни или Браччолини; он предлагал современникам по преимуществу расхожие результаты studia humanitatis. Тем не менее слава Манетти тогда не уступала ничьей. По критериям первой половины Кватроченто, она была вполне заслуженной. В блестящей латинской импровизации сошлось все, чем дорожила эпоха: не только классическая образованность, стилистические и ораторские достоинства, но и нечто большее – перенесение studia humanitatis в социальную практику, в общение, свободное овладение миром античной культуры, умение окропить ее не только мертвой, но и живой водой. Это стремление как бы превратиться в римлян и создать иллюзию возрождения античного жизненного уклада – принадлежность не только первоначального этапа гуманизма. Но тогда только что возникшее умонастроение проявляло себя особенно простодушно и вместе с тем изощренно, играя новыми возможностями и увлекая этим все более широкую аудиторию.
Возможно, не совсем неуместно сопоставление с музыкальными виртуозами XVIII в., которые бывали в особой чести у публики благодаря импровизации, при которой музыка представала как нечто неготовое и слившееся с даром исполнителя. Ораторы-гуманисты также демонстрировали классическую латинскую элоквенцию не как результат, а как процесс. В их распоряжении не было лучшего средства вовлечь сразу множество людей в новое жизнеощущение, стиравшее границу между мифом и реальностью и переносившее идеализированные образы в повседневность, чем публичная импровизация в античном стиле.
Впрочем, таким средством мы вправе в еще большей мере считать искусство.









































