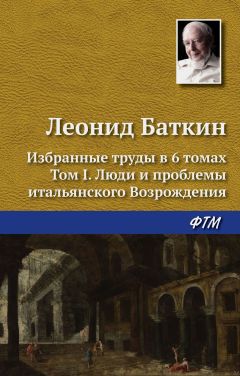
Автор книги: Леонид Баткин
Жанр: Культурология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 11 (всего у книги 57 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]
В комментарии к Дантовой «Комедии» Боккаччо, хваля «украшенный, изящный и возвышенный стиль» поэмы, замечает, что, если бы Данте написал ее на латинском языке, она была бы гораздо искусней и возвышенней, «ибо в латинской речи гораздо больше искусства и торжественной значительности, чем в нашей родной». «Данте был человеком, весьма сведущим в словесности (litteratissimo uomo)». Отчего же он сочинял на volgare? Логика этого вопроса удивительно характерна, как и ответ. «Данте был очень образован, и особенно в поэзии, желал славы, как и вообще мы все». Но «государи», «синьоры» и «высокопоставленные люди», которые могли бы отличить и вознаградить поэта, не знали латинского. И поэтому Данте писал по-итальянски[108]108
Boccacio G. Il commento sopra la Commedia, vol. I. Firenze, 1863, p. 85.
[Закрыть].
В этих рассуждениях автора «Декамерона» и «Фьезоланских нимф» нет, разумеется, пренебрежения к «нашему флорентийскому языку». Но в них кратко выражена самая суть проблемы двуязычия, как ее понимали гуманисты. Ученому человеку «материнский» итальянский язык в принципе не нужен не потому, что он сам по себе плох, а потому, что ученые люди владеют языком более совершенным, языком культуры, который противостоит volgare как языку социума. Преимущество латинского заключается прежде всего в том, что он искусственней («piu artificioso», «piu d'arte»), т. е. конструктивней и дальше ушел от естественной невозделанности, необработанности. Он, следовательно, «культурней» в точном исходном значении этого слова, лежащем в основе концепции гуманизма.
Обычно указывают, что гуманистическая латынь начала XV в. приобрела живость и красочность volgare, которому она была многим обязана. Но это взаимодействие чрезвычайно обогатило также итальянский язык и придало ему некоторые черты латинской риторической пышности. Латинский язык воспринимался как более «украшенный» и «возвышенный». Он в несравненной степени обладал той особой, достойной и размеренной важностью (gravitas), которая была неотъемлема от облика гуманиста и которой опять-таки требовало свойственное всей ренессансной культуре торжественное остранение и приподымание. Как выразился Ф. Монье, «латынь – это не язык, это идейная позиция… Она повышает тон, делает шире жест, универсализует мысль…»[109]109
Monnier Ph. Le Quattrocento, vol. I. Paris, 1901, p. 290.
[Закрыть]
Не volgare, a классическая латынь была в руках гуманистов ключом к Возрождению. Совершенное владение «обоими языками» (т. е. латинским и греческим) вело к миру подлинной античной мысли. Менее всего эти люди были пуристами ради пуризма. Латынь объединяла образованную Европу не только в пространстве, но и во времени. Сочинять на чистом языке Цицерона и Квинтилиана – значило включать написанное в великую историческую традицию, в непрерывный культурный ряд, облекать свой труд в бронзу и мрамор, приобщать к вечности.
Поэтому, например, Бистиччи хорошо понимал, что его итальянские жизнеописания способны лишь послужить материалом и подспорьем для будущих настоящих жизнеописаний на латинском языке. Увековечивает ведь только латынь, которой он, Бистиччи, не владеет: таков смысл признания, что сочинение биографии «далеко от его профессии»[110]110
Bisticci V. da. Op. cit., p. 5.
[Закрыть].
Лоренцо Валла сравнивал непреходящую власть латинского языка с преходящей властью Римской империи. Культура пережила государство. Расцвет в Риме наук и искусств, философии и права, ораторского и писательского мастерства зависел от расцвета общего для всей империи языка. Культура может возродиться только вместе с ним. Этот язык «учит наилучшим законам; он прокладывает дорогу всякой мудрости» (viam ad omnem sapientiam munivit). Он властвует не при помощи войн и оружия, а «благодеяниями, любовью, согласием». Язык, таким образом, залог и выражение не только интеллектуальных, но и гражданских и моральных ценностей. Восстановить красоты латинского языка – значит возродить весь этот целостный социально-культурный комплекс, жизнетворный дух, называемый «latinitas». Еще немного, утверждает Валла, и мы этого достигнем[111]111
Valla L. Elegantiarum, p. 595–601.
[Закрыть].
Неудивительно, что трактат Валлы о латинском красноречии пользовался огромным спросом; в нем видели отнюдь не специальное исследование по стилистике, каким оно предстает для нас. Но, сколь ни ширился среди горожан интерес к классической филологии, тот, кто желал, подобно ученому латинисту Салютати, сделать свои соображения «известными, если это возможно, не избранным и не многим, а всем», должен был обратиться к языку общества, к volgare.
Вождь неоплатонического герметизма Марсилио Фичино, переводя на итальянский язык собственный трактат «О христианской религии», мотивировал это желанием, чтобы книга «о всеобщей добродетели стала доступна многим». Довод о необходимости «быть понятыми необразованными согражданами» (Л. Альберти) был в такой же мере расхожим, как и признание преимуществ латинского языка. Даже Савонарола в предисловии к трактату «Об управлении» объяснял, что поначалу он собирался, как подобает духовному лицу, «писать об этой материи на латинском языке» и уже приступил к делу, но, идя навстречу просьбам Синьории, решил издать сперва краткое изложение своего труда на volgare – «для более общей пользы, поскольку тех, кто понимает латынь, мало по сравнению с числом неграмотных людей». Савонарола обещал, однако, позже, когда «сможет стать свободней от нынешних забот, приложить руку к латинскому сочинению на эту тему, если будет на то благодать всемогущего Господа»[112]112
Savonarola I. Trattato circa il reggimento e ilgoverno della citta di Firenze. Firenze, 1847, p. 2.
[Закрыть]. Доминиканец враждебен гуманизму, и латынь для него – это язык церкви; тем не менее обострившаяся в XV в. историко-культурная ситуация двуязычия обладала принудительностью и для него. Трактат – тем более трактат на морально-политическую тему, в поучение гражданам Флоренции, – следовало написать по-итальянски, но со временем сочинить его также и на латинском, на языке образованности, отливающем мысли автора в прочные, вечные формы культуры.
Соотношение народного и ученого языков более или менее отвечало оппозициям времени и вечности, тела и души, обыденности и сублимированности, невозделанности и искусства, неотесанности и значительности, vulgus и sapientes. Но таково лишь исходное соотношение. В глазах гуманистов Кватроченто итальянский постепенно возвышался и отчасти даже уравнивался в достоинстве с латинским, приобщаясь к его свойствам. Леонардо Бруни полагал, что «писать в ученом стиле или народном – различие не столь уж важное и не большее, чем если выбирать между греческим и латинским. Каждый язык обладает собственным совершенством, своим благозвучием и научной речью»[113]113
См.: Schalk F. Op. cit., s. 16.
[Закрыть]. Действительно, непримиримость гуманистического латинизма сильно преувеличена, никакого «аристократического пренебрежения» к итальянскому языку не было, на volgare писали и Бруни, и Леон Батиста Альберти, и Понтано, и Фичино, и Полициано. После периода наиболее усиленной латинизации на рубеже XIV–XV вв. роль итальянского (и переводов на итальянский) снова непрерывно возрастает. Но все же латинский язык, несомненно, сохранял свое преобладающее значение языка культуры, и в процессе относительного выравнивания престижа volgare именно латинский играл роль эталона.
В трактате Бруни «К Петру Гистрию» в качестве пламенного защитника латинской элоквенции и хулителя триумвиров итальянского языка (Данте, Петрарки и Боккаччо) выступает Никколо Никколи, поражавший своей истовой, жреческой приверженностью к latinitas даже друзей-гуманистов. Его оппонентом выведен Роберто Росси, а арбитром – Колюччо Салютати. Никколи отказывается, в частности, чтить Данте, ибо не желает следовать «мнениям толпы». Самое страшное обвинение, которое он выдвигает против Данте, состоит в том, что флорентиец неправильно истолковал одну из фраз Вергилия, а Катона изобразил седобородым старцем, хотя тому было 46 лет, когда он скончал дни в Утике. Иными словами, Данте недостаточно сведущ в классической словесности и плохо ориентируется в исторической хронологии. Кроме того, поэт неважно писал латинские эпистолы (latinitas defuit). Его следует удалить из собрания людей образованных и поместить в общество шерстяников и булочников…
Но это нарочито крайнее, гипертрофированное мнение. Культ Данте и «Комедии» был характерен для всех поколений ренессансной интеллигенции, от Петрарки до Микеланджело. Конечно, во времена Боккаччо, Салютати и Бруни многие все же сожалели, что «Комедия» написана не на латыни: тогда Данте вполне сравнялся бы с Вергилием и Гомером. Даже по поводу итальянских стихов Петрарки проскальзывала некоторая снисходительность. О Петрарке Никколи говорит (расхвалив предварительно его латинские опусы): «Настолько он был талантлив и способен к любому роду сочинения, что не удержался даже от того, чтобы писать на народном языке, обнаружив в этом роде, как и в остальном, огромное изящество и красноречие».
Где же позиция самого Бруни? Возражения Роберто Росси довольно вялы. Но выясняется, что Никколи развивал взгляды, которые вовсе не одобряет, лишь для того, чтобы раззадорить присутствующих. Салютати с улыбкой поощряет его к новой речи, которая послужила опровержением предыдущей. «Я всегда любил этих поэтов, – заявляет Никколи, – так неужто я могу измениться в один день и неужели шерстяники и сапожники, люди, которые никогда не видали книг и ничего не вкусили от сладости поэзии», лучше воздадут хвалу Данте, Петрарке и Боккаччо, чем я, который «всегда жил среди книг и словесности» (inter libres litterasque semper vixisse). Итак, итальянская поэзия защищена. Но каким образом? Она поднята до того уровня, которого требовал строгий вкус гуманиста, и в ней усмотрены те же «искусство вымысла» (fingendi ars), «красота слога» (oris elegantia) и широкая ученость (multarumque rerum scientia), образец которых являют античные авторы. Volgare, будучи наделен высокой изысканностью, оказывается как бы отнятым у vulgus, переведенным в сферу культуры. Хоть он доступен, в отличие от латинского, «толпе» – не ей судить о Данте…
Следовательно, двуязычие выявляется уже не только в противопоставлении латинского и итальянского языков, оно проникает внутрь каждого из них, нося не просто лингвистический, а социально-духовный характер: всякая поэзия, и латинская, и итальянская, обращена, подобно Янусу, сразу в две стороны: к толпе и избранным. Проблема двуязычия еще раз обнаруживает свою вторичность по отношению к проблеме двух уровней мышления и культуры, которые необходимо было развести, сохранив, однако, возможность свободного перехода в обоих направлениях – от multitude к sapientes и наоборот. И вот Бруни возвышает Данте устами завзятого латиниста Никколо Никколи. Но чтобы возвысить автора «Комедии», нужно все же взять назад упрек в недостатке у него латинской образованности; это было сказано им, Никколо Никколи, только чтобы поддразнить Салютати. Могло ли у такого ученого поэта, как Данте, недоставать латинской культуры? Этого, конечно, нельзя было допустить, не убив тут же наповал дантовского достоинства[114]114
Bruni L. Ad Petrum Histrum, p. 92, 84, 90.
[Закрыть].
Любопытно, что особенно настойчиво проводило латинизацию наиболее «демократическое», вернее же, наиболее преданное коммунальным республиканским традициям, наиболее «гражданское» поколение флорентийских гуманистов конца Треченто и раннего Кватроченто. С другой стороны, когда началось столетие подъема национальной литературы (от Полициано и Боярдо до Торквато Тассо), то оказалось, что Италия была этим обязана преимущественно придворным поэтам. Дело, конечно, не в том, что Лоренцо Медичи, или Ариосто, или Гвиччардини были «демократичней» Салютати, Леонардо Бруни и Лоренцо Валлы. Латинизацию культуры невозможно оценивать примитивно идеологически (как и происшедшее в середине XV в. открытие греческого языка и образованности, иногда сопоставимое по исторической значимости с изобретением компаса).
Без духовной элитарности не возникла бы светская интеллигенция. Без филологического пуризма нельзя было бы овладеть новым стилем мышления. Без эзотерических по интеллектуальному пафосу и лингвистической форме studia humanitatis не была бы заново открыта античность, не было бы Возрождения.
Глава 2
Две реальности
«Жадность к словесности»Анонимный биограф Леона Баттисты Альберти рассказывает, что гуманиста «не могли оторвать от книг ни голод, ни сон; но все же иногда самые буквы начинали извиваться перед его глазами, подобно скорпионам». Альберти занимался в юности, как и подобает «универсальному человеку», всеми видами физических упражнений, был ловок и силен, способен, если верить биографу, забросить яблоко выше Флорентийского собора, но это не спасло его от переутомления при изучении права. Во время болезни он ради утешения и отдыха написал комедию о любителе учености («Филодоксеос»), а затем опять погрузился в книги. Результатом было новое тяжкое нервное истощение. Биограф обстоятельно описывает симптомы: головокружения, забывание имен близких, колики в желудке и шум в ушах. Почетный медицинский анамнез гуманиста!
Не послушавшись врачей, Альберти продолжал работать по ночам, но в 24 года ему пришлось оставить право и перейти к физике и математике, «требующим не столько памяти, сколько соображения».
Эта неистовая страсть к знанию, это ученое подвижничество составляли не личное свойство Альберти, а родовой признак гуманистов, который они непрестанно – и в сходных выражениях – восхваляли в себе. Залогом нового «благородства» стала усидчивость… Способность забывать за книгами обо всем на свете, «пренебрегая любыми телесными лишениями», казалась проявлением божественности. Только studia humanitatis могли приобщить к славе и вечности, переведя существование гуманиста в возвышенный план и позволив ему «возделать душу». Отсюда то, что Эрмолао Барбаро в письме к Пико делла Мирандоле назвал «stupor et extasis scientiae» (восторженная поглощенность наукой), «экстаз» и «оцепенение» перед нею (эти два внешне противоположных определения можно было бы перевести одним словом – «завороженность»).
«Жадность к словесности» (aviditas litterarum) имела жизнестроительное содержание, ибо «занятия словесностью научают наилучшим основаниям благой жизни». «Небезызвестно, что наши предки, люди благоразумнейшие и прилежнейшие, предавались занятиям словесностью с такой страстью и наслаждением, что в их времена безграмотный человек бывал изобличаем, подобно чудовищу, и ни один порок не считался позорней, нежели прослыть неученым»[115]115
Guarino Veronese. Epistolario, vol. I, p. 247.
[Закрыть].
Конечно, «бессмертные занятия», как их охотно величал Гуарино, состояли прежде всего в «накапливании огромного труда ежедневной перепиской и диктовкой из почти неисчислимых книг»; это уединение в тишине рабочей комнаты. Но в не меньшей степени это также ученая дружба, «приятное, пресветлое и единственно достойное уважения общение, в котором не может возникнуть никакая распря, никакая перебранка, но которое всегда спокойное и мирное, постоянно длится в почтенной и святой беседе». В ней «венец всего человеческого счастья»[116]116
Vergerio P.P. Epistole, p. 9.
[Закрыть].
Леонардо Бруни вложил в уста Салютати бесподобный рассказ о том, как тот ходил беседовать к «теологу Луиджи» (Марсильи). Тему обсуждения Салютати обдумывал заранее, но если не успевал дома собраться с мыслями, то старался сделать это по дороге через Арно. «В любом жизненном возрасте ничего не было для меня любезнее, ничего я так не искал, как того, чтобы собраться при первой возможности с учеными людьми и поделиться с ними тем, о чем я читал и раздумывал и в чем усомнился, и выслушать их суждение об этих вещах»[117]117
Bruni L. Ad Petrum Histrum. См. по поводу этого пассажа замечание акад. Веселовского: у Салютати «была какая-то лихорадочная страсть поговорить и поучиться, в высшей степени характеризующая время» (Веселовский А.Н. Вилла Альберти // Собр. соч., СПб., 1908, т. 3, с. 244).
[Закрыть].
Это отнюдь не риторика, а точное описание того, что действительно составляло жизнь гуманиста. Впрочем, противопоставление «действительности» и «риторики» как пустых словесных прикрас было совершенно чуждо ренессансной эпохе. Перед нами именно риторика, выступавшая как идеализованная реальность, не совпадавшая попросту с повседневностью, но выражавшая в глазах гуманистов ее высший смысл и формировавшая ее.
Вот они за работой, великие и малые, и каждый был бы готов повторить о себе сказанное Бистиччи о некоем мессере Джованни Тортелли, скромном библиотекаре Николая V, составившем каталог 9 тыс. книг папской библиотеки: «Он был очень прилежен и погружен в словесность, где заключалось все его наслаждение»[118]118
Bisticci V. da. Op. cit., p. 505.
[Закрыть].
Верджерио, поведав о знакомом правоведе, что тот «не терпел никакого пустого времяпрепровождения, заполняя [любой свободный час] слушанием или чтением, раздумьем над книгами и выписками», добавляет: «Но это, пожалуй, похвалы, которые [он заслуживает и разделяет] наряду со многими». Именно так. Речь идет о стереотипах поведения, характеризующего всю группу гуманистов.
Сам Верджерио проводил две или три лекции в день в Падуанском университете и к вечеру чувствовал себя усталым, нуждающимся в отдыхе или в прогулке. Желанный отдых для него, однако, состоял лишь в том, чтобы отправиться к другу-гуманисту и покровителю «господину Франческо» (кардиналу Дзабарелле). «Но для этого дана ночь». Вдвоем они заняты «серьезными и веселыми сочинениями» и «бодрствуют долгую ночь». Затем Верджерио возвращается к себе. Нужно готовиться к очередным лекциям. «Иными ночами я возжигаю свет задолго до зари и сижу при светильнике за книгами». Наутро Верджерио опрашивает студентов, участвует в дискуссиях с коллегами; вновь проходит день, и вновь гуманист засиживается за книгами до глубокой ночи.
Так он всецело погружен «в эту жажду учения, в великое упоение учеными и славными трудами, в столь пылкие (acer) занятия словесностью»[119]119
Vergerio P.P. Epistole, p. 10, 159. При несомненном житейском правдоподобии этого описания формула «seria et jocunda scriptura» архетипична, а ученые занятия по ночам, очевидно, ассоциируются с обычным уподоблением мудрости бдению в ночи и свету во мраке (lux in tenebris). Обе формулы – преимущественно из неоплатонического словаря. Сквозь будни гуманиста всегда проглядывает священная норма, и любое индивидуальное и искреннее свидетельство невозможно правильно оценить вне объединяющей их всех риторической традиции.
[Закрыть]. «Acer» имеет значение не только «пылкого», но и «яркого», «тонкого», «острого», «пронзительного». Пожалуй, в замечании Верджерио все смысловые оттенки слились в этом последнем. Для гуманиста не было более пронзительного жизненного ощущения, чем то, которое связано с его любимыми «трудами в досуге». Без них он не был бы гуманистом. В этом ощущении – знак его групповой принадлежности и исторической судьбы.
От Петрарки до Гвиччардини гуманисты гордились своим умением трудиться. В течение двух столетий ренессансные интеллигенты подстегивали себя требованиями «не терять ни одного часа», дорожить временем, умело его использовать, поменьше спать и продолжать учиться даже за трапезой и на прогулке. Соответствующие общие места (топика) повторялись в эпистолах и биографиях с торжественной монотонностью. Например, у Веспасиано да Бистиччи на каждом шагу мы слышим, что Витторино да Фельтре «не позволял никогда терять ни часа никому из своих учеников», что так же было заведено у Гуарино Веронского; что папа Евгений IV «во все часы дня и ночи никогда не терял ни мгновения: или он отправлял службу, или читал, или молился, или писал» и т. п. Вообще для Бистиччи, как и для гуманистов, посещавших его скрипторий, это звучало одной из высших похвал. Он с восторгом и особенно подробно живописал, как Джанноццо Манетти, поздно – двадцати пяти лет от роду – начав приобщение к словесности, «овладел всеми науками в кратчайшее время только благодаря своему прилежанию и умению распределить время». «Ему достаточно было на сон не более пяти часов, а остальное время он проводил в учении». Так Манетти прожил девять лет, выходя из дому только в монастырь Санто Спирито послушать лекции по логике и философии. «Он запоминал все, что узнал, навсегда. Он очень ценил время и никогда не терял ни часа». «Ему были ненавистны бездельники, лишенные всякой добродетели, которые бесполезно растрачивают время». Манетти имел обыкновение говорить, что нам придется в конце жизни дать отчет в том, как мы употребили отпущенное Богом время, и что Всемогущий Господь поступает, как купец, который, дав деньги кассиру, велит ему пустить их в оборот и «затем желает видеть, как тот ими распорядился»[120]120
Bisticci V. da. Op. cit., p. 492, 497, 6, 445, 447–448.
[Закрыть].
Разумеется, привычка «istimare il tempo», вести времени точный счет и не упускать его попусту, была связана с общим характером итальянской торгово-промышленной среды. Выдающийся французский медиевист Жан Ле Гофф назвал новое отношение к времени, выработавшееся уже в зрелое средневековье на бюргерской почве, «временем купцов». Не об этом ли «времени купцов» (которое, как известно, деньги) шла, по существу, речь у Бистиччи? Как говаривал Франческо Датини, один из крупнейших европейских банкиров и предпринимателей начала XV в., «тот опережает других, кто лучше умеет тратить свое время»[121]121
Из письма нотариуса Лапо Маццеи к Франческо Датини 17 июля 1408 г. Цит. по кн.: Romano R. Tra due crisi: l'Italia del Rinascimento. Torino, 1971, p. 139. Ср.: Certaldo. Libro di buoni costumi / A cura di A. Schiaffini. Firenze, 1945, № 385, p. 254; № 346, p. 223–224. У Паоло да Чертальдо в этих характернейших прописях купеческой морали второй половины XIV в. можно найти совет не выходить из дому без памятки о делах, которые нужно переделать за день, и хранить памятку вместе с деньгами, чтобы она почаще попадалась на глаза (№ 136, с. 112–113). Тут же поговорка: «Кто слишком много спит, тот теряет время» (№ 255, с. 152).
[Закрыть].
Сентенция Манетти хорошо подчеркивает перекличку гуманистического мотива «сбережения времени» с духом организации и деловым ритмом ренессансного города. Однако собранность и деловитость, выраженные в формуле «не терять ни часа», означали в данном случае как раз уклонение от «negotium», от прагматического «дела» ради ученого «досуга». Т. е. перед нами нечто не только подобное купеческой психологии, но вместе с тем и совершенно иное. Это расчетливость в осуществлении целей, далеких от утилитарного расчета, сублимирование «времени купцов» и превращение его в собственную противоположность. Это не «время купцов», а особый, хотя и родственный ему, феномен, который я обозначил бы как «время гуманистов».
Ибо в не меньшей степени гуманистическое понимание времени ведет происхождение от его сакрального смысла. Гуманист сразу напоминает и кватрочентистского «делового человека» (как называл флорентийских банкиров и шерстяников историк Ив Ренуар), и средневекового подвижника, возжигающего по ночам свечу и корпящего над книгами ради спасения души. Не случайно одним из излюбленных образов учености в ренессансной живописи стал св. Иероним в келье. В фанатизме, с которым гуманисты предавались своим занятиям, сохранилось нечто от религиозного обета, от усердных монашеских бдений, от их экстатичности, ритуальности и аскезы[122]122
См. об образе жизни Петрарки в Воклюзе: Billanovich G. Petrarca letterato. Vol. I: Lo scrittoio del Petrarca. Roma, 1947, p. 241–242.
[Закрыть]. «Время гуманистов» тоже пронизано жаждой высшей мудрости и избранничества. Время – ристалище добродетели (virtus). He растрачивать его впустую – значит, собственно, не упускать ни единой возможности, пренебрегая суетным и внешним, возвысить душу и сделать хоть малый шаг к славе, к земному бессмертию.
Но тем самым «время гуманистов» не только продолжало сакральную (особенно христианско-неоплатоническую) традицию, оно и резко отличалось от нее, делая время конкретным достоянием индивида, снимая дуализм бренного времени и трансцендентной вечности, возвышая самоосуществление личности и ее краткий жизненный срок как посюстороннее торжество божества в человеке. Тем самым время приобрело неслыханную активность, независимо от того, отдавалось ли предпочтение активности «деятельной жизни» или активности «жизни созерцательной». Оно стало «героическим». При сходстве многих психологических черт средневековая традиция оказалась секуляризованной на пути, который если не в самом Ренессансе, то после него и вследствие него приведет к окончательному превращению духовно-религиозного подвижничества в подвижничество ученого и писателя, т. е. к совершенно светскому, новоевропейскому типу напряженной духовности, к творчеству интеллигента в чистом виде.
Ренессансное «время гуманистов» возникло на скрещении двух ранее известных мировосприятий, «времени купцов» и «времени церкви», гипостазировавшихся в нечто совсем третье, иное и необычное. Отношение гуманистов к времени, отталкиваясь и от купеческого negotium и от монашеского молитвенного otium, внося в «труды» отрешенность и возвышенность, а в «досуги» – неутомимую деловитость, было деловым вне дела и сакральным вне культа. Оба свойства, устремляясь навстречу и соединяясь, меняли друг друга. Это, впрочем, вообще показательно для двойственно-целостной структуры ренессансного стиля мышления.
В трактате Л. Б. Альберти «О семье» рассуждение о времени вложено в уста купца Джанноццо, мудрого, хотя и не знающего латинской словесности, доверяющего «скорее собственному опыту, чем чужим словам»[123]123
Alberti L.B. Opere volgari, vol. I, p. 141, 164, 168–170.
[Закрыть]. «Есть три вещи, которые человек может назвать принадлежащими себе»; они дарованы природой со дня рождения и «до последнего дня никогда не разлучаются с тобой» (или: «не отделяются от тебя» – mai… si dipartono di sieme da te). Во-первых, это душа, ибо «хочет фортуна или не хочет, но душа остается внутри нас». Во-вторых, это «инструмент души», тело: «Оба они, душа и тело – наши». «А что же за третья [вещь]?» – спрашивает Лионардо, собеседник Джанноццо. «Э! Вещь драгоценнейшая! Она в большей мере [принадлежит] мне, чем эти руки и глаза». «Никоим образом она не может не быть твоей, если только ты желаешь, чтобы она была твоей»; это «время, мой Лионардо, время, дети мои».
Как видим, сентенции о времени построены как дидактическая загадка, в которой обыграна неотторжимость времени от индивида. Далее этот мотив разворачивается и разъясняется. Лионардо недоумевает: «Как можно владеть чем-то, что я не могу передать другому?» В самом деле, всякая собственность свободно отчуждаема. Даже действия души таковы, что ими можно наделить другого человека, – будь то любовь, ненависть, желания, смех или плач. А время передать нельзя! «Что, если на моем месте будет другой? Если [ты этого] захочешь, [время] будет не твоим». Время неотъемлемо, пока индивид меняется в нем; если же человек соглашается уступить не освоенное им время другому, он уступает то, что ему, следовательно, не принадлежит. Свое время отдать нельзя! Владеть им можно только позитивно.
Так в диалоге обнаруживается не только сходство, но и некоторое отличие времени от двух других даров природы. Джанноццо говорит, что время подобно воде в Арно: она вся твоя, если ты хочешь омыться в ней. «Если кто… использует время в учении, размышлении и в занятиях достохвальными вещами, тот делает время своим; а кто упускает час за часом в безделье, без всякого благородного занятия, тот, конечно, его теряет». Итак, время теряют, не употребляя его, и оно достанется тому, кто сумеет его употребить ради «телесных благ и душевного счастья». Время – естественное и прирожденное достояние человека. Но, в отличие от души и тела, оно дано человеку как чистая возможность, реализация которой всецело зависит от доброй воли. Ибо время для Альберти, по существу, тождественно культуре, оно не пустая длительность, а действование, «essercizio», бытие культуры. Владеть временем – значит окультуриваться в нем, совершенствоваться в «достохвальных вещах», учиться и мыслить. Это такой природный дар, который приходится, дабы он действительно оставался «в нас», удерживать в себе постоянным усилием и свершением. Следовательно, время – нечто вместе с тем отнюдь не природное, не данное от рождения, а добавляемое к природе, вырабатываемое. Именно поэтому время – наиболее индивидуальное и внутреннее достояние индивида, и поэтому же время так легко потерять. Все зависит от самого человека.
Альберти формулирует – не случайно от имени Джанноццо – понимание времени, общее и для купца, и для книжника-гуманиста. «Если приобретение богатства и не так славно, как другие, более высокие занятия, не заслуживает, однако, презрения тот, кто, будучи от природы малоспособен к этим величественным занятиям, берется за дело, к которому сознает себя более пригодным и которое всеми признается полезнейшим для общественного и семейного блага…» Близость «времени гуманистов» и «времени купцов» выступает наглядно.
Однако два понимания времени расходятся в той мере, в какой «ученость» и «занятия словесностью» возносятся Леоном Альберти, как и любым гуманистом, над всеми прочими занятиями. Альберти дает «учености» (dottrina) те же самые определения и свойства, что и «времени» (tempo). Таким образом, «время» и «ученость» оказываются коррелятами: «Ученость, и пока ты ее познаешь, и после того как ты уразумел ее, всегда пребудет твоей, она полезна для тебя и ныне, и во всей твоей жизни… Ее нельзя впоследствии похитить у тебя, она постоянно пребывает в твоей груди… Другие вещи, к которым ты приложил усилия, убывают, и только эта единственная, божий дар людям, постоянно при употреблении возрастает и становится все дороже». Поэтому «нельзя жалеть никакого труда, ради того чтобы изо дня в день становиться тем, чем мы не были раньше»[124]124
Alberti L.B. De iciarchia // Opere volgari, vol. II, p. 214.
[Закрыть].
В этом-то пункте «время гуманистов» обособляется в своей специфической групповой значимости, в своей универсальной духовности от «времени купцов».
Не входя в сколько-нибудь полную характеристику содержания studia humanitatis, необходимо все же обосновать сказанное выше о природе гуманистической топики, превозносившей «жадность к словесности» и способность «не терять ни часа». Нужно также подготовиться к истолкованию стиля жизни гуманистов. Это требует хотя бы кратких замечаний о том, как гуманисты понимали цель своих занятий. Тогда станет ясней оригинальность их группового самосознания и поведения, превращавшего этих – вполне от мира сего – деятелей, так сказать, в торжественных служителей храма науки. Для нас выражение «храм науки» – всего лишь напыщенный, истасканный шаблон, что-то из прошлого века. Впрочем, и для XIX в. это словосочетание уже утратило непосредственный и живой смысл. Мы даже не задумываемся над тем, что оно парадоксально сочетает в себе два взаимоисключающих, с нашей точки зрения, понятия. Оно настолько близко и привычно, что мы не замечаем его исторической отдаленности и семантической непривычности для нас. Но «храм науки», пожалуй, подходящее определение для особого стиля деятельности гуманистов, которые, не порывая прямо со структурой религиозной духовности, подменили ее светским аналогом.









































