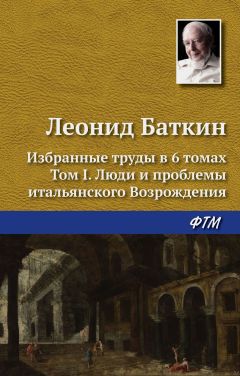
Автор книги: Леонид Баткин
Жанр: Культурология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 17 (всего у книги 57 страниц) [доступный отрывок для чтения: 19 страниц]
Почему, собственно, желая проиллюстрировать новое, ренессансное отношение к земным интересам и потребностям человека, показать связь гуманизма с «купеческой» средой, охотно цитируют соответствующие знаменитые места из трактата Поджо Браччолини «Об алчности» как наиболее адекватные точке зрения автора? «Куда бы ты ни обратил мысленный взор, перед тобой предстанут повсеместные доказательства и частной, и общественной алчности, так что, если бы ты счел необходимым изобличать алчных, тебе пришлось бы обвинять весь мир и всему человечеству надо было бы изменить нравы и образ жизни… Деньги ведь необходимы в качестве своего рода нервов, поддерживающих общество, в котором обилие алчных должно рассматриваться как его опора и основание… Разве есть такие, кто взыскует общественного блага, отодвинув в сторону собственную выгоду? Я до сего дня не знавал никого, кто мог бы себе это позволить… Нашу смертную жизнь нельзя взвешивать на философских весах» и т. д. Поджо доказывает, что, «если бы каждый производил не больше необходимого для его потребностей, мы все должны были бы, не говоря уж об остальном, обрабатывать поля». Тогда «исчезнет великолепие городов, погибнет всякая возделанность и украшенность, перестанут возводить храмы и портики, прекратятся все искусства, последует расстройство нашей жизни и общества». «Следовательно, алчность – естественная вещь. Пройди, если угодно, через весь город, площади, улицы, храмы; если кто-нибудь заявит, что ему достаточно того, что у него есть, и что его природа удовлетворяется малым, считай, что ты обнаружил феникса»[200]200
Bracciolini P. De avaricia // Prosatori latini… p. 268–270, 274 etc., 266, 264.
[Закрыть].
Что и говорить, эта смелая речь – одно из лучших свидетельств нового, раннебуржуазного настроения. Но нельзя видеть в ней простое воспроизведение прагматической житейской позиции флорентийского купца и банкира хотя бы потому, что эта трезвая, утилитаристская позиция, эта деловая хватка, эта коммерческая практика никогда не осознавалась самими купцами с такой однозначной и жесткой последовательностью. В записках Морелли, наставлениях Паоло да Чертальдо, переписке Марко Датини с Лапо Маццеи мы обнаруживаем не обнаженную корысть и не одну эгоистическую расчетливость, а привычную набожность, преданность семье, заботу о благотворительности, осторожное стремление к золотой середине, заповеди консервативной бюргерской морали. У Поджо взята некая социальная и психологическая тенденция и предельно заострена, притом, конечно, не только в силу реализма мышления, а по правилам полемики и риторики, по законам диалогического жанра, требующим исходного экстремизма сталкивающихся мнений.
У Поджо речь в защиту алчности произносит Антонио Лоски, и это только одна из трех речей, это антитеза. Ей предшествует теза в пользу канонического стоически-христианского обличения алчности. Ее произносит Бартоломео да Монтепульчано. Надо признать, что традиционный взгляд (впрочем, гораздо лучше известный читателям Поджо) выражен в диалоге в два раза короче и заметно бедней. Значит, Поджо разделяет мнение Лоски и опровергает мнение Бартоломео? Этого нельзя утверждать лишь потому, что речь в защиту алчности кажется нам более яркой, перевешивающей благодаря размерам и месту в композиции, благодаря более страстной и ироничной интонации. Ибо далее следует еще более пространная и ничуть не менее изощренная речь теолога-доминиканца Андреа из Константинополя. Он различает «cupiditas» – желание, проникнутое внутренней мерой, и «avaricia» – безмерное и ненасытное желание. Стремление к обладанию хорошо в рамках необходимого и разумного. «Огляди небо, моря, земли и все, что в них есть, и не сыщется в них никакого следа алчности, хотя они щедры и изобильны во всем». Понятия «алчность» и «желание» приобретают, таким образом, макрокосмический смысл. Человек – единственный, кто творит в природе, – не может быть ниже того, что лишено разума, и во благо лишь такое расширение достояния человека, при котором возрастают его свобода и величие во Вселенной. Запечатленная в нашей душе жажда обладания вполне естественна, пока мы не становимся рабами этого своего природного свойства. «О горькое рабство и дьявольская власть!» Следовательно, жажда приобретения сама по себе не хороша и не плоха, все зависит от того, как и куда она нас ведет, cupiditas это или avaricia: «Ведь эта нас одаряет и обогащает; та – отнимает и обездоливает»[201]201
Ibid., p. 276–300, p. 278–280.
[Закрыть].
Почему бы не счесть именно речь Андреа – формальный синтез диалога – наиболее адекватным выражением точки зрения Поджо? Не потому, что в ней, между прочим, отстаивается гражданственность против жадных богачей, ставящих свою выгоду выше общественной пользы. И не потому, что посреди нее вставка – резкое высказывание еще одного собеседника о жадности духовенства. Дело не в частных идеологических мотивах, а в том, что Андреа, не соглашаясь ни с тотальной апологией жадности, ни с ее тотальным отвержением, предлагает уравновешенную и мудрую позицию, с первого взгляда снимающую предыдущую антитетичность.
Но последнее вряд ли верно. Андреа произнес, конечно, очень ренессансную по смыслу и тону речь, но эта речь нуждается в независимом существовании первых двух и не «снимает» их, а признает их относительную истинность и неистинность. Замечательно, что Андреа начинает с того, что Антонио на деле чужд «алчности», которую защищал. Опять диалог объявляется построенным на провокации! Но речь Лоски (как и всякая диалогическая «притворная речь») – не какая-нибудь ярмарочная хитрость. Суть такой речи в том, что она и не совпадает и совпадает с личностью и убеждениями оратора. Он искренне думает так, как говорит, иначе не мог бы говорить столь умело и страстно, и не думает так, ибо не сращен с занимаемой в данный момент позицией и готов с ней расстаться. Он воображает и проигрывает вслух эту позицию как логико-культурную возможность.
«Он» – это, конечно, автор, Поджо Браччолини, который устраивает интеллектуальное ристалище в собственной голове. Было бы рискованно утверждать, что христианско-стоическая позиция Бартоломео, не говоря уже о речах Антонио и Андреа, – нечто находящееся вне Поджо, вне ренессансного мышления. Даже если Поджо не желает принимать ее буквально, как таковую, даже если отталкивается от нее – все же она им пережита и органично, неустранимо присутствует в его сознании. Все три точки зрения даны всерьез, персонифицированы и разведены. Объединяет их уже то, что они даны рядом, взаимоуважительно, в дружеском разговоре. Теза и антитеза выглядят как до конца последовательные и замкнутые, их примирение в синтезе – отчасти внешнее, ибо синтез – это еще одна, третья, точка зрения. Перед нами демонстрация «разнообразия складов ума» (varietas ingeniorum), и принятый в диалоге логический статус уравнивает, по существу, синтез с теми самодовлеющими мнениями, которые он синтезирует. Наиболее важным для литературного, жизненного и логического единства диалога оказывается общее культурное пространство, в котором разворачиваются и встречаются разные культуры и разные истины. Поджо – это Антонио, но он к нему не сводится; это и Бартоломео, и особенно Андреа, но он не тождествен ни одному из них, и его подход богаче суммы их подходов. Он – поле их сопоставления. Волшебство риторики позволяет переворачивать истину, делать ее объемной, разомкнутой, хотя каждый ее отдельный облик пластично завершен, и этот дух объединяющего спора, это ощущение конкретного богатства истины – важней всего, важней каждого мнения в отдельности, важней даже синтеза. Истинный синтез – в самой возможности сопоставления, в способе мышления, а не в конечном выводе. В диалоге нет непрерывной логической линии доказательства, его единство возникает из дискретности. Вывод синтеза – как контрапунктический бас, первый среди равных голосов музыкальной полифонической ткани.
«Камальдульские беседы» Кристофоро ЛандиноПочитаем диалог Ландино в первой книге «Камальдульских бесед», написанный позже, в сильно изменившейся среде, проникнутый уже неоплатоническими идеями медичейской Академии и отдающий предпочтение созерцательной жизни, хотя не отвергающий и жизни деятельной[202]202
Landino Ch. Disputationes camaldulenses, p. 724–788 (далее ссылки в тексте).
[Закрыть]. В нем та же, наиболее характерная для кватрочентистских диалогов трехчастная форма, последовательность долгих монологов, изредка перебиваемых репликами собеседников. Как поясняет Леон Альберти, которому Ландино поручил главную роль в дискуссии, необходимо разобрать по правилам риторики отдельно достоинства созерцания и действия, а затем их сопоставить. Теза, развиваемая Альберти, сверкает красноречием и убежденностью. Но вслед за ним берет слово Лоренцо Медичи и с не меньшим остроумием и изяществом, не менее обстоятельно защищает антитезу. И конечно же, оказывается, что он это делает для того, чтобы побудить Альберти углубить и усилить свою аргументацию в пользу созерцания (с. 768). Таким образом, Лоренцо переходит на позицию оппонента; зато и Альберти в своей заключительной речи, не отказываясь от тезы, еще больше смягчает первоначальный тон (с. 776, 784–788), так что на многих страницах этот сторонник созерцания заботливо оговаривает права действия, примиряя гражданский пыл раннего гуманизма и неоплатоническую медитацию. Противопоставление двух мнений не носит у Ландино такого внешне резкого характера, как в разбиравшихся диалогах Бруни и Поджо, и синтез просматривается уже в тезе.
Полагаю, однако, недостаточным считать автора умеренным сторонником созерцания, хотя этот вывод Ландино очевиден[203]203
См., например: Брагина Л.М. Этические взгляды итальянского гуманиста второй половины XV в. Кристофоро Ландино // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 9. 1965, № 5, с. 61.
[Закрыть]. Интересней посмотреть, как Ландино его строит: замечательная речь Лоренцо Медичи так же для него необходима, как для Поджо – речь Антонио Лоски, как для Бруни – первые две речи Никколи. Существенна ласково-учтивая интонация спора двух единомышленников, которые тем не менее берут на себя разные роли. Точка зрения, высказанная Лоренцо, опять-таки не столько «снимается» и тем более не отрицается в ответе Альберта, сколько служит необходимым и самоценным противовесом. В результате вывод Ландино не исключает иной позиции и не является «выводом», т. е. чем-то жестким. В идеологическом отношении, разумеется, мы должны отнести автора «Камальдульских бесед» к сторонникам неоплатонического «созерцания». Такова его позиция в узком плане. Но Ландино, как более или менее всякий гуманист, выбирает «свою» позицию среди других своих позиций. Он, как автор, совпадает в диалоге с одной из точек зрения (синтезом), но также – со всей системой диалога, с соотнесенностью всех точек зрения. Поэтому он шире самого себя, и анализ его стиля мышления больше говорит о его мировосприятии, чем конкретный вывод, заключающий диалог.
Сама возможность сосуществования и взаимодействия разных взглядов, не взаимно уничтожающих, не враждебных, хотя и противоположных, свидетельствует не только об открытости диалогического мышления в целом, но и о его замкнутости. Открытость и замыкание внутренне совпадают, ибо диалогическое мышление зиждется на убежденности в единстве природы человека, раскрывающейся – всякий раз относительно – в несходных проявлениях.
А что такое вообще Ренессанс, как не диалог тезы античности, антитезы христианства и собственного синтезирующего философствования, как не ощущение рядоположности веков, культур, индивидов, историчных и абсолютных одновременно, обнаруживающих на разные лады неисчерпаемость тождественной себе человеческой сути, ее универсальность, ее сопричастность всему мировому бытию, от ангелов и звезд до животных и элементов, ее земную божественность?
Разноголосица в высказываниях ВерджериоНе потому ли для новоевропейского рационального и позитивного аналитического подхода Возрождение – трудная загадка? С равным успехом можно доказывать – и это было доказано! – что оно языческое и что оно христианское, что оно порывает со средневековьем и что оно близко к средневековью, что оно, наконец, «эклектичное», в смысле логически-беззаботного совмещения совершенно разных по происхождению философских и всяких иных постулатов. Оставалось и остается неясным лишь одно: в чем целостность Возрождения и почему эти люди, будучи и такими, и другими, и третьими, обрели на столь зыбкой почве удивительную оригинальность и творческую мощь?
Возможно, ни в одну эпоху не было такого количества сочинений и авторов, относительно истинных намерений и взглядов которых до сих пор нет ясности.
В 60-х годах XX в. состоялась дискуссия между историками Зайгелем и Бароном. Зайгель утверждал, что так называемый флорентийский «гражданский гуманизм» начала Кватроченто – это чистейшая «цицеронианская риторика». Барон отстаивал свою известную концепцию о том, что почвой раннего гуманизма была борьба Флорентийской республики против миланской Синьории. Барон доказывал, что мы имеем дело не с риторической топикой, а с отражением реальных социально-политических позиций. Затем в спор вступил Д. Робэй, опубликовавший статью о Верджерио[204]204
Seigel J. Civic Humanism or Ciceronian Rhetoric? // Past and Present, 1966, № 34, p. 3–48; Baron H. Leonardo Bruni: Professional Rhetorician or Civic Humanist? // Past and Present, 1967, № 36, p. 21–37; Robey D. P.P. Vergerio the Elder: Republicanism and Civic Values in the Work of an Early Humanist // Past and Present, 1973, № 58, p. 3–37.
[Закрыть]. У Верджерио можно найти и республиканские, и цезаристские высказывания. Барон считает, что республиканцем Верджерио был в юности, в годы борьбы Болонской лиги городов против Джангалеаццо Висконти, а затем на службе у синьоров Каррара стал монархистом. Робэй, напротив, показывает, что эволюцией взглядов Верджерио дела не объяснить: эволюции от республиканизма к монархизму не было, как не было эволюции от защиты «деятельной гражданской жизни» (vita activa civilis) к прославлению otium. Верджерио одновременно был республиканцем и цезаристом; понятие «свобода» у него, как и у Салютати, могло практически означать и коммуну, и синьорию. Непоследовательность или беспринципность? Ни то, ни другое.
Д. Робэй напоминает, что в антивисконтиевскую лигу входили и республики, и синьории. Свободными государствами («liberos populos») Верджерио называл те, в которых считаются с желаниями подданных. Поэтому – в соответствии со схемой Аристотеля – порицания заслуживали лишь монархии, выродившиеся в тирании, и республики, опустившиеся до демократий; законность и свобода не были непременно связаны с одной формой правления. Во времена Салютати и Верджерио не было абсолютного противопоставления республиканской свободы и синьориальной тирании. Добавлю, что та же проблема возникает, как известно, в связи с Макьявелли, который в «Государе» выглядит монархистом, а в «Рассуждениях о первой декаде Тита Ливия» – республиканцем. Но Макьявелли, как и Верджерио, не стоял перед необходимостью однозначного выбора. Существовали конкретные политические ситуации, а не тотальное «или-или». Можно было писать о преимуществах единовластия и быть канцлером республики, как Салютати; можно было доказывать, что лучше всего республика, и давать советы государю, как Макьявелли. Представление о республиканизме и монархизме как знаменах двух враждебных социальных лагерей возникло в XVII–XX вв., когда созрело «третье сословие» и начало штурм абсолютизма, когда такая вражда получила глубокое историческое основание, когда политические убеждения приобрели несравненно более жесткий, партийный, реально-практический характер, а на их изменение стали смотреть как на ренегатство. Конечно, в XIV–XV вв. между итальянскими республиками и синьориями не было политической пропасти. Оставалось продолжать классические споры о том, какая форма правления лучше обеспечивает благо и справедливость.
Соответствующие высказывания Верджерио нельзя свести ни к простому оформлению чисто практических социально-политических установок автора, как полагает Барон, ни к риторическим упражнениям в классическом вкусе, как думает Зайгель. Робэй пишет: «Лучшее объяснение этого аспекта творчества Верджерио (а может быть, также и Салютати) заключено в понятии литературного экспериментирования, которое, не исключая высокой степени серьезности, предполагает позицию, весьма отличную от глубоко укоренившейся практической убежденности, подчеркиваемой тезисом доктора Барона»[205]205
Robey D. Op. cit., p. 31.
[Закрыть].
Я думаю, что наблюдение Робэя должно быть поставлено в более широкий контекст диалогичности гуманистического сознания. Попытаемся вообразить кажущиеся двойственными или изменчивыми политические рассуждения Салютати или Верджерио как разрозненные компоненты некоего ненаписанного диалога. Республиканизм и монархизм для Верджерио, как и для других гуманистов, – равно освященные античностью две культурные возможности. Поэтому казалось естественным обосновывать и ту и другую, противопоставлять их и согласовывать. Пусть практические интересы побуждали Верджерио (или Салютати, или Бруни) искренне отстаивать республиканский принцип. Переведенная в сферу культуры, эта потребность должна была высказаться на ее языке как топика римской «свободы» (libertas). Но едва заговорив на языке античной традиции, гуманист должен взять эту дорогую традицию целиком, а в ней есть также идея римского «мира» (pax), в ней есть и цезаристское истолкование libertas. Человек, живущий культурой, вынужден подчиняться ее логике, не совпадающей с логикой внешних обстоятельств. Доказано, что ранний гуманизм был теснейшим образом связан с комплексом прикладных, этико-политических, социально-педагогических задач, но именно чтобы решать эти задачи, гуманисты в своей сублимированной деятельности не просто «отражали действительность», а пересоздавали ее, творя культуру как некую социальность.
Гуманист, заговоривший о республике и монархии, мог в данный момент решительно отстаивать Брута или Цезаря, но для этого он должен был мысленно вживаться в каждую из двух точек зрения, включаться в их культурно-исторический диалог, и поэтому, хотя политические рассуждения гуманиста вовсе не были только риторикой, они обязательно нуждались в риторике, т. е. в общении через классическую традицию, делавшую их чем-то теоретически-действительным, а не культурно-бесформенным. Риторика зато нередко уводила эти взгляды довольно далеко от сиюминутной практической потребности, подчиняя в конечном счете общему для ренессансной эпохи отношению ко всякой отдельно стоящей мудрости, воспринимаемой как часть абсолюта и потому всегда готовой с улыбкой вступить в беседу с противостоящей – с рядом стоящей – истиной. Позже это стали называть: в сфере мысли – эклектикой, в сфере действия – беспринципностью. Действительно, ренессансные философы сплошь эклектичны, ренессансные политики сплошь беспринципны. Гораздо труднее найти догматиков среди первых и фанатиков среди вторых.
Эпистолярный спор Пико делла Мирандолы и Эрмолао БарбароУчастники дискуссии о «гражданском гуманизме» столкнулись с тем, что ренессансный автор бывает трудноуловим, не только когда он скрывается за объективно-диалогической формой изложения.
Несколько иной, но еще более показательный пример диалогичности мышления вне рамок диалогического жанра – знаменитая полемика между Пико делла Мирандолой и Эрмолао Барбаро о философии и красноречии. Перед нами не сочиненный, а реально состоявшийся диспут – диспут в письмах, ставший одним из самых любопытных эпизодов духовной жизни конца Кватроченто.
Пико получил от Барбаро письмо, в котором этот человек, изрекший «двух славлю богов, Христа и словесность», высмеивал схоластическую, «варварскую» философию. Теза высказана! Ответ Пико – с огромной силой выраженная антитеза[206]206
Prosatori latini… p. 804–822.
[Закрыть]. Письмо начинается с игры – с похвалы прекрасному стилю Барбаро. Я, пишет Пико, прочитав твое последнее послание, был поражен, устыдился и оплакал шесть лет, которые я потратил в юности на изучение этих варварских философов. Я потерял ради них лучшие годы жизни, вместо того чтобы приобрести себе некоторое имя в изящной словесности (in bonis litteris). Но вот что мог бы возразить в защиту своего варварства кто-либо из этих философов, если это выразить как можно менее варварски…
Дальше Пико утверждает, что нет большей разницы, чем между оратором и философом. Оратор по своей воле меняет суть при помощи слов, делает черное белым и белое – черным, преувеличивает и преуменьшает, ибо его цель – только убедить, поразить, увлечь слушающих («прельщая, дурачат умы слушающих» – «auditorum mentes blandiendo ludifice»). Философы же «читают в небе законы судеб, знаки событий, порядок Вселенной; читают в элементах чередование рождений и смертей, силы простых элементов и соразмерность в их смешении». У «варваров» Меркурий не на языке, а в сердце. Философу ни к чему изящество, ловкость, прельстительность: он не гистрион. Он рассчитывает не на аплодисменты толпы, а на молчаливое восхищение избранных. В высоких материях красота слога лишь вредна – недаром Святое писание изложено «скорее грубо и неуклюже, чем изящно». Вакханалии неуместны у подножия храма Весты. Здесь важно только что, а не как. Вот почему Платон хотел изгнать поэтов из города, где правят философы.
Пико возражает против примирительного мнения, что если философские рассуждения не требуют сами по себе словесных украшений, то медовое красноречие для них и не помеха, ибо облегчает восприятие. Нет, «мы стремимся не привлечь, а отпугнуть чернь». Только три вещи украшают философию: находящаяся в согласии с нею жизнь автора, истинность, скупость речи (brevitas styli). Философия должна предстать перед нами нагой, без ораторских покровов, «вся перед глазами» (tota sub oculos). Даже ясность и нормативность речи или условна, и тогда истину можно с таким же успехом, как и на классической латыни, выразить при помощи арабской, галльской, британской или «парижской» манеры изъясняться; или имена – от природы, но тогда тут судьи сами философы, а не риторы. Нет вражды языка и сердца, однако можно жить без языка, пусть плохо, но не без сердца. «Тот, кто лишен литературного изящества, – недостаточно человечен; кто чужд философии – не человек» (Non est humanus qui sit insolens politioris litteraturae; non est homo qui sit expers philosophiae). Так лишь под конец Пико явно смягчает позицию, говоря, что лучше верное и некрасивое, чем красивое, но неверное.
И вдруг он заявляет: «Я, конечно, не принимаю этих положений и не думаю, чтобы кто-либо из людей умных и просвещенных мог их принять. Но я охотно попробовал себя в этой опороченной материи, уподобляясь тем, кто расхваливает лихорадку… Я, – продолжает Пико, – ведь сам из школ философов перешел сюда (т. е. во флорентийскую гуманистическую среду. – Л. Б.) и отдался изучению греческого. Но я говорю искренне то, что чувствую, потому что у меня сводит желудок от некоторых грамматиков, которые входят в раж из-за этимологии двух слов настолько, что философов не ставят ни во что. Ничего странного, что им не нужна философия». «И собаки не пьют фалернского».
На последней странице все кончается высокой игрой. Невозможно считать это заявление «всего лишь» данью уже хорошо знакомому нам риторическому приему, потому что, признаваясь в провоцирующем характере письма, Пико тем самым ведет себя, как и подобает участнику гуманистического спора, взявшему на себя труд развить антитезу. Этим признанием Пико включает свое письмо в определенный стиль мышления.
Эрмолао Барбаро, вновь беря слово, подчеркивает (подобно Салютати против Никколи в диалоге Бруни), что его оппонент защищает тех, кто лишен красноречия, с удивительным красноречием. Собака защищает зайца… Недаром письмо Пико вызвало раздражение среди схоластов. Ты так изящно защитил варваров, замечает Эрмолао, что те из них, кто немного меньше похож на осла, задвигали ушами, остальные же бегут от этой защиты, отвергают ее и протестуют. Барбаро доказывает: именно потому, что философия исследует самые существенные и божественные истины, ей надлежит говорить прекрасным языком. Не случайно больше всего драгоценностей – в церквах… Цицерон и Аристотель не противопоставляли философию и риторику (которая – часть философии и облагораживает душу и которую незачем путать с софистикой). Они предпочитали красноречивого философа, ибо лучше владеть двумя дарами, чем одним. Ни грубость, ни чрезмерная изысканность и роскошь слога не подобают философу: нужна лишь мера во всем. Итак, защитить варварскую философию нельзя, как нельзя отбелить эфиопа. Но, конечно, ты защищал ее не всерьез… Мы могли бы назвать тебя перебежчиком, если бы ты думал так же, как пишешь. «Впрочем, ты, затягивая шутку, не перебежчик, но притворщик, так как сидишь между двух стульев (parietes duos linas)».
Всерьез или не всерьез отстаивал Пико схоластику против гуманистической филологии, философию против риторики? Вопрос сформулирован недостаточно глубоко и потому не вполне корректно.
Мы должны представить себе – это может показаться слишком странным допущением лишь с первого взгляда, – что переписка Пико и Барбаро сочинена одним Пико. Словно это некий диалог, принадлежащий Пико делла Мирандоле, его спор с самим собой, но экстериоризованный таким образом, что Пико защищает одну из своих позиций против Барбаро, взявшегося представлять другую позицию того же Пико. Пройдя основательную школу североитальянского аристотелизма, увлекшись затем флорентийским неоплатонизмом, успев к 1485 г. пропитаться гуманистической «словесностью», Пико, который вскоре выдвинет идею «мира философов», насквозь диалогическую в том специфическом ренессансном смысле, который я пытаюсь здесь выявить, – Пико в полемике с Барбаро искренне и всерьез отстаивает риторически развитую, завершенную в себе и поэтому заведомо одностороннюю антитезу. Несомненно, апология «чистой философии» выражала потребность в новом этапе развития Джованни Пико и ренессансной мысли в целом, стремившейся выйти из этики и филологии в теологию и онтологию, расширить и преобразовать понимание человеческого бытия, добытое первыми поколениями гуманистов, включив его в божественный макрокосм. На этом пути нельзя было ограничиться наследием античной «словесности»: примирительный спор античности и христианства, Платона и Аристотеля, филологии и логики, этики и «физики» разгорелся внутри ренессансного сознания с небывалой интенсивностью. И Пико берется отстоять схоластику, уроки которой живы в его уме. Но «преимущества философии» вовсе не исключают для него «преимуществ красноречия», которым уже пропитано его мышление: так у Ландино спорили созерцание и действие, у Поджо – жажда обладания внешним и сосредоточенность на внутреннем, у Валлы – радостное эпикурейское наслаждение и героический стоицизм. Пико отвергает тезу Барбаро лишь потому, что столь одностороннее поношение всей схоластики и возвышение риторики над философией нуждается в возражении. Однако Пико делла Мирандоле – в структуре его мысли – отвергаемая им духовная позиция в конечном счете столь же необходима, как и отстаиваемая. Это спор, в котором Барбаро – его двойник, а он, очевидно, двойник Барбаро, если учесть, что Барбаро усиленно переводил Аристотеля на изящную латынь и надеялся соединить филологический гуманизм с натурфилософией[207]207
Garin E. L'umanesimo italiano, p. 87.
[Закрыть].
Конечно, Барбаро, приравнявший словесность к Христу, не случайно оказался автором тезы в этом диалоге, где Пико столь же не случайно взялся ему противоречить. Но это подлинно гуманистический диалог, который провоцирует и резко сталкивает втайне готовые к примирению истины. Напрасно П. Кристеллер считает высказанное в конце письма Пико несогласие с самим собой, как и ответный ход Барбаро, уличившего Пико в двойственности и притворстве, всего лишь внешними уловками. Знакомый уже нам ритуал беседы соответствовал диалектике гуманистической мысли, и Пико, сознаваясь в самопровокации, делал то же самое, что Никколи у Бруни или Лоренцо у Ландино.
Но где же синтез? В других сочинениях Джованни Пико. В письме к Лоренцо Медичи, написанном всего годом ранее, Пико расхваливает Лоренцо за то, что тот сумел превзойти и Данте, и Петрарку, избежав их недостатки и соединив их достоинства. Петрарке не хватает философской глубины, возвышенности содержания, Данте же – красоты и отточенности формы. «У тебя же все слова необходимы по смыслу не менее, чем уместны по красоте…» Петрарка чересчур изыскан и красноречив, он многое обещает, но затем разочаровывает. Данте же в соответствии со своим веком «в том, что касается стиля», «неприятен, резок и сух, ибо слишком груб и неотесан». Конечно, отталкивая при первом знакомстве, Данте затем убеждает глубокомыслием, но тут нет его заслуги, он пересказывает Августина и Аквината, философичность сама по себе придает ему силу. Не будем обманываться изощренным звучанием и ритмом стихов Петрарки, посмотрим, что под ними, в корнях, в основаниях слов. Но у Лоренцо красноречие (dicendi gratia) – блеск выражений, их расположение, связь, каденции заслуживает самой высокой похвалы, будучи соединено с глубиной. Именно стилистическое великолепие возвышает Лоренцо над Данте, который всем был обязан своему материалу, а Лоренцо облагораживает любой материал благодаря поэтическому таланту. «В твоих стихах серьезность философской мысли смешана с забавами влюбленных, она придает им достоинство, а они ей – привлекательность и изящество»[208]208
Prosatori latini… p. 796–800 etc.
[Закрыть].
Таков третий голос в диалоге, и это тоже голос Джованни Пико.
Современников – не только Барбаро – не ввела в заблуждение энергия, с которой Пико отстаивал преимущества «варварской» философии по сравнению с классической словесностью, они, не сговариваясь, видели в Пико человека, который желал и умел соединить одно с другим[209]209
Pico della Mirandola G. Opera omnia, p. 393, 401.
[Закрыть].
Ближайшим другом Пико был Анджело Полициано, самый утонченный и законченный гуманист «филологического» склада, какого только можно вообразить. Когда Полициано умер, Пико с болью воздал ему должное именно как «мужу, наиболее выдающемуся в словесности среди всех наших современников»[210]210
Ibid., p. 379.
[Закрыть]. Духовные же устремления этих двух людей были кардинально различны. Их близость поверх любых различий, в лоне общей для них культуры, однако, не покажется удивительной, если вспомнить, сколько у Пико – особенно в «Комментарии» к канцоне Бенивьени и в «Речи» – можно найти от Полициано и сколько у Полициано – особенно в «Ламиях» – от Пико.
Полициано всем пафосом своего творчества был (как и Барбаро) полярен Пико, но тем самым и близок, потому что Полициано – это перевернутый Пико, т. е. не философ, спорящий со своей потребностью в словесности, а великий мэтр словесности, спорящий со своей тягой к философии. «Ведь тот, кто не философствует, тот не живет в ладу с душевной добродетелью… Мне кажется к тому же, что тот, кто не хочет философствовать, тот не хочет быть счастливым». Конечно, «труд философствования» (philosophari labor) нелегок, однако смешны люди, готовые ради наживы плыть за Геркулесовы столпы или в Индию, но ради философии ленящиеся бодрствовать зимней ночью.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































