Текст книги "На рубеже веков"
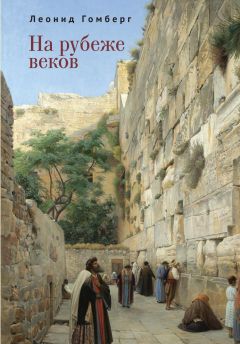
Автор книги: Леонид Гомберг
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 14 страниц)
Правдивые истории из прошлого
Репетиция
Вовчик Кузин проснулся часа в четыре утра от ощущения непомерной тяжести в мочевом пузыре. По свету в окне смекнул – на работу рано. Но тут же сообразил: «Надо бежать, а то взорвется». Он вскочил, влез в домашние тапочки и с усилием разомкнул глаза. Во рту пересохло. Глаза расклеивались с трудом.
Вовчик со смаком помочился, потом прошлепал на кухню и прилип к чайному носику.
«Кайф», – сказал он вслух.
После этого он снова помочился, уже более сосредоточено, и улегся в постель досыпать.
Его угнетала мысль, что выспаться не удастся, – на работе надо быть в восемь часов. «В восемь – как штык, – сказал секретарь райкома комсомола во время инструктажа. – Автобусы ждать никого не будут».
«А может, ну его… подальше», – проскочила шальная мысль. Но Вовчик, конечно, знал, что от репетиции ему не отвертеться никак. Знал еще вчера вечером, когда Петрович по случаю своего возвращения из недельного турпохода поставил четыре бутылки «бормотухи», а закуску они не взяли, – Петрович сказал, что у него дома что-нибудь найдется. Но в холодильнике оказались только идиотские телячьи хвосты, которые Петрович поставил стоймя в кастрюлю, так что они противно торчали наружу. Прошел час, а они все еще варились, варились, и конца этому не было видно. Уже открыли третью бутылку, закусывали только остатками хлеба и засохшим плавленым сырком, а хвосты и не думали сдаваться. Не разгрызешь. Через два часа стало ясно, что они не сварятся никогда. Но не останавливаться же посреди дороги… Ну и вот – результат: как добрался домой, Вовчик не помнил; брюки и носки валялись на журнальном столике; в горле сушняк, хоть и пил две минуты назад. Потом он задремал.
Второй раз проснулся в полседьмого. Солнце светило прямо в окно. Вовчик понял, что больше не заснет. Пора собираться.
Два месяца назад Вовчику Кузину стукнуло тридцать. Как говорится, мужчина в самой силе. Только вот что-то сломалось в его жизни в какой-то неуловимый момент, сломалось и не склеивалось больше. После пединститута работа в школе не задалась. Дело известное: не потянул учительствовать, прямая дорога в районо инспектором. Вовчика туда не тянуло: начальство близко. Оставалось влиться в славную когорту внешкольных работников; с тех пор он занимал ответственную и непыльную должностишку организатора массовых мероприятий в районном доме творчества.
Жизнь его складывалась как бы наоборот. В детстве отец звал его Владимиром, школьные друзья – Володей, в институте – Вовой, на работе по-свойски – Вовчиком.
На рабочем месте культорганизатор Кузин торчал много, но всё как-то бестолково: выпивал с друзьями из отдела туризма, трепался с начальством, кадрился с пионервожатыми. Вобщем-то, как все. Еще в институте он начал писать книгу о Николае Добролюбове, русском критике и революционном демократе. Потом бросил. Стал писать стихи и даже как-то пару раз носил их в редакцию. Тоже, кстати сказать, если и не как все, то, как большинство. Подавляющее большинство.
Вовчик Кузин явился к автобусу вовремя. И это вышло удачно, так как на инструктаже секретарь райкома комсомола назначил его старшим машины. Кроме самого Кузина и трех десятков школьников, в автобус определи его давнюю подругу Милку Федулову. Это тоже сложилось удачно. Милка была председателем совета пионервожатых, бой-баба лет двадцати четырех. Она не зря слыла отличным детским организатором, а значит, Кузину выходило меньше драть глотку. Но главным достоинством Милки был все же огромных размеров зад при весьма короткой плиссированной юбке, такой куцей, что если очень захотеть и поднатужиться, зад просматривался, как живой. К сожалению, грудь Милки заду не соответствовала – размера на два меньше, чем можно было бы предположить, и недостаточно выразительная. Это, конечно, нехорошо. Но куда хуже было то, что Вовчику очень хотелось опохмелиться, обреченно, без всякой надежды, так как окончание районного мероприятия брезжило где-то за пределами светового дня.
Кузин осмотрел диспозицию. Во главе транспортной колонны под непосредственным руководством секретаря райкома комсомола следовала «группа приветствия». Кандидатов в нее отбирали бескомпромиссно, без вариантов и нюансов. Дети должны были отвечать нескольким непреложным требованиям: раз – из рабочей семьи, два – по национальности русские, три – светловолосые и светлоглазые на вид, четыре – участвовать в общественной работе, пять – заниматься в кружках художественной самодеятельности. Они целый месяц таскались на репетицию в райком. Их инструктировала сама секретарь райкома партии. Оно и понятно: у них особо ответственное задание – они будут вручать цветы руководителям партии и правительства. Следом везли детишек попроще: юных физкультурников, участников военно-спортивной игры «Зарница», юных пожарников и друзей милиции. Вовчик и Милка были ответственными за сектор расцвечивания или просто «красных и синих косынок».
Репетиция праздника шла своим ходом: стадион гудел неумолкаемым детским многоголосьем, взрывался яркими красками, проплывал огромными стягами, оглашался приветствиями и здравицами. Иногда откуда-то раздавался взволнованный голос режиссера: «Зарница пошла! Пошла Зарница! Почему стоите?! Безобразие! Вы срываете важное политическое мероприятие!» Потом снова, откуда ни возьмись, выплескивались бравурные такты. И все опять двигалось, гудело, переливалось, маршировало, приветствовало и орало. Чудовище, поглотившее многие тысячи жизней оболваненных малых существ.
Все бы ничего, но сектор Кузина находился на солнцепеке, и Вовчика мутило. К счастью, Милка вошла в положение, взяла мегафон и громко передавала поступающие «сверху» команды. Она делала это четко и жизнерадостно. Вовчик смотрел на ее зад и мечтал о пиве.
«Внимание, – вдруг торжественно провозгласил режиссер, – на трибуну пошли руководители… Внимание. Приготовились. Начали… Дружнее! Еще дружнее! – От усердия он орал что есть мочи, и голос его просто добивал бедного Вовчика. – Поприветствуем наших руководителей! Еще дружнее!»
«Поприветствуем наших руководителей! Дружнее!» – Милка продублировала команду в мегафон.
Дети срывали с головы и с шеи синие и красные косынки, вздымали их в воздух и кричали: «Слава! Слава! Партии слава!»
На пустой трибуне в истерике надрывался режиссер. Его не было слышно, и он жестами показывал, что какой-то сектор, вон там, вот вы там отстаете, срываете, дружнее… Милка орала вслед: «Веселее, ребята! Выше косынки! Еще выше! Вот так, молодцы!»
Вовчик вдруг встал в полный рост, тошнота отступила. Он подошел к Милке, принял из ее рук мегафон и весело, совсем по-юношески закричал: «Молодцы! Громче! Веселее!»
И уже вместе со всеми: «Ура-а-а-а»!
Колюня и Деловой
Первыми к магазину являлись бабули-пенсионерки, – часам, примерно, к девяти. К одиннадцати собиралось уже человек двадцать. Они сидели на ступеньках и ящиках, грелись на солнышке, толковали о том, о сём. В два часа, когда откроют дверь магазина, они окажутся в первых рядах страждущих и продадут свои очереди за пять-десять рублей, в зависимости от дня недели и близости праздников.
Подходили и первые ханыги. Вышвырнутые из домов похмельем, они слонялись без дела, соображали, что предпринять, матерились и ругали Горбачева. Иногда разносился слух, что в универмаге выбросили дешевый одеколон. И тогда кучки рассасывались на время, но вскоре возникали вновь, осененные надеждой.
К часу дня публика строилась в боевые порядки и порождала совершенно несусветное многометровое существо, гибрид человека и дракона – Очередь. Оно будет жить своей автономной жизнью аж до закрытия, чтобы враз развалиться на части, рассредоточиться, угомониться на ночь, но назавтра вновь возникнуть – так всегда, день за днем, месяц за месяцем, год за годом.
Еще с «рабочих» времен у Колюни выработалась привычка вставать ровно в семь. И как бы он ни был пьян с вечера, сутра в нем внятно бубнил звоночек, и Колюня открывал глаза. Так было и сегодня.
Он заваривал в пивной кружке крепкий чай и, с удовольствием прихлебывая, допивал до гущи. Есть не хотелось. Потом Колюня собирал в сумку посуду, тщательно протирая бутылки влажной тряпкой и внимательно их пересчитывая. Ему нравилась эта процедура.
По старому, доуказному «о мерах по борьбе» правилу он являлся к магазину в одиннадцать и осматривал диспозицию. Все как обычно: бабули сидели рядком, невдалеке в деревцах кучковались ханыги.
– Ну что? – спросил Колюня.
– Да ничего, у «деловых» портвейн по червонцу, у «стекляшки» есть пиво в разлив, – ответил молодой низкорослый ханыга по кличке Воробей. – А у тебя?
– Глухо, – ответил Колюня, – посуды вот немного…
– А «капусты» нет? А то, может, пивка… – безнадежно промямлил Воробей.
– Откуда? Посуду бы сдать…
– Да где ее сейчас сдашь? Разве кооператорам по гривеннику…
– По гривеннику – мало.
Помолчали. Колюня вновь огляделся. К магазину чалил старый алкаш, помнящий не только водку за два восемьдесят семь, но и какую-то невероятно дешевую «рыковку», названную по имени крупного наркома-ленинца.
– Ну, что, дед, как она, молодая? – окликнул его Колюня.
– Нормально.
– Пивка уже принял?
– А как же.
– Тебе легче, – позавидовал Колюня.
Время шло медленно, но все-таки шло. Стратегия была такова: дождаться двух часов, в магазине сдать посуду. Дальше, если повезет, взять в госсекторе красного. Если нет, то сложиться и купить портвейн у деловых. Потом видно будет.
К магазину подкатил «жигуленок», из машины вышел Деловой в куртке-варенке и внимательно оглядел Колюню.
– У тебя что? – спросил Деловой.
– Посуда, – ответил Колюня.
– Сколько?
– Десять по гривеннику и двадцать по двугривенному, всего на пятерку.
– Грузи в коробку, – сказал Деловой, швырнув на землю картонный ящик. Колюня аккуратно сложил приготовленные бутылки.
– Тащи в машину, – сказал Деловой. Колюня нежно поставил ящик в багажник, и Деловой захлопнул крышку.
– Получи бабки, – сказал Деловой.
В руках у Колюни оказалась заветная пятерка. Все произошедшее было так невероятно, что Колюня буквально онемел. Это было похоже на сказку со счастливым началом: где и когда это видано, чтобы деловые, утром, брали у ханыг посуду по госцене! Чудеса! Колюня решил твердо – пятерку не тратить до открытия, никакого пива, на мелочи не размениваться.
В половину второго около входа в магазин началась «битва народов». Иначе и быть не могло: прошел слух, что накануне завезли красное по пять рублей.
Без четверти два на пятачок подъехал наряд милиции и оттеснил толпу на несколько метров от дверей. Колюня заблаговременно втиснулся в очередь между бабулями. Он знал: главное, пробиться к прилавку, пока весь товар не расхватает «местняк», «шакалы», чтобы тут же загнать за полторы-две цены в конце очереди.
И он попёр вперед.
Но в торговом зале ему сразу же почудилось что-то непонятное, новое, а значит, ужасное и непоправимое. Окружающее пространство разваливалось от какого-то общего недоумения, мельтешения, ропота…
– Светик, – заверещал Колюня, тыча свою кровную пятерку через головы и спины бойцов, – мне красного.
– Посуду, – сказала продавщица, худая востроносая блондинка по прозвищу Погремушка.
– Что? – сказал Колюня.
– Оглох? Вот, читай, – для кого написали?
Колюня, с трудом припоминая знакомые буквы, прочитал свеженькое объявление: «Отпуск товаров только в обмен на посуду. Залоговая стоимость бутылки – 50 коп». Он ничего не понял.
– Светик, – мне красного, ну пожалуйста, – взмолился Колюня.
– Вали отсюда, козел. Следующий!
Колюня вышел на улицу. Очередь расчленилась, распалась, гудела. Бабули жаловались на жизнь, ханыги ругались. Надо было что-то решать. Колюня наконец понял, что его обманули. Его утренняя посуда стоила сейчас больше червонца, целое состояние. Бутылка из мусора, валяющегося на помойке, вдруг превратилась в нечто самоценное, в вещь, в товар, в дефицит.
– Ну как? – спросил ошеломленный Воробей.
– Не знаю, – сказал Колюня, – без посуды не дают.
– Вон у «шакалов» – по рублю.
Колюня прикинул: купив порожнюю бутылку за рубль, сдать-то ее Светке-Погремушке он сможет только за полтинник. Портвейн никоим образом не вытанцовывался.
Он прошел по окрестным дворам, но бутылок нигде не было. Даже там, где еще вчера можно было выудить приличную стеклотару – голяк! Пусто!
Колюня вернулся на пятачок. Стемнело. У магазина продолжалась прежняя толкотня, но очередь не выстраивалась. Ругали уже не только Горбачева, но и Ельцина, и вообще всех демократов. Один оратор в шляпе высказывался даже в том смысле, что если эти засранцы не могут навести порядок, пусть возвращаются коммунисты.
И тут Колюня увидел того самого Делового, которому утром продал посуду. Он стоял в сторонке, курил, вероятно, дожидаясь своих.
– Слушай, командир, дай мне одну бутылку, ну пустую, из тех, ну помнишь…
– Два рубля, – сказал Деловой.
– Слушай, командир, я тебе за нее верну полтинник…
Деловой посмотрел на Колюню даже не как на сумасшедшего, а как на нечто неодушевленное – пень или кочергу.
– Два рубля, – сказал Деловой.
– Слушай, командир…
– Вали отсюда, ханыга, мля.
Деловой слегка ткнул Колюню в грудь и сразу отошел на несколько шагов. Ткнул так, беззлобно, между прочим. Колюня свалился на спину, как мешок с опилками. Он упал в грязь, сразу же сел, снял кепку и вытер лицо. Кругом толпились люди. Колюня заплакал.
В наших краях
В наших краях перестройка началась с «глумления и осквернения», – так потом писали в газетах. Перед зданием райкома партии на постаменте памятника видному соратнику Ленина злоумышленниками была отбита зубилом буква «К» – начальная буква фамилии – и вместо нее намалевана черной краской бесстыжая «X», отчего фамилия сподвижника приобрела совершенно неприличный оттенок. Работники аппарата райкома партии, исполкома райсовета и комсомольские «шишки» две недели воротили нос, делая вид, что ничего не случилось. Потом непристойную букву стерли, и на ее месте некоторое время зияла пустота. Но, как водится, свято место пусто не бывает.
Дальше – хуже. Перед майскими праздниками стали распространяться слухи, что в районе Метрогородка объявились «нацисты». Они коротко стригут волосы, носят белые рубашки и узкие черные галстуки, ловят и мордуют панков и хиппи. Ни в большом ДК, ни в Новом танцзале, ни даже на дискотеке в «Фиесте» они не показываются, потому как плюют на прежних кумиров вроде Джона Леннона и «Модерн Тоокинг». Их бог, видите ли, – Адольф Гитлер.
День ото дня слухи становились все гуще. Поговаривали, что когда пожарные тушили здание детского сада в Богородском, пламя разгоралось тем сильнее, чем больше его поливали водой. (Что в принципе возможно, если обработать объект диверсии определенным составом, разумеется, с помощью западных спецслужб.)
Был, говорят, и такой действительно жуткий случай: подонки поставили на колени старика-ветерана и требовали, чтобы он кричал «Хайль Гитлер». Так они отмечали день рождения своего фюрера.
Это уже был предел. И это была угроза устоям.
Худрук и диск-жокей шоу-клуба «Фиеста» Боб Гольдман знал точно – вызовут «на ковер». Так и случилось. Да не куда-нибудь – прямо в райком партии.
Секретарь по идеологии уютно сидела в удобном кресле и по-домашнему щурила подслеповатые глаза. Вдруг быстрым кошачьим движением она лихо надела шикарные очки с затемненными стеклами и изогнутыми блестящими дужками.
– Садитесь, Борис Ильич.
У дверей виновато моргали комсомольцы – референт международного отдела и заворг.
– Ну, – сказала Сама Гольдману, будто ожидая от него чего-то. Но Боб молчал. Сама тоже помолчала с минуту, а потом, как норовистая скаковая кобылка, ринулась прямо в галоп.
– Меня вот что удивляет, Боря. Эти свои праздники отмечают. – Она выделила «эти» и «свои». – А мы свои пускаем на самотек. Вот ты лично, Борис Ильич, ты, наш советский человек, как лично ты со своим клубом отметил сто пятнадцатилетнюю годовщину со дня рождения Ленина? Молчишь?
Боб молчал.
– Апрель всегда был нашим любимым месяцем, – продолжала Сама, – весенним, цветущим, ленинским. А теперь это их месяц – черный, со свастикой. Невероятно! И все это у нас, в Куйбышевском районе столицы. – Боб вдруг вспомнил про постамент с отколотой буквой и усилием подавил улыбку.
Сама тоже вспомнила про постамент и деловито нахмурилась.
– Мы сдались сразу – без боя? Так?
Боб Гольдман молчал.
«Все это накипь, мамуля, мура, детки резвятся. Им плевать на Гитлера, но им нужен Фюрер, это правда, потому что они против вас. Они ненавидят вашу трескотню, ваши рожи и ваши жопы, вросшие в кресла. Через месяц они забудут своего Гитлера и пойдут к русобородым парням, которые работают на реставрации Преображенского монастыря и рассуждают о самосознании русского народа и мировой закулисе. Вот это будет потеха».
Но Боря Гольдман молчал.
– Значит, так, Борис, – переменила тон секретарь, – майские праздники за тобой. На отдел культуры надежда плохая. Мы сейчас делаем ставку на молодых и инициативных, таких, как ты. Мы вам доверили подрастающее поколение. Дерзайте! В общем, нужно сделать большую развлекательную программу, показательную, привлечь все молодежные группировки, мы пригласим товарищей из горкома… Мы вас поддержим во всем, Борис… Вы меня поняли, товарищи? – Это уже относилось к референту и заворгу. Те снова заморгали.
Боб прикинул: если отбросить совковую трескотню Самой, то выйдет классный сейшн для молодняка. Прямо с неба свалились «бабки», штука или полторы – именно столько Гольдман думал выбить из райкома и отдела культуры на проведение нужного политико-воспитательного мероприятия.
– Заметано, – сказал Боб Гольдман.
В студийной подсобке шоу-клуба «Фиеста» благодаря энтузиазму оператора Ромы музыка не умолкала ни днем, ни ночью. Привычно преодолевая звуковой заслон, Гольдман достал спущенный из горкома список запрещенных к использованию на дискотеках рок-групп, неофициальный, но обязательный – на папиросной бумаге…
Еще недавно никакого списка не было – весь советский рок был запрещен на корню. На дискотеках крутили западную попсу, под шумок и в паузах иногда впрыскивая Майкла, Кинчева, Макара и даже Б. Г. С тусовок рокеров грузили в чумовозы, в ментовках привязывали к стульям и от души метелили сапогами. Гольдман являлся в «участок» с бумагой из райкома и забирал «проштрафившихся».
А теперь вот дожили – появился список.
Жирными кляксами в нем плясали «Майн Кампф» и «Адольф Гитлер», громкие «команды», работающие жесткий хард, – ребята, конечно, с придурью, – Боб их знал. «Скоро они угомонятся и будут шарить свою дешевку под совковыми лейблами», – подумал Боб. Мелькнула слабенькая попсовая команда «Звезда Давида». «Ну, уж эту-то скромную звездулю точно запретили ради профилактики борьбы чуждыми явлениями, – подумал Боб. – А это что такое – М. П.? Почему не знаю?»
– Рома, дитя природы, слушай сюда, – Боб шваркнул спичечным коробком в млеющего через наушники звукача.
– Хэлло, Боб!
– Салям аллейкум!
– Что-что?
– Сними уши и закрой рот. А то пропустишь самое главное! И выруби шарманку.
– Фу-у, – застонал Рома, снимая наушники, – класс попса, мля. Я тащусь.
– Кто такие – М. П.?
– Ну, ты борзеешь, старина! Не следишь за новейшими достижениями советского рока!
– Короче!
– «Менструальная повязка», ты понял – крутые ребята. Так они переименовали старую «Менуэт-Палаццо».
– Что ты мне морочишь голову, Рома! Велика новость мировой поп-музыки: сейчас все «менуэты» превратились в М. П.
– Ты о чем, Боб?
– Все, Рома, поговорили, балдей дальше.
После обеда позвонил-таки Торопов из отдела культуры.
– Ну что, Борис, был на ковре?
– Так точно, сподобился!
– И что? Сама – вклеила?
– Сначала вклеила. Потом сказала: какого хрена товарищ Торопов в Метрогородке «нацистов» развел, не проводит культурно-оздоровительных, массово-просветительских и олигофрено-педагогических мероприятий, распустил народ, понимаешь, пионэры, понимаешь, семьсот шестьдесят третьей школы Бышевского района столицы учительнице пения на заднице свастику намалевали.
– Между прочим, зря шутки шутишь!
– А я и не шучу!
– Значит, так. Вчера в Новый танцзал наведывались любера, слыхал?
– Слышал краем уха…
– Краем уха? Ну, ты даешь! Они бьют всех подряд: панков, мажоров, метальё – всех. Бьют по-настоящему, без дураков, цепями и арматурой.
– Крутые хлопцы!
– Еще бы! Они ведь не наши – приезжают из Люберец метелить центровых…
– Зачем ты мне это все рассказываешь? Сигнализируй в инстанции, дверь-то, почитай, не забыл?
– Слушай, ты на что намекаешь, Гольдман? Мое дело тебя предупредить. Не сегодня-завтра заявятся к тебе, тогда пиши пропало.
– Ладно. Сигнал принял. Отбой.
Дверь с треском отскочила назад, с перепуга от девичьего визга…
– Все, Боб, мы готовы! Долго тебя ждать?
– Иду, Ирочка!
– Ну, сколько можно трепаться? Мы уже остыли!
– Я же сказал – иду…
– Боб, это Люся, – тарахтела Ирочка.
– Очень приятно.
– А это – Борис Ильич.
– Здрасьте, – сказала Люся.
– Танец называется – «Рок во время дождя».
– Классное название, – сказал Боб.
Ирочка пришла в шоу-клуб из известной театральной студии при Дворце культуры «Люблино», где она имела успех, исполняя роль одной из четырех Джульетт в спектакле очень модного режиссера. Ирочка была платонической слабостью Бориса Гольдмана. Он заранее знал, что новый танец, который она репетировала с подругой, будет так себе, не очень чтобы очень, слишком манерный, довольно плоский, изрядно вычурный. Но… Ирочке он прощал все. Он выбил ей треть ставки, и она днями и ночами торчала в клубе, в глубине души считая, что принесла в жертву карьеру великой актрисы.
– Ну, как? – спросила Ирочка.
– Нормально, – сказал Боб, – нормально. По нашей провинциальной губернии сойдет. Скажи Роме, чтобы еще раз переписал фонограмму.
Боб вернулся в подсобку.
– Борис Ильич, а я к вам.
– О-о! Какие люди, и без охраны! Впрочем, ты уже сам командуешь немалой охраной. Я правильно угадал, Юрчик?
– За кого ты меня держишь, дружище? За фраера? Знаешь ведь, что старший преподаватель школы МВД капитан Строев обычно командует только одним подразделением – нарядом по кухне.
– Слушай сюда, Строев! На прошлой тусовке, когда твои архаровцы, как неквалифицированные вышибалы, пропустили драку, я вынужден был прерваться, и с тех пор у меня где-то по шкафам гуляет полбанки. Что ты по этому поводу скажешь?
– Если ты ждешь от меня сакрального – «на службе не пью», то не дождешься…
Бывший одессит, а ныне капитан милиции Юра Строев осуществлял шефство школы МВД над шоу-клубом «Фиеста», что выражалось в регулярных дежурствах курсантов на дискотечных программах, именуемых в миру «тусовками». За это Гольдман бесплатно проводил у «шефов» новогоднюю елку для детей сотрудников школы и вечер отдыха для учащихся, где сам лично из особой симпатии к Строеву исполнял роль Деда Мороза.
Разлили.
– Живы будем – не помрем, – начал Строев.
– Лехаим, – сказал Гольдман. Выпили. Закусили.
– За здравие, – продолжил Строев.
– Не взяло, – сказал Гольдман, разливая по новой. – Жизнь человеку дается один раз, и прожить ее нужно там, чтобы умирая… ну и тэ дэ…
– За прекрасных дам и иже с ними! – подытожил Строев. Выпили. Закусили.
– После состоявшегося обмена пошлыми тостами из нафталина обе договаривающиеся стороны наконец-то перешли к делу, – заявил Гольдман.
– Значит так, Боб. Сегодня к тебе на тусовку явятся любера.
– Откуда ты знаешь? Что, «Голос Америки» передал?
– Почти. Считай, что так.
– Похоже, что у вас с Тороповым один источник информации.
– Источник у всех один. Но сейчас это не важно. Наряд присылать не буду, приду сам и со мной еще пара ребят в «гражданке». Ты не психуй. На дискотеку это урло не сунется. Они подойдут после – бить панков и стиляг прямо в парке, тепленьких. Может, девок твоих пощупают. Сам не вяжись и своим скажи, чтоб не лезли. А я покручусь: посмотрю, что да как. До мордобоя не допущу – не бойся. О’кей?
– Ничего себе, хорошенький «о’кей»! А кто за все это будет отвечать? За драку? За разбитые стекла? За клумбу, будь она не ладна? Меня и так Сама сегодня за «нацев» отчитывала: почему, дескать, не привлекаю их к тимуровскому движению и к шефству над октябрятами. А ты мне этих люберов подсовываешь!
– Не психуй! Любера слишком обнаглели. Ломать их напрямую – не те времена, без толку, только обозлятся. Хотим попробовать взять их изнутри, скумекал?
– Ладно, валяйте. Только без пошлых эксцессов и резких движений. О’кей?
Когда после дискотеки вспотевшая толпа повалила к выходу, Боб отдернул плотные шторы и распахнул окна. Внизу в нарушение всех правил смолили девицы во главе с Ирочкой. «Придется применить репрессивные меры», – только и успел подумать Боб.
Их было человек тридцать, молодцеватая шпана… Впереди шел Вожак, крупный самец, «качок», за ним семенили самцы помельче, среди которых попадались и облезлые самки. Весь вид их говорил о том, что вот железной поступью идут настоящие советские ребята мордовать недобитков – панков с крашеными волосами, стиляг в белых носочках, наркоманов и гомиков. Они вышагивали напрямую, перекрывая выход плотным полукольцом. Неожиданно из-за спины Вожака выскочила прыщавая тень, в два прыжка подскочила к девчонкам и ни с того ни с сего рванула спереди Ирочкин блузон от шеи и аж до пояса. В ту же секунду прямо перед кодлой возник Юрчик. Он оттолкнул прыщавого и что-то сказал Вожаку. Вожак слегка попятился, а потом вдруг сделал резкий выпад вперед. Юрчик легко увернулся от удара, но в то же мгновение на него налетели двое молодчиков с нунчаками. Парни неплохо владели своими «игрушками»: не размениваясь на защиту, они сразу же начали молотить Юрчика. Гольдман зажмурил глаза. Ему показалось, что он слышал треск и чавканье расколовшегося на мелкие кусочки арбуза…
Когда Боб скатился по лестнице с третьего этажа, любера исчезли, как наваждение. На крыльце у входа толкались ребята, рыдали девочки, билась в истерика Ирочка…
В эпилоге (как говаривают серьезные писатели) я позволю себе все же кое-что добавить о некоторых участниках этой нелепой Истории, тлевшей десятилетия, и наконец так грубо рухнувшей в агонии весной 85-го.
Нацисты вскоре исчезли с московских окраин, как дым, не оставив и следа.
С люберами же в течение полутора-двух лет шла изнурительная многоходовая война с участием сил правопорядка и даже госбезопасности. В конце концов, они были вытеснены на задворки общественной жизни, но сохранили при этом боевые порядки и нет-нет да напоминают о себе внезапными вспышками криминальных хлопушек.
«Лучшие люди» из бывших «нацистов» и люберов вскоре перекинулись к нашим русобородым патриотам, что было обосновались на восстановлении останков Петровского городка, но силами нового Бышевского либерального руководства расформированы и некоторое время числились неформалами. Они обрели солидность, не скандалят, из шашлычной «Черепок» перебрались в ресторан «Звездочка» и там влили свои нетихие голоса в общенародный стон о самосознании и заговоре.
Сама была вдруг мгновенно сметена ельцинским ветродуем, ей едва удалось устроиться в школу учительницей истории, откуда ее при первой же возможности спровадили на пенсию.
Бывший инспектор отдела культуры Торопов ныне работает в совместном советско-швейцарском предприятии, специализирующемся на торговле компьютерами, а также возглавляет районное отделение общества «Трезвость и демократия». По слухам – весьма процветает.
Ирочка вместе с танцевальной группой «Секс-матрешки» отплясывает в каком-то итальянском ресторане. Пишет, что уже приобрела телевизор «Сони» и теперь копит на видеомагнитофон.
Капитан милиции Юра Строев месяца через три вышел из больницы и вскоре был уволен из органов по инвалидности. Ребята пару раз встречали его возле шашлычной, известной в народе как «Черепок», но Строев стеклянными невидящими глазами на опухшем лице смотрел мимо.
А на трассе Хайфа – Тель-Авив, миновав автобусную станцию и выехав за городскую черту вы, может быть, повстречаете высокого смуглого заправщика в черном комбинезоне и оранжевой майке. Вы сразу узнаете бывшего диск-жокея с Преображеники, хотя год в стране не прошел даром; парень вовсю шпрехает на иврите и ждет второго ребенка. Но не задавайте ему никаких вопросов о былом: многое, многое еще не забыто, еще бередит душу, еще является во сне. Да поможет ему Бог!
Да, чуть не забыл. На постаменте памятника соратнику вскоре после известных августовских событий 91-го появилась совершенно отчетливая, но безграмотная надпись: «сволачи мыля кпссники».
1992
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































