Текст книги "На рубеже веков"
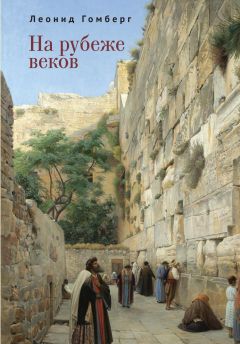
Автор книги: Леонид Гомберг
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 14 (всего у книги 14 страниц)
– Левин? Ну, ты даешь! – Декан медленно, но верно приходил в себя. – Прекрасная мысль: а почему бы ему не пойти на педагогический? Левину твоему… Прекрасная специальность! А потом он все равно получит диплом нашей Академии Дружбы…
– Но он хочет стать переводчиком!
– И пусть себе… хочет. Главное – диплом, а дальше – видно будет… Все, Лена, решили! Я записываю… Левин… Как его звать-то? Та-ак… На педфак… Там одного просунуть можно – у меня есть резерв… И Волобуев из «единички» свой человек… Отлично… Лена, уверяю тебя, это еще лучше – ты мне сама спасибо скажешь!
– Неужели ничего нельзя придумать?
– Ну ты, честное слово, Лена – как ребенок! Не понимаешь простую вещь: на спермфаке вообще нет никакой процентной нормы! Сказано ясно и лаконично: «Не принимать!»
– Но…
– Никаких «но»! Но я знаю, что ты имеешь в виду… Только по специальному звонку оттуда! Не откуда-нибудь еще, а только оттуда, и только по специальному звонку. Я тебе этого не говорил (впрочем, наивный человек, кроме тебя, все и так знают!), но в этом году такой звонок уже был…
– И кто же это, если не секрет?
– Секрет. Но все уже знают… Ширинкер Осип, хороший парень, спортсмен-разрядник, – декан понизил голос до неузнаваемости и поднял вверх указательный палец, – племянник личного переводчика Генерального…
На очередном семейном совете, где тетя Лена вслух изложила все свои невеселые соображения, случилось непредвиденное и невозможное: я категорически отказался от предложенной мне педфаковской компенсации. Уперся как осел… Какая муха меня укусила – понятия не имею… Дух неповиновения вселился? Логикой этого не объяснишь… Чему я хотел противостоять? Системе?.. Да таких вот шустрых муравьишек давили толпами, походя, даже не замечая корчащихся полутрупиков!
Знающие люди пытались отговорить меня от «опрометчивого шага», но как-то вяло, неуверенно, без напора. И я подал документы на этот самый спермфак…
Вступительные экзамены начались с иностранного языка, где проходил первоначальный «естественный отбор»… Логично: чего тянуть резину чужого эспандера. Но, получив пять баллов на старте, можно всерьез рассчитывать на хороший финиш. Я получил лишь четыре. Меня битый час гоняли по таблице спряжения неправильных глаголов, но знающие люди верно информировали меня о тех ребусах, которые вынуждены решать суетливые горемыки, намеченные на засыпку. Что толку: это был первый звонок… Дальнейшее сопротивление было не только бесполезно, но и глупо. Однако моя злая муравьиная судьбишка зачем-то тащила меня на большую дорогу под копыта обезумевших конников.
Оба экзамена по литературе, и устный и письменный, я сдал на «пятерки», а поскольку общий проходной балл вырисовывался где-то в районе «восемнадцати», то на последнем экзамене по истории СССР меня и должны были окончательно прихлопнуть. Я это знал точно. Ведь даже паршивенькая «тройка» еще оставляла мне какие-то шансы, пусть и призрачные…
Случилось именно то, что и должно было случиться: я получил «неуд». Со мной не мудрствовали лукаво, не заманивали в ловушку, не подкидывали вопросики на засыпку – на всю эту декоративную муру времени тратить уже не стоило. Мне объявили прямо, по-партийному, что я «вобщем-то, представляю себе суть вопроса», но при этом я «исказил политическую сущность исторического события». А вы понимаете, что значит: исказить политическую сущность? В свое время за это давали «двадцатку», а то и к стенке ставили, я же отделался каким-то либеральным «неудом»… Значит, мне еще повезло.
Тем же летом я поступил в другой вуз, тоже, конечно, с процентной нормой, но, видно, не такой драконовской – и жизнь пошла по иной колее: в парижские командировки отправляли с дальней платформы, от которой меня отделяли ревущие пропасти, заполненные несущимися поездами. Однажды я чуть было не влип в историю: меня почти уже пристегнули к одному знаменитому процессу начала 70-х, но в последний момент обо мне почему-то забыли… А я уже примерял белые одежды страдальца и мысленно прочерчивал небесную трассу изгнанника до аэропорта Орли. А коли в Париж отпускали лишь загранкомандировочных или политэмигрантов (а мне не суждено было стать ни тем, ни другим), все для меня было кончено… навсегда.
Я перешел в иную реальность, когда мир стал другим, стал другим и я… Ушел на восток, а не на запад, ни о чем не жалея, оставив убогое свое прошлое в разоренной квартире на московской окраине, ушел туда, откуда нет пути назад, только вверх, к бездонной четырехмерности пространства Мория, в горний Иерусалим; ушел навсегда, а значит, все равно, что исчез из времени, в последний раз незряче обернувшись на оставленную кучу хлама, который больше не понадобится – старые разношенные сандалии, дырявый плащ, широкополую шляпу, сломанные перья, хрустальный бокал, пустые бутылки, порванные страницы дешевых брошюр и общих тетрадей…
Так я думал тогда.
Но вот я почему-то возвращаюсь, казалось, лишь на мгновение, извлекаю из мусорной свалки древнюю книжонку о парижских прогулках на адаптированном французском и потертую ажурную башенку, перебираю в руках свое богатство, как бы раздумывая, на что оно мне, потом кладу его на единственной колченогий стул, оставшийся в моем прежнем жилище – и ухожу… ухожу прочь…
1995
Ульпан на улице Герцль
Говорят, что такой зимы не случалось вот уже лет сто. Дождь идет почти непрерывно, то усиливается, то ослабевает, то с шумом вываливается, как из опрокинутой на голову банной шайки. Деревья стоят понурые и удивленные. Набережная мерцает стеклянным пустоцветом кафе и пабов. Море сердито покашливает и недовольно урчит.
– Ну и дела, – говорит сиплым простуженным голосом днепропетровская хохлушка Таисия, чья бабушка по материнской линии, как выяснилось, была еврейкой, – ну и дела… Даже и не вспомню такого. Году так в семидесятом ездили мы к свояку в Ленинград, аккурат весь месяц лило без продыха…
Таисия ходит в ульпан прилежно, слова записывает русскими буквами, запоминает плохо. Мы стоим под навесом и ждем начала занятий. Дождик бубнит свое. Таисия ежится, молчит, что-то вспоминает.
– Слушай, дочку-то мою запишут еврейкой, ты как думаешь? Ведь мужик-то мой русский был, сама я по батьке хохлушкой выхожу. А-то болтают, идти нужно к раввину, подтверждать там как-то…
– Не волнуйся, – отвечаю, – все у тебя в порядке.
– А ты откуда знаешь?
– По закону твоя дочь еврейка.
– Ну? Странно как-то… А-то, знаешь, разное болтают. – Таисия замолкает, будто дремлет, но вдруг встрепенувшись, говорит опять. – В квартире у нас черт что, Содом какой-то: местные на второй половине бузят по ночам. Я уже не говорю, что обогреватель жгут и шарманку на всю мощь крутят…
– Надо хозяину сказать, зачем же терпеть-то?
– Да как скажешь-то? Он ведь по-русски не в зуб ногой. Вот этих наших местных возьми… Говоришь им, да что толку! Мы ведь за электричество пополам платим. А им хоть бы хны. Знай давят себе на полную громкость. Верка, дочь моя, всю ночь глаз не сомкнет, мается, ребенок тоже не спит – беда, да и только.
– Так что же это? Гости к ним что ли приходят?
– Гости – не гости, сами всю ночь не спят.
– Всю ночь? Они, что, по ночам музыку слушают?
– Экой ты бестолковый! Из Марокко они, африканцы, мать их за ногу, прости Господи. Горячие, видно, очень. Раз по пять – по шесть за ночь орут благим матом, а перегородка-то тонкая, вот они врубают шарманку, да еще и вопят, как мартовские коты. Я им говорю: что ж вы, ребятки милые, делаете, спать не даете ни ребенку, ни мне, старухе. А этот черный, осанистый такой, пальцем мне в лоб тычет: «мишугаат», чокнутая, дескать, – это секс, и рукой так показывает – это секс, мол, мамаша! Тьфу, ты черт, прости Господи! Сил больше моих нету. Верка с ног валится. Да еще дождь этот, холод собачий.
– Да, потоп…
По утрам народ на занятия собирается туго. Подходит бывший «комсомольский бог» Раймонд с красавицей-женой манекенщицей Алиной. Бывший милиционер Боря из Тюмени. Вывший директор завода симпатичный толстяк Микаэль с супругой Аидой. В глазах судорожно пляшет главное: ну, как у вас? что у вас? есть работа? как собираетесь жить дальше?
Мария возникает неожиданно, быстрая походка, нервные движения, высокая, щедро расплескивает свое настроение. Она родилась в Казани от татарина и еврейки, вышла замуж за ленинградца Вову и родила сына. И вот привезла всех сюда.
Вова, подвыпив, твердит: «Знаю, мля, одно – во всем виноваты евреи: там, курвоёбы, революцию затеяли, здесь честным людям жить не дают…» Мария смотрит с тоской – ну, что с больного взять, акромя анализов? «Уеду, падла», – твердит Вова. «Давай, давай, – не перечит Мария, – здесь без такого хмыря, как ты, в десять раз легче. Найдутся добрые люди…» «Я тебя сейчас, падла, буду убивать», – начинает вскипать Вова, и Мария знает, чем может кончиться такой «разговор».
Микаэль стоит в сторонке, виновато улыбается, перебирает бумажки с «ивритскими» словами, шевелит толстыми губами, бормочет…
– Там все было – машина, дача, квартира, мы вот новый цех открывать собирались – по переработке отходов, передовое дело, понимаешь. Да вот решился. Моя-то говорит: надо, Мишечка, ехать, парню в армию скоро, а там, сам знаешь, дела-то какие, дедовщина, потеряем сына-то… Да, тяжеловато будет, тяжеловато.
– Мишутка, сумку бери, иди сюда, бананы по дешевке дают, – через улицу кричит Аида. Микаэль забегает в класс, растворяется. Идет дождь. Потом вдруг косолапо ковыляет с сумкой через дорогу, глубоко втянув голову в плечи. Кажется, все существо его вопиет: цех, понимаешь ли, открываем по переработке…
Какой цех, Миша? Зачем?
Алина цедит небрежно: «Вальку-то, сучку, помните? Ну, недели две первые в ульпан ходила, все выпендривалась: “Ма нишма? Ма шломха?” Нашла-таки себе ватика-алкоголика. В стране лет десять, нигде не работает. Говорит: “А на хрена мне работать, вы-то на что? Мы были борцами за сионистскую идею, а вы за колбасой приехали. Вот и вперед – дерьма вокруг много, разгребайте!” Так вот. Вчера заявился пьяный, Валькина мать встала в дверях и орет: “Не пущу, не дам ребенка калечить!” А он бабке по голове, прямо в висок попал. Вдруг Валька из-за ее спины как выскочит, да как вцепится ему в рожу…»
Алина оживляется. Она долго говорит о том, как вызывали полицию, как увозили их обоих, как Валька так ни черта и не смогла объяснить на иврите. В конце концов, их выпустили, Валька вернулась домой на такси, заняла у Алины двадцатку, а с утра забаррикадировала дверь, ждет «разборку»…
– Не знаю, не знаю, – говорит Боря, бывший страж порядка, – надоело слушать, как вы все плачетесь.
Боре повезло, у него связи. Он работает мусорщиком по специальной программе в городской мэрии – после уроков в ульпане. Зарабатывает.
– Вчера зашел в кабак на набережной: одни «наши» сидят, репатрианты, водку жрут. И все стонут – денег нет… Не, ребята, лучше бы вам сидеть в России. Там «совок», а здесь нормальные капиталистические отношения. Сопли распускать некогда…
Мария говорит вдруг странным громким шепотом: «Ты Наталью-то помнишь, тихая такая ходила, ты еще сказал, глазищи у тебя, мать, виноватые, как у коровы, помнишь? Муж с ней развелся, как с «гойкой», нееврейкой то есть, автоматически расторг брак, а свекровь сказала, ты нам нужна, чтобы смотреть за ребенком, будем тебя кормить, а ты станешь за детём ухаживать, ну, гулять там, пеленки стирать. Я ее вчера в парке встретила: с колясочкой сидела, убитая. А куда ей деться-то?
– Ну, я не знаю, – в Россию обратно.
– Да у нее документов никаких нет, все родственнички спрятали. А потом, как она без ребенка-то останется. Ей помочь надо, а то надумает еще что-нибудь…
– Я вообще не понимаю, о чем вы толкуете, – обиженно встрял в разговор Раймонд. – Израиль – это страна для евреев. Понаехали тут не знамо кто, а теперь стонут. Раньше надо было думать…
Идет дождь, но не бесцельно и нудно, а как-то вдруг вздергиваясь и прицеливаясь…
Может быть, и прав этот Раймонд? Да и где мы все сегодня? Когда-то еще встанут на ноги и поднимутся в невидимую даль будущего Мария, Микаэль, Таисия – из своих Днепропетровсков и Тирасполей? Узрят ли невозможный и немыслимый свет Книги? Почувствуют ли влагу и аромат Святой Земли? Остановятся ли, исступленно притихнув, у Стены плача?
Но увидели, спиной почувствовали, приосанились, заулыбались: идет мора Ханна, учительница Ханна, маленькая израильтянка с кожаной сумкой через плечо. Ты, Ханна – единственная тоненькая ниточка, связывающая их сейчас с той невероятно далекой Землей, до которой им предстоит так нескончаемо долго брести среди утрат, воспоминаний, надежд, нелегких обретений.
Сейчас они сядут за парты, бывшие милиционеры и директора, фарцовщики и философы, манекенщицы и инженерши. Ханна напишет на доске сегодняшнюю дату, но не привычными цифрами, которыми начислялись зарплаты и нумеровались партийные съезды, а какими-то древними знаками, выплывшими вдруг из глубин Вечности и означающими Время от Сотворения Мира.
1992
Так начиналась новая жизнь
К 30-ЛЕТИЮ УКАЗА ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР «О МЕРАХ ПО УСИЛЕНИЮ БОРЬБЫ ПРОТИВ ПЬЯНСТВА И АЛКОГОЛИЗМА, ИСКОРЕНЕНИЮ САМОГОНОВАРЕНИЯ» ОТ 16 МАЯ 1985 ГОДА
С недавних пор у нас происходят странные вещи.
В Доме культуры имени Надежды Константиновны, где уже лет пятнадцать трудится мой давний приятель Леха Миров, после жестоких андроповских репрессий вдруг отменили обязательную регистрацию прихода и ухода сотрудников. Амбарная книга с записями еще некоторое время валялась в гардеробе без всякой надобности, пока кто-то не нарисовал на обложке смачный мужской член с коварной подписью «ум, честь и совесть нашей эпохи». Все бы ничего, да только рисунок был выполнен с таким виртуозным мастерством, с такими удивительными подробностями, что след этого художества сам собой потянулся в студию изобразительного искусства, которая входила в отдел культмассовой работы, возглавляемый Мировым на общественных началах. Впрочем, следствие, возбужденное администрацией так ни к чему не привело. После этого прискорбного факта книга была окончательно изъята из обращения, но еще некоторое время в качестве вещдока лежала на шкафу в кабинете завуча.
На фоне этого безобразия по радио заговорили об ускорении и гласности. Я сам наблюдал, как дядя Коля с Преображенки пытался выговорить слово «интенсификация» в своих поучениях окрестным алкашам и даже поспорил с Мировым на бутылку пива, удастся ли ему эта непростая затея. Но через несколько минут томления всем пришлось согласиться на ничью. Ну, это к слову…
Потом заговорили вслух, что евреев скоро начнут выпускать за кордон, но я, признаться, в это совершенно не верил. Начнут отпускать понемногу – попрут все, кто-то под видом евреев, кто-то под видом членов семей, а кто-то и просто так за компанию – потому что разрешили. Никакой Израиль не выдержит.
Дальше – больше: вдруг без всяких видимых причин закрыли на капремонт пивную напротив.
А тут еще поползли угрожающие слухи о намерении властей прекратить продажу спиртных напитков и объявить «сухой закон», чтобы, как пояснил дядя Коля, «мировая закулиса окончательно не споила русский народ». Откуда эта «закулиса» взялась, и на кой хрен ей русский народ, дядя Коля не знал.
Настроение, однако, было мутное. Руководитель поискового краеведческого отряда Леха Миров уже час томился в ожидании своего преданного ученика и оруженосца, студента-медика Ромки Конецкого, который имел твердое обыкновение приходить «к шефу» после рабочего дня под выходные с обязательными тремя бутылками портвейна «Чашма», продававшегося в соседнем магазине, прозванном «девятнадцатым» за неимением настоящего имени. Ромка с ранних лет ходил с Мировым в экспедиции, объехал полстраны, думал поступать на геофак, но неожиданно свернул в медицину, о чем, впрочем, не жалел и даже иногда притаскивал «шефу» с практики пузырек со спиртом. В ожидании припозднившегося «медика» (так Миров называл Конецкого, когда злился) Леха открыл Журнал посещаемости занятий, но работать не мог, переживал и тупо смотрел на белые разлинованные страницы.
От нечего делать Миров взглянул на часы, свои любимые, командирские, потом нажал кнопку и увидел дату: 16.05.85.
Тут дверь, наконец, открылась, и он… не увидел даже, а именно почувствовал растерянное, перевернутое лицо Конецкого.
– Ну? – спросил Миров.
– Хреново, – ответил Конецкий. – «Девятнадцатый» закрыт.
– Ты спросил Зинаиду? Дверь подергал?
– Глухо. Там висит замок. Наверно, проворовались.
– Что делать будем? – в задумчивости проговорил Миров.
– Пошли на Преображенку. В большой гастроном.
Миров был раздосадован: не удалось принять на грудь сходу. Непруха! А он уже загодя приготовил пару аппетитных бутербродов с колбасой и даже соленый огурчик припас. Выбирать, однако, не приходилось. Миров уложил в сумку закуску, прихватил на дом Журнал посещаемости, надел ветровку и мрачно выдохнул: «Пошли!».
Стояла вдохновенная теплынь середины мая. Светило солнце, неяркое, весеннее, предвечернее. Листья на тополях совсем раскрылись, обрели силу и цвет. Да, стакан портвейна явно не помешал бы освежить настроение…
В гастрономе «Преображенском» происходило немыслимое. Все отделы – бакалея, овощи, мясо-рыба – торговали в обычном режиме, – там шумели очереди, кипела жизнь. Только вино-водочный пребывал в глухом оцепенении: у прилавка, где в это время суток обычно на смерть бились изголодавшиеся за день работяги, царило гробовое молчание, на полках, глумливо ухмыляясь, ровными рядами выстроились бутылки грушевой воды. Продавец в отделе отсутствовал за ненадобностью.
Друзья вышли на улицу. Неподалеку стоял здешний завсегдатай дядя Коля и что-то азартно втолковывал двум поиздержавшимся забулдыгам. Миров и Конецкий подошли поближе, но, собственно, ничего нового не узнали: сегодня в силу вступил указ, регулирующий торговлю спиртным; согласно указу алкоголь должны продавать с 14 часов, но отдел так и не открылся – ни в 14, ни в 15 – никогда. Действительно, про указ слышали все, но никто не предал этому особого значения. В стране время от времени проходили компании борьбы с чем-нибудь мало осязаемым: с табачным дымом, бракоделами и «несунами», низкопоклонниками перед иностранщиной. Началу таких компаний всегда сопутствует некоторое неудобство жизни. Ну, вроде того, что при запрете на курение в ресторанах приходилось платить официанту рубль за то, чтобы он принес пепельницу и отвернулся. Мы, конечно, одобряем меры, но по искоренению действуем лениво. Такого свирепого начала не ожидал никто.
Миров и Конецкий постучали в подсобку. Через несколько минут дверь приоткрылась, и в щель просунулась взлохмаченная голова Борьки-Валета, тутошнего кладовщика, известного бабника и «каталы» из ресторана «Уксус».
– Вам что? – спросил Борька.
– Красное есть?
– Ничего нет.
– Как ничего? А что есть?
– Ничего.
– И водки нет?
– Нет.
– А будет?
– Не знаю. Ночью мы все запасы «скинули», а больше ничего не привезли.
– А пиво? – с отчаянием выдохнул Конецкий.
– Какое пиво? Пива у нас уже полгода нет.
– А что делать, Борь?
– А я почем знаю… Все, ребята. У нас ревизия.
Борька с раздражением захлопнул дверь перед носом страждущих.
Ребята остались в полном недоумении. На улице дяди Колина компания стояла с потухшим взглядом. В воздухе разлилась безнадега.
– Поехали на Самотеку, – вдруг уверено сказал Миров. – Я там всех знаю.
Далековато, конечно. А что делать? Сели на метро и поехали.
На Самотеке их ждал очередной удар ниже пояса: в помещении винного магазина открылся кондитерский отдел соседней булочной. Ничего подобного невозможно было разглядеть и в кошмарном сне.
Миров первым пришел в себя и потащил товарища по несчастью в Столешников. Но и там полный облом: магазин, который с дореволюционных времен москвичи называют «Дюпре» по имени старого хозяина-француза, был закрыт на огромный висячий замок. Наверно, впервые после НЭПа.
В полном отчаянье ребята бросились в Елисеевский гастроном на улице Горького. Это был последний шанс. Близилось время закрытия. Как говорил классик, дальше – тишина. Но Елисеевский работал, винный отдел пребывал в оживлении, там даже сформировалась небольшая очередь. Неужели повезло? То, что увидели Миров и Конецкий, находилось за гранью привычной реальности: народ бодро раскупал дорогущий грузинский коньяк «КВ» семилетней выдержки за 17 рублей 40 копеек – так называемую «белую головку», – который и к праздничному столу могли позволить себе немногие.
Объявили, что отдел скоро закрывается, и что, мол, просьба освободить… Ребята пересчитали наличность – вышло 9 рублей 80 копеек. Не так плохо, казалось бы: на эти деньги можно было купить две бутылки водки, уж не говоря о портвейне «Чашма» – целый банкет закатить! Но сейчас это богатство оказалось совершенно бесполезным.
– Граждане, прошу освободить помещение, – послышался чей-то тусклый голос.
Миров только и успел подумать: ну, все… Он резким движением сорвал со своей руки любимые командирские часы и заорал:
– Глядите, товарищи, часы новые, почти японские, за червонец отдаю…
Он поднял часы над головой, словно знамя.
– Глядите, товарищи…
Остатки небольшой очереди повернулись к нему и взглянули, – кто с жалостью, кто с досадой, а кто и возмущением…
Вдруг, откуда не возьмись, появились местные работнички порядка и принялись буквально выталкивать некрупную Лехину фигуру из магазина…
– Часы новые, за червонец, – орал окончательно скомканный Миров.
Конецкий бросился на помощь. Но обоих как-то вдруг очень быстро и профессионально скрутили и вытолкали на улицу…
– Ты, халуй, сука, не трогай меня руками, падла. Люди вы или нет!..
Из упавшей на тротуар сумки вывалились Журнал посещаемости, бутерброды, соленый огурец, футляр для очков, авторучка.
Миров стал запихивать свое хозяйство обратно и вдруг, как бы передумав, принялся швырять помятую закуску в спину «халуев», потом встал на четвереньки и завыл по-волчьи: у-у-у-суки-и-и-и… Ромка бросился подымать друга.
– Леш, а Леш, успокойся, а… Еще не все потеряно. Пойдем, поищем у таксистов…
Но Леха Миров не унимался: у-у-у-суки-и-и-и… комуняки-и-и-и…
Пройдет неделя-другая, и толпы страждущих организуются и выстроятся в нескончаемую очередь от Калининграда до Владивостока, будут стоять в ней сутками, платить вдвое и втрое за бутылку «бормотухи», травиться, отлеживаться, отпиваться чайком и вновь занимать очередь поутру. Правда, потом… Но это будет еще не скоро.
– Леш, а Леш, давай поднимайся, поехали к трем вокзалам.
Так начиналась новая жизнь.
2015
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































