Текст книги "На рубеже веков"
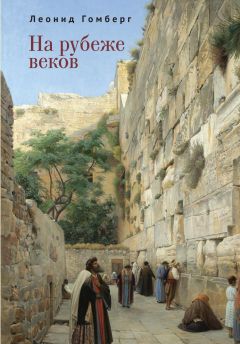
Автор книги: Леонид Гомберг
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 14 страниц)
Левитанский рассказывал, что 53-я Армию должны были передислоцировать в теплую и спокойную Одессу. Однако высшее руководство решило иначе. В результате Левитанский оказался в Монголии на «маленькой войне» (так он говорил) с Японией.
В июне 1945 года подразделения 53-й Армии по железной дороге отправили в Монголию. Состав проследовал по маршруту Прага – Варшава – Минск – Москва и далее на восток, всего 40 суток пути. Остановки поезд делал только ночью.
В середине июля в городе Чойбалсан была сосредоточена группировка советских войск, в том числе и подразделения 53-й Армии.
«Маньчжурский поход» – заключительный поэтический цикл в книге Левитанского «Солдатская дорога» с многочисленными топографическими именами – хорошо отражают реальную военную ситуацию на местности. Кроме топонимов – Керулен-река, Большой Хинган, город Фусин и других, в текстах немало и важных бытовых подробностей с ценной информацией о военных буднях на экзотическом Востоке.
…В начале августа 53-я Армия была включена в Забайкальский фронт, которому предстояло участие в Хингано-Мукденской операции. Задача войсковых соединений фронта выглядела так: форсированным маршем пройти территорию Монголии, потом пустыню Гоби, преодолеть хребет Большой Хинган и выйти в тыл Квантунской армии. Японцы считали, что такой переход не возможен.
Марш, начавшийся 20 июля, был крайне тяжелым. Мемуарист, участник событий, пишет: «Неласково встретила воинов мертвая, раскаленная пустыня. С каждым днем все глубже и глубже вторгались гвардейцы в безлюдное, унылое пространство монгольской безводной степи. Она удивила людей своей бескрайностью, казалось, ей не было конца. Ни деревца, ни травинки, кругом раскаленный песок, а над головой нещадно палящее солнце. Ночью же температура была минусовой».
Снова рассвет.
На этой заре
Начнутся четвертые сутки похода.
По серым дорогам,
по дикой жаре
Трясутся обозы, пылит пехота.
Как медленно тянуться версты пути!
Когда уже в легкие пыли набьется
И нету желания кроме —
дойти! —
Мы вдруг различаем приметы колодца…
(«Поход», «Солдатская дорога»)
«Части растянулись длинной вереницей, – продолжает мемуарист. – Был установлен строжайший питьевой режим. Боеприпасы и вооружение транспортировались на конских вьюках, на верблюдах. 12 дней твердо шагали гвардейцы, глубоко утопая в песке. Постепенно люди стали уставать, падать. Но они снова поднимались и шли на штурм мертвой пустыни. В последние дни преодоления пустыни Гоби, когда на горизонте стали вырисовываться предгорья Большого Хингана, когда люди, казалось, совсем выбились из сил, командир дивизии приказал развернуть в частях боевые знамена».
За двенадцать дней войска преодолели безводную пустыню Гоби и вышли к Большому Хингану, – его ширина 300 км горного бездорожья.
«Медленно, по два-три километра в час двигались полки на перевалах. Движение давалось с большим напряжением сил и воли. Камень, покрытый сплошной пеленой тумана, отсутствие растительности – вот что увидели на вершине Хингана гвардейцы. И вот Большой Хинган взят! Небольшие гарнизоны японцев, прикрывавшие подступы к Маньчжурии, не выдерживали натиска частей дивизии. Бросая оружие, японские солдаты оставляли боевые позиции. Пленные говорили, что они никогда не ожидали, что русские появятся именно здесь, что преодоление Хингана в этом месте – это подлинное чудо».
Эти воспоминания точно соответствуют фактам, настроению, а также топонимике стихотворений цикла «Маньчжурский поход», что наглядно свидетельствует о непосредственном участии поэта и солдата Левитаского в этой сложнейшей военной операции.
Между тем, события развивались с удивительной быстротой.
23 августа войска вышли к Маньчжурии.
27-28 августа – форсировали реку Ляо-хэ (упоминается Левитанским в одном из стихотворений цикла) и вышли к городу Тун-ляо. Преодолев переход в 1500 км, войска появились в тылу японцев, что было для тех полной неожиданностью.
2 сентября 1945-го после молниеносного разгрома Квантунской армии был подписан акт о капитуляции Японии. И уже в октябре 1945 года после возвращения в Россию 53-я Армия была расформирована. Левитанский оказался в Иркутске.
9 мая 1946 года «военнослужащий редакции газеты “Советский боец” Восточно-Сибирского военного округа» лейтенант Юрий Левитанский был награжден медалью «За Победу над Японией».
Много лет пройдет… Давид Самойлов издаст около трех десятков сборников оригинальных стихов и переводов, литературоведческий труд «Книгу о русской рифме», а в перестройку – и двухтомник (1989). Песни на его стихи будут исполнять барды и даже «официальные» композиторы. Он станет одним из самых известных поэтов своего – военного – поколения. Еще в советское время он будет награжден Орденом Дружбы народов (1980) «за заслуги в развитии советской литературы», а потом и Госпремией СССР (1988). Самойлов вместе с семьей будет жить в Безбожном (ныне Протопоповском) переулке в одном подъезде со своим другом Юрием Левитанским и, даже перебравшись в Пярну, изредка появляться в своей московской квартире. Вот тогда между двумя близкими друзьями, фронтовиками, разгорится нешуточный спор о минувшей войне – чем стала Отечественная Война для них, для их поколения, для страны…
В одном из интервью 90-х годов Левитанский прямо скажет: «Отношение к военной теме было, кажется, единственным, в чем мы не сходились с Давидом Самойловым, человеком оригинального, мощного ума».
Вдова Давида Самойлова Г.И. Медведева, часто присутствовавшая при разговорах двух поэтов, писала: «Участие свое во фронтовых действиях задним числом Юра решил считать если не вовсе ненужным, то неудобным, по крайней мере, объясняя, что «был Маугли, выросший в джунглях» и не знал всего, что известно сегодня о преступной власти, и тем самым как бы защищал ее с оружием в руках. То, что защищал Родину, – выпадало. Отказ от собственной судьбы, какой бы вновь поступившей информацией ни был вызван, все же удручал».
Вот как это объяснял сам Левитанский…
«Когда меня спрашивают, как вы этого не понимали, когда все так очевидно, я отвечаю: я был Маугли, выросший в джунглях и ничего другого не видевший. Откуда Маугли мог знать о существовании другого мира? Если в нашем круг кто-нибудь знал правду или догадывался о ней, даже среди родных, он вряд ли решился бы сказать об этом подростку».
В начале войны Левитанский, как почти все его однокурсники, ушел добровольцем в самые первые дни. «Мы уходили воевать, – рассказывал поэт, – строем пели антифашистские песни, уверенные, что немецкий рабочий класс, как нас учили, протянет братскую руку, и осенью мы с победой вернемся домой».
Понимание пришло гораздо позже, постепенно, окончательно сложившись в конце 80-х годов, когда были обнародованы многие документы, до той поры остававшиеся недоступными для общества.
«Я не люблю говорить о войне, ухожу от расспросов о тяжелом ранении… Я решительно пересмотрел свое отношение к войне… А ведь испытывал больше вины, чем счастья, поскольку странам Восточной Европы принес, по сути, не свободу: “Ну что с того, что я там был…” – первый своеобразный итог моих размышлений».
Давид Самойлов считал иначе: «Солдат 41-го года, и 42-го, и 43-го воевал против злой воли и несправедливой силы нашествия. Он воевал на своей земле, оборонял свою землю. Патриотизм 41-43-го годов был самым высоким и идеальным. В нем было нравственное достоинство обороняющегося патриотизма».
Однако, по его мнению, в 1945-м ситуация изменилась, он писал: «Армия сопротивления и защиты неприметно стала армией лютой мести. И тут наша великая победа стала оборачиваться моральным поражением, которое обозначилось в 1945 году. Для исторического возмездия за гитлеризм достаточно было военного разгрома Германии и всего, что было связано с военными действиями в стране. Достаточно было морального разгрома фашизма, крушения его доктрины…»
На самом деле, разница позиций двух замечательных поэтом не была такой непреодолимой, как это порой казалось окружающим, а может быть, и им самим. Во всяком случае, споры их никогда не становились причиной обид и недоверия друг к другу…
Из книги «Юрий Левитанский. Небо Памяти. Творческая биография поэта» (М.: Издательство АСТ, 2022)
Невозможная встреча. (Михаил Козаков)
1
14 октября 1994 года в Тель-Авиве на зеленой лужайке пригородного парка Козаковы – Михаил Михайлович, его жена Анна Ямпольская и сын Миша – вместе с самыми близкими друзьями выпили за здоровье юбиляра и таким образом отметили шестидесятилетие одного из самых блестящих артистов России последних десятилетий.
«Моя жизнь оказалась… очень длинной», – говорил Козаков. Оглядываясь назад, он не без удивления сообщал, что отрезок пройденного им пути вмещает в себя слишком много событий, долгую череду ярких переживаний – от столкновения и переплетения с судьбами не менее яркими, характерами выдающимися – и в повседневной жизни, и в сценической работе.
Козаков любил возвращаться к своему детству и вспоминал его подолгу, удивляя собеседников занимательными подробностями. Его отец, писатель Михаил Эммануилович Козаков, родился под Полтавой, где делил свои детские игры с «Дуней», будущим знаменитым композитором Исааком Дунаевским. Мать, Зоя Александровна Никитина, также литератор. И жили они в писательском доме на Канале Грибоедова в Ленинграде, где Козаков родился и вырос. Все его детские впечатления готовили мальчика к будущей стезе – не только замечательного артиста и режиссера, но и тонкого знатока поэзии, блестящего чтеца, талантливого писателя-мемуариста.
В том же доме, по соседству с Козаковыми, жил Михаил Зощенко, «дядя Миша», а также «дядя Женя» Шварц, по пьесе которого Михаил Михайлович через много лет поставит телефильм «Тень». В квартире напротив проживал известный литературовед Борис Михайлович Эйхенбаум. В доме часто бывала Анна Ахматова, и он помнил, как она читала свои стихи. Позже, в Москве, он не раз слышал Бориса Пастернака. Эта атмосфера, преломившись в детском характере, формировала мастера.
Интересно, что Козаков никогда стихов не писал, даже в детстве, но любовь к поэзии явилась, по его собственному выражению, «неизлечимым недугом». Он вообще никогда специально не заучивал стихов для эстрады: стихотворение как бы помимо его воли «проникало внутрь», а вскоре являлась необходимость «поделиться им» с окружающими.
В Ленинградском Дворце пионеров Миша Козаков занимался в кружке художественного слова вместе с другим замечательным мальчиком – Сережей Юрским. Однажды им выпало счастье читать стихи самого И. В. Сталина!
«Представьте эти послевоенные годы, – рассказывал Козаков, – когда победа в войне ассоциировалась с именем Сталина… И ты стоишь гордый, в красном пионерском галстуке, счастливый от того, что именно тебе выпала честь читать его стихи, – и это правда, и от нее никуда не денешься… А в это время твоя мама второй раз в тюрьме, а в коридорах нашего писательского дома еженощно слышен стук сапог, а это значит, что кого-то опять уводят, – это тоже правда, и от нее тоже никуда не деться. Так моя жизнь начиналась, и так она идет – в невероятном качании сознания, и спрятаться от этой жизни нельзя… В Израиле, между прочим, тоже…»
Его «шестидесятничество» началось еще в конце пятидесятых с поступлением в школу-студию МХАТ, где Козаков встретился со своими соучениками, замечательными артистами, оставившими заметный след в театральной культуре России: сокурсниками Евгением Евстигнеевым, Олегом Басилашвили, Виктором Сергачевым; старшекурсниками – Галиной Волчек, Леонидом Броневым, Игорем Квашой; «младшими» – Валентином Гафтом, Евгением Урбанским, Владимиром Высоцким… Здесь «ковались кадры» будущих «Таганки» и «Современника», легенд российского театра.
«Шестидесятничество»… Не все тот же ли это «маятник сознания», о котором твердил Козаков? Белла Ахмадулина однажды заметила: не стоит идеализировать эти самые «шестидесятые»; когда она, молодая, восторженная, декламировала свои вирши в Политехническом, в Ленинграде шел процесс над Бродским.
В самом деле, коротки и зыбки были эти самые «шестидесятые» (да и были ли они вовсе?): начавшись «фестивальным» 57-м, они одряхлели уже после «манежного погрома» 62-го, почили в бозе после «дворцового переворота» 64-го и были окончательно раздавлены танками 68-го! Дальше – тишина…
Но если, абстрагируясь от «исторической перспективы», взглянуть прицельно на отдельные судьбы, Михаила Козакова, например, то непростая эта година увидится и «звездным часом», и «российским мартом», коль уж назвали «апрелем» эпоху горбачевских реформ.
Вся творческая биография Козакова в России как на ладони: от роли юного негодяя Шарля Тибо в фильме Михаила Ромма «Убийство на улице Данте» до телефильма «Тень», вышедшего на экраны перед его отъездом в Израиль.
Важно другое: Козаков всегда любил уходить, и эти его уходы, казалось, вовсе нелогичные, явились на поверку необходимыми этапами творческого развития мастера. После окончания школы-студии, уже будучи принятым во MX AT, он вдруг уходит играть Гамлета к Охлопкову, затем уходит от Охлопкова в «Современник» к Ефремову, потом оставляет Ефремова и переходит к Эфросу, уходит от Эфроса и пускается в «свободный полет», работая в театре, на телевидении, в кино, и, наконец, бросает все – и на 57-м году жизни вместе с семьей отправляется в Израиль.
Это уже была совершеннейшая авантюра: что могла дать русскому актеру и режиссеру маленькая средиземноморская страна с двумя государственными языками – ивритом и арабским, которые он вряд ли мог отличить один от другого, имея в своем лексиконе единственное иностранное слово «шалом»?
Именно этим объясняется повышенное внимание к Козакову со стороны израильской, особенно русскоязычной прессы, а также российских средств массовой информации. Есть в этом что-то от чисто обывательского «спортивного интереса»: «Как он там? Выдюжит? Не сломается?» Не так уж часто немолодой очень известный актер вдруг перемещается в некую пространственную и социальную плоскость с иными измерениями и при этом умудряется не поменять профессии и остаться при своих интересах! Когда уезжает музыкант, спортсмен, художник, физик – понятно. Ситуация будет тяжелой и все же в какой-то мере разрешимой. Ведь эти профессии не имеют жесткой зависимости от языка. Совсем другое дело – актер, эта работа напрямую связана с родным языком, живым словом. Сможет ли он остаться самим собой?
2
Михаил Козаков приехал в Израиль летом 1991 года.
Согласно предварительной договоренности артист осел в Тель-Авиве для работы в едва начавшем свое нелегкое становление театре «Гешер». Но, как говорится, не судьба… Такое случается.
«…Мне почти сразу же стало ясно, – писал он, – что все мои заготовленные еще в Москве пьесы, поэтические композиции, моноспектакль по Бродскому оказались вне интересов руководства театра «Гешер». Когда я попал на собрание коллектива театра, […] я впал в угнетенное состояние духа… и понял, что, во-первых, о моей режиссуре и речи не идет, и, во-вторых, как актер (как, впрочем, и другие) я только «обязуюсь, обязуюсь, обязуюсь».
С первых дней в Израиле Козаков начал постигать простую, но очень важную вещь: русский театр в Израиле всегда, при любых условиях экономически нерентабелен, ему просто не выжить из-за отчаянной рыночной тесноты, а стало быть, «Гешеру» либо придется вскоре переходить на иврит, либо благополучно уйти в небытие, что, между прочим, случается с досадной регулярностью с разного рода «эмигрантскими» театрами и театриками. Артист рассудил: если для российского актера переход на иврит неизбежен, не лучше ли приступить к этому болезненному процессу немедленно?
И тут, что называется, подвернулась оказия.
Для постановки чеховской «Чайки» в тель-авивском Камерном театре из России был приглашен режиссер Борис Морозов. Справедливо рассудив, что лучшего исполнителя роли Тригорина во всем Израиле ему все равно не найти, Морозов договорился с руководством театра о предоставлении Козакову временного контракта. Так спустя неделю после своего приезда артист начал работу в одном из двух «главных» театров страны… на иврите.
Работа в Камерном позволила снять просторную квартиру в центре Тель-Авива в десяти минутах ходьбы от театра, где артист поселился вместе с женой Анной и маленьким сыном Мишей.
Но он весьма туманно представлял себе, что ждало его впереди…
Первая реплика Тригорина в пьесе звучит так: «Каждый пишет, как он может и как он хочет». Козаков спросил педагога, как это звучит на иврите, и зафиксировал всю фразу русскими буквами, подробно выясняя, что означает каждое слово. Так он записал всю роль. Он не имел понятия об инфинитиве глагола «писать», но как надо сказать «я пишу», он знал. Он изучал алгебру, даже не приступая к арифметике.
В первом акте у Тригорина всего пять реплик. Козаков учил их неделю. Но во втором акте чеховского героя, что называется, понесло. Он разражается пространными монологами на несколько страниц каждый…
Это была поистине титаническая работа, которую мне пришлось наблюдать воочию. На тетрадном листе, разграфленном на три равных столбца, была записана роль по-русски, затем очень крупными буквами на иврите и, наконец, русская транслитерация текста. Козаков, обливаясь потом на сорокаградусной жаре, сидел на диване перед журнальным столиком и громко читал незнакомые слова, мерно ударяя ладонью в такт своей речи. Это продолжалось по нескольку часов ежедневно. Плюс, конечно, регулярная работа с преподавателем иврита.
Спустя два месяца артист уже репетировал роль на сцене Камерного театра вместе с актерами, для которых иврит – родной язык. Как говорил он сам, «произошло чудо, помноженное на труд».
Еще, правда, оставался акцент, но в Израиле, «стране эмигрантов», этим никого не удивишь: национальный театр молодого государства строился на русском акценте отцов-основателей из «Габимы». Да вот беда: Тригорин – литератор. По ходу спектакля он время от времени что-то фиксировал в своей записной книжке, причем писал слева направо, как по-русски, и при этом говорил на иврите – «справа налево». Имитация слегка подтачивала замысел. Ну, да это уже частности…
Репетиции «Чайки» продолжались месяца два, прокат спектакля – около трех месяцев. Таким образом, к началу 1992-го года козаковский контракт оказался под реальной угрозой. Но алия была еще на подъеме: десятки тысяч новых репатриантов из России ежемесячно прибывали в Израиль. Это обстоятельство предоставило Козакову уникальную возможность – ему удалось заключить новый контракт с Камерным театром на постановку спектакля на русском языке. Для этого была выбрана пьеса Гарольда Пинтера «Любовник», где Козаков предстал уже не только как исполнитель главней роли, но и как режиссер-постановщик. Его партнершей стала Ирина Селезнева, успешная актриса Камерного, прекрасно владевшая ивритом.
Понятно, что расчет был на русскоязычную публику. Театр, вероятно, видел в этом приманку: там полагали, что недавно приехавшие «русские» станут охотно покупать билеты на спектакль с участием знаменитого в России артиста. Над постановкой работали полтора месяца без всякой «посторонней помощи». По словам Козакова, только за три-четыре дня до премьеры появились осветители, реквизитор, она же костюмерша, помощник режиссера и «звуковик». При этом «Любовника» играли не только на выезде, но и в самом Камерном, и даже несколько раз в большом зале на девятьсот мест.
Для Козакова это был «пробный камень».
«Скромные декорации, два актера – Ирина Селезнева и я, музыка, – писал артист. – Катали спектакль по городам Израиля сначала по-русски, потом уже перешли на иврит. Стоили мы Камерному недорого, спектакль принес прибыль».
Ободренный успехом, Козаков решил продолжать. Он ставит второй спектакль по пьесе Пауля Барца «Возможная встреча», но уже в рамках «Русской антрепризы Михаила Козакова».
3
Казаков пристально следит за театральной жизнью в Израиле, особенно ревниво, за новыми постановками «Гешера». Он записывает в 1992-м: «Смотрю спектакли на иврите в “Габиме”, в Камерном и русскоязычном “Гешере”, который вот-вот перейдет на иврит. Из понравившихся – “Гамлет”, эксперимент в малом зале (Камерного – Л.Г.) на 80 человек. “Розенкранца и Гильденстерна” уже видел в Москве, подождем на иврите, остальные спектакли мне не нравятся. «Гешер» приступает к булгаковскому “Мольеру”, пока на русском, поживем – увидим».
Зимой 1992-го, параллельно с театральной работой, он пишет воспоминания о поэте Давиде Самойлове – «Растрепанный рассказ».
Поклонникам артиста хорошо известно, что Козакову никогда не был чужд литературный труд. Более того, он прекрасный писатель-мемуарист, из лучших, работающих в этом жанре. В 1993-м в Тель-Авиве вышла его книга «Рисунки на песке», сборник мемуарных очерков о самых заметных явлениях театральной жизни России начиная с 1956 года, написанных в разное время и по разному поводу.
Теперь, в Израиле, Козаков пишет о недавно умершем выдающемся российском поэте, проживавшем в последние годы своей жизни в Пярну добровольным изгнанником. Он определенно подчеркивает созвучие отчужденного быта «пярнуского затворника» со своим эмигрантским состоянием.
«Были у него и такие стихи, – пишет он о Самойлове:
Я вдаль ушел, мне было грустно.
Прошла любовь, ушло вино,
И я подумал про искусство:
А вправду – нужно ли оно?
Когда мне становится совсем невмоготу, – продолжает М. Козаков, – эти строки начинают прокручиваться в моем сознании по сто раз на дню, как у пушкинского Германа его “тройка, семерка, туз”: а вправду, нужно ли оно? а вправду – нужно ли оно?.. И я уже знаю, если эти строки пришли на ум, значит, подступает то, чего я больше всего в себе страшусь, – черная депрессия».
Несмотря на кажущееся внешнее благополучие, подобные «черные» минуты неоднократно возвращались к Михаилу Михайловичу – слишком велика пропасть, разделяющая то московское и это тель-авивское бытие…
Он записывает в дневнике: «Мы живем в роскошных условиях, в пентхаузе, но все это временно, в долг, это аванс за который мы все заплатим сполна, и расплата будет ужасной… Что делать, и кто виноват? Виноват я – струсил и сбежал из России в поисках лучшей жизни. Что делать?! Бороться, как бедный Иов».
Воспоминания о Самойлове были завершены в конце апреля 1992-го и вскоре опубликованы в Израиле и Москве.
Увлечение Козакова поэзией всегда носило устойчивый и продуктивный характер. В Израиле ничто не изменилось. Все эти годы он регулярно выступал на вечерах со своими «пушкинским и самойловским концертами», как сам артист определяет жанр своих публичных программ. Уже здесь, в Тель-Авиве, он подготовил новую поэтическую композицию по стихам Иосифа Бродского «Я входил вместо дикого зверя в клетку», куда, помимо стихов, были включены воспоминания Козакова, стенограмма суда над поэтом, романсы в исполнении Анны Ямпольской. Он также регулярно публиковал в «местных» русскоязычных газетах очерки-воспоминания о людях, с которыми работал и был дружен – о Роберте Де Ниро, Арсении Тарковском и других.
4
В конце 1991 года в Израиле творилось что-то невообразимое: ежедневно с трапа самолета сходили сотни, а то и тысячи репатриантов из бывшего СССР. Где селить, чем кормить, как трудоустроить всю эту разношерстную, взъерошенную толпу, прибывшую из разваливающейся советской империи, никто толком не знал. Ни одному государству никогда не понадобилось бы одновременно столько врачей, художников, ученых, писателей, как правило, не владеющих даже основами языка, на котором говорят окружающие! При том, что они обладали разным уровнем понимания ситуации в стране, на Ближнем Востоке, в мире, а часто не имели вообще никакого представления об этом. Раздражение быстро накапливалось в скороспелых общественных союзах и выбрасывалось на страницы «русской» прессы, расплодившейся вдруг, как грибы после дождя, особенно в преддверии предстоящих летом 1992 года выборов в Кнессет, законодательное собрание Израиля. Нужно было всю эту массу организовать в колонны, хотя бы вкратце объяснив, кому им следует отдать свои голоса. Лучше других с этим управились лейбористы из партии «Авода», особо поднаторевшие на социальной демагогии.
Впервые я увидел «живого Козакова» на собрании комитета «Интеллигенция в поддержку Ицхака Рабина», куда был приглашен как журналист одной из особенно громкоголосых русскоязычных газет. Комитет, как нетрудно догадаться, был создан для того, чтобы сплотить «русскую» публику и направить ее голоса в нужном «левоцентристском» направлении. Возглавить эту неблаговидную затею предстояло самому известному и авторитетному из «русских» – народному артисту России Михаилу Козакову. Актера, неискушенного в политике, прельстили обещаниями содействовать развитию культуры, фактически сделав ширмой предвыборной кухни, пахнущей, надо сказать, весьма неаппетитно. Но Козаков, как и большинство «репатриантов» начала 90-х, еще не научился различать непривычно резкие средиземноморские запахи. Вскоре ему сполна припомнят его невольную неразборчивость.
«Я не идеализирую новое правительство, – скажет он в свое оправдание, – но оно все же пытается найти выход из перманентного политического тупика – развязать “арабский узел”. Я не очень верю, что у него что-нибудь получится. Но попытаться было необходимо. Рабин очень много обещал “русской алие”, особенно людям искусства. А сделано очень мало…»
Сегодня, когда мы знаем печальные результаты политики «левых», очень удобно разводить руками, удивляясь наивности артиста, упрекать его в близорукости, а то и в злонамеренности. Что поделаешь, Козаков не был очень прозорливым человеком…
После нашей первой встречи в «комитете» мы договорились об интервью. Так я оказался в его весьма просторной тель-авивской квартире на улице Спинозы.
5
Новым важным этапом вхождения Михаила Козакова в культурную жизнь страны стала его работа над дипломным спектаклем с выпускниками театральной школы Нисан Натив, где он поставил пьесу Михаила Себастьяну «Безымянная звезда», хорошо известную российскому телезрителю. В ходе репетиций он работал со студентами на иврите – без переводчика!
«Студенты были очень восприимчивы и исполнительны, – вспоминает Михаил Михайлович. – Они хотели усвоить мой режиссерский стиль, а я изо всех сил старался отдать им то, что я знаю и умею». И хотя, как и положено дипломному спектаклю, он прошел всего шесть раз, все-таки он был замечен и даже имел успех в кругах израильской театральной элиты.
«Преподавание актерского мастерства – это моя главная гордость, главное достижение здесь, в Израиле, – писал он. – В этом нет и тени компромисса».
Выдающийся режиссер и педагог Нисан Натив, хозяин студии, весьма пожилой человек с безупречными манерами, прежде учился и работал во Франции, владел несколькими европейскими языками. Натив во всем шел навстречу Козакову, платил по «высшей категории» и даже решился на немыслимый эксперимент – постановку «Чайки» не по сценам, как положено в рамках учебного процесса, а полностью!
Однако к настоящей режиссерской работе Михаил Козаков приступил лишь летом 1993-го, возглавив проект собственной антрепризы.
Артист вычитал где-то у Бродского, что любители поэзии составляют примерно 1 % человечества. По-видимому, не намного лучше обстоит дело и с театралами. Расчет прост: сорок спектаклей в залах на 500 мест в стране, где живет около семисот тысяч русскоговорящего населения – предел, значит, 3,5 %. В России этот процент, пожалуй, не выше, но публики-то куда больше!
Новая постановка Михаила Козакова на русском языке – комедия Пауля Барца «Возможная встреча» – прошла с огромным успехом. Ее сыграли раз сорок! Много это или мало? Для Израиля – очень много, хотя нет ни малейшего сомнения, что в Москве, в «Современнике» или на «Малой Бронной», постановку такого уровня можно было бы тянуть не одно десятилетие. Здесь иначе: даже «Чайка» в Камерном театре шла всего 47 раз, а шумно разрекламированная «Молитва», перенесенная Марком Захаровым в Тель-Авив из Ленкома, – 70 раз. На иврите!
К счастью, «русский» театр не конкурирует о «ивритским» – туда и сюда ходят заведомо разные люди. Зато жесточайшую конкуренцию составляли гастролеры из России, убийственным валом заполонявшие все театральное пространство страны.
«Взгляните на гастрольную афишу последних месяцев! – восклицал Михаил Михайлович. – Все звезды российской эстрады, театра и кино перебывали здесь уже по нескольку раз. Чтобы противостоять этому нашествию, я должен представить зрителю подлинный театр – с декорациями, костюмами, музыкальным оформлением; после спектакля у него должно остаться ощущение, что он на два-три часа вернулся к себе в Москву или Ленинград, вновь прожил кусок своей прежней жизни».
Но вернемся к «Возможной встрече»…
Чем сам Михаил Козаков объясняет несомненный успех пьесы у зрителя?
Прежде всего, огромной предварительной работой.
«Как найти пьесу, которую необходимо играть для репатриантов из России. Каким критериям она должна соответствовать, чтобы вызвать адекватную реакцию у публики? Тут должны сойтись в единый узел многие на первый взгляд исключающие друг друга факторы. Абсолютно бесперспективно рассказывать им (нам!) со сцены об их (наших!) насущных «эмигрантских» проблемах. Это заведомо гибельный путь. Здесь нужен драматург уровня Чехова, как минимум – Вампилова, чтобы отыскать в этой нашей жизни истинную поэзию и проблемы общечеловеческого масштаба. Где ж такого взять? Работая на злобу дня, мы получим в идеале Хазанова или Жванецкого. Это прекрасно. Но это иной жанр. Театр – нечто другое… Предложить публике замысловатые проблемы в подаче, допустим, Беккета или Ионеску неразумно – это нашему брату сейчас явно не по зубам. К такому восприятию мы сейчас явно не готовы, для этого, пожалуй, мы еще не достаточно благополучны.
Так примерно рассуждал Михаил Михайлович.
А что же, спрашивается… Бах и Гендель – это нам ближе, что ли? – риторически вопрошал он и сам отвечал: Ближе! – Речь ведь идет о проблемах общечеловеческих и вечных – как прожита жизнь? Две абсолютно разные судьбы. Гендель – эмигрант, человек Мира, он богат, знаменит – и заслуженно: он прекрасный композитор. Рядом Бах, живущий в небольшом городе в бедности, известный лишь небольшому кругу почитателей. Но он гений, которому его собственный внутренний мир дороже всех внешних успехов. Он одерживает победу космического масштаба, оставшись светочем человечества навеки. Вот это проблемы!
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































