Текст книги "На рубеже веков"
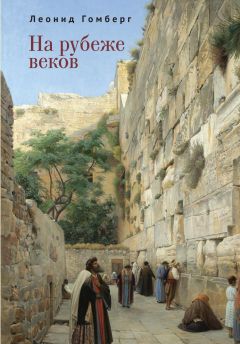
Автор книги: Леонид Гомберг
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 13 (всего у книги 14 страниц)
Контрабандистка
Все было задумано просто – до гениальности.
Сначала она добыла бундесмарки по 11 рублей за единицу. Это было крайне выгодно, так как марочка потихонечку-полегонечку тихой сапой ковыляла к 14 рублям.
Теперь валюту следовало легализовать, то есть придать ей статус законно приобретенной. Ольга надумала вот что: пересечь границу в Бресте, доехать до Варшавы, тут же пересесть на обратный поезд, вписать сумму в таможенную декларацию и получить официальное разрешение на владение валютой, следовательно, и на последующий вывоз за рубеж.
Заручившись таможенной справкой с указанием заветной суммы и наименованием дензнаков, Ольга могла запросто предпринять новую вылазку из новоявленной цитадели демократии и гласности, – но теперь уже в Западный Берлин, вольный город, голубую мечту советских спекулянтов и контрабандистов – за товаром. Поэтому загранпаспорт она оформляла сразу на две поездки – в Варшаву и в Голубую мечту.
Марочки она аккуратно завернула в полиэтиленовый мешочек и тщательно укрыла в утробе громадной жареной курицы, которую водрузила прямо на столик, – дескать, вот-вот начнет поедать, ночью, мол, жор напал, бывает. Идею с курицей она придумала сама и старательно подготовилась в Москве: птица выдалась жирная, аппетитная, с розовой корочкой.
После проверки паспортов пограничной службой в купе наконец вошел хмурый коротко стриженый таможенник. Он оглядел перепуганных Ольгиных попутчиков, скользнул по невозмутимой Ольгиной курице и пробежал глазами по тощей Ольгиной сумке.
– Одна едешь?
– Одна.
– Ну-ну.
И вышел. Это «ну-ну» почему-то ей особенно не понравилось.
Но – все. Дело сделано. Путь на Варшаву свободен.
В сопредельной столице Ольга пробыла полчаса, не больше, водички только попила на вокзале. Отходил поезд на Брест. В последнюю минуту она вскочила в вагон, сунула проводнику-поляку двадцать марок и принялась с аппетитом поедать жареный контейнер для валюты. Деньги, легализованные, уже покоились в косметичке.
С утра она снялась с Белорусского. Поздно ночью пересекла границу в Бресте. Рано утром была в Варшаве. И вот опять – скоро Брест… Лихо!
Заслышав глухую суету таможенного досмотра, Ольга высунулась в дверь и обомлела: в соседнее купе входил давешний стриженый таможенник. Только угрюмости его как не бывало, наоборот, он улыбался и пошловато шутил. Это ничего хорошего не предвещало.
– Какие люди – и без охраны! – забалагурил он, сходу вычислив Ольгу, и совершенно не обращая внимания на неуютно жавшуюся друг к другу пожилую пару, расположившуюся напротив. – Что так быстро?
– Времени нет – туда и обратно.
– Что так?
– Да на платформе встретились, мой-то бабки мне отдал, да я и назад. Ребенок дома с соседкой кукует. Тороплюсь.
– Да-а, история! А кто – «мой-то»? Муж, что ли?
– Любимый человек.
– Ну-у? И много бабок?
– Да не так чтобы очень… – Ольга протянула декларацию стриженому таможеннику.
– Много – не много, а все ж кое-что, – ответил тот. – А что еще везем: порнушку какую, баллончики?
– Окстись, да у меня и сумки-то дорожной нет!
– Ну, ладно-ладно! – примирительно произнес стриженый. Будто и вправду не сообразил, что при провозе валюты никакой дурак не станет рисковать с посторонним товаром. – Ладно, – подытожил таможенник, – ты ведь в Бресте на пересадку? Зайдешь в контору, я тебе печать на декларацию шлепну и справку выпишу. Договорились?
– Конечно.
В самом начале 89-го года власти предприняли отчаянную попытку прорыва в демократию: МВД Союза ввело «облегченные правила» выезда за рубеж.
Вот тогда-то, чтобы наварить дополнительную сумму к обменной квоте, первые «ездоки» стали прикупать «сувениры родственникам» – матрешки-поварешки, самовары-балалайки и прочую посконную мишуру, которая немедленно сбывалась на блошиной толкучке в Тиргартене или на Польском рынке, а позже – прямо на Александерплатц и даже у Бранденбургских ворот. Вдруг объявилась мода на атрибуты военной формы – поехали ремни и фуражки, кокарды, значки. Вскоре потребовались медали и ордена, спрос, как ему и положено, определил предложение. Ни с того, ни с сего Запад стал покупать живопись совдеповского реализма. В подвалах учреждений началась инвентаризация снятых было со стен в связи с перестройкой «ленинов», в кепке и без оной, на броневике с указующим перстом и даже на крейсере «Аврора». Цены назначались прямо пропорционально размерам. Если на полотне густо кучковались матросы, а вождь в сопровождении каких-то кровожадных девиц в красных косынках указывал им дорогу в грядущее, то перекупщики давали по 900 рублей за квадратный метр. Конечно, все это барахло никакого отношения к искусству не имело, вывозилось в рулонах и сбывалось за хорошие бабки одуревшим от перестройки «фирмачам».
Осенью матрешечно-фуражечный рынок насытился, подоспела очередь монетам, старинным фолиантам, дорогому антиквариату. Обратной дорогой, помимо видиков и дискет, потянулись «порнуха» и «газ», курсировало нарезное оружие и «наркота». Очень ценились пистолеты, стрелявшие балончиками с нервно-паралитическим газом. Говорили, если хорошо попасть, то человек вырубался на два-три часа, иногда лежал неподвижно, говорить не мог, хоть и все соображал. Потом их производство запретили.
Доходы «деловых людей» стали пухнуть, как на дрожжах. Быстро сбивались и распадались группы, появились монополисты, «мафия», требующие «отчета» и «отстёга» с рядовых «ездоков». Мелкая шушера отпала, остались «профи», сделавшие контрабанду своей специальностью.
Ольга упорно избегала «мафиозной» групповщины, работала одна, «деловые» точили на нее зуб, запахло жареным, пора было сматывать удочки. Она твердо решила, что это будет последняя «ездка».
Из плоских коробочек на десяток дискет Ольга извлекла содержимое и упрятала пистолеты, потом заново сложила упаковки и заклеила лентой. Комар нос не подточит – фирма! В последнюю минуту ей вдруг показалось, что коробочки получились слишком увесистыми. Пришлось облегчать. Два пистолета она спрятала на себе – в бюстгальтер, благо формы, далеко уже не девичьи, в этом смысле позволяли многое, и в совсем уж интимное место, там тоже все было нормально.
В приснопамятные времена застоя Ольга Малкина окончила знаменитую московскую «Плешку», Институт народного хозяйства имени Плеханова. Жила с родителями в каком-то подмосковном Курятине, благо, что с пригородной пропиской в столице на работу брали всегда. Но – по четыре часа в день скакать по электричкам, плюс родительские внушения об устройстве личной жизни, плюс курятинские скука и тоска, минус всякое продуктовое довольствие в магазинах, не говоря уже о полузабытых, но желанных «курях».
Однажды Ольга плюнула на подмосковную идиллию, на НИИ, на заветный «стольник в зубы» и рванула техником-смотрителем в один из центральных московских ЖЕКов с убогой зарплатой, но своей комнатенкой за выездом.
Много мороки приняла она и от нашего брата-мужика, докучливого и в быту нескромного, и от начальства, тупого и загребущего, попивать стала в котельных и дворницких, но не сломалась, как многие, – жизненная сила, что ли, какая в ней обитала…
Откуда ни возьмись, явилась перестройка – и вот пошли делишки, а потом и дела, обозначилась кое-какая валютка, центики-пфенюшки. И наконец, как мечта и загадка, всплыл Вольный город на Западе – с умопомрачительными витринами супермаркетов, видео и компьютерными салонами, уютными барами, «русскими» магазинами с темнокожими продавцами, поверженной Стеной с потайными, опасными лазами. А еще были всегдашние преддорожные хлопоты, щемящее предчувствие краха при таможенной проверке и острый взрыв облегчения при виде первых польских домиков с той стороны. А потом – обратная дорога, и снова ноющее ожидание, и снова всплеск растревоженных иллюзий…
Проводник уже собрал паспорта и распорядился приготовить таможенные декларации. И, как всегда в эти минуты, Ольга ждала особенно напряженно, чтобы мигом расслабиться, стать приветливой простушкой, своей в доску бабой, только лишь в двери покажется таможенник.
– Здравствуйте…
Ольга едва сдержалась, чтобы не вскрикнуть: в купе показался стриженый. Было раннее утро, заканчивалась ночная смена, и на щеках его проступала едва приметная щетина. Сегодня он не был ни угрюмым стражем законности, ни веселым балагуром, как давеча, он был просто озабоченно-деловым.
– А, старая знакомая. Ну-ну. (Опять это «ну-ну».) Что везешь, кроме дискет?
– Видюшник.
– Один?
– Конечно.
– Тебе какая сумма полагалась? Ольга назвала.
– Откуда же столько товара?
– Давайте считать! – ответила Ольга. Таможенник вдруг с интересом взглянул на Ольгу. Ей почудилось, будто из нее нагло торчат пистолеты.
– Открой сумку! – приказал таможенник, взглядом указывая на дорожный баул, стоявший рядом с Ольгой.
Она поднялась с места отнюдь не грациозно. Снизу и сверху давило оружие.
– Николай! – раздался голос из коридора. – Николай, иди сюда!
– Сейчас. – Таможенник нехотя заглянул в сумку, как бы размышляя о чем-то. – Сейчас, – снова ответил он голосу из коридора.
Стриженый вышел. Ольга уселась на полку, откинулась назад и закрыла глаза. Она знала, что еще ничто не кончилось.
В соседнем купе вдруг возникла какая-то непонятная суета: кого-то пригласили на личный досмотр в отсек проводников, кого-то вывели из вагона, слышались мольба, ругань, увещевания…
«Прокололись бедолаги», – подумала Ольга.
А о ней, похоже, забыли совсем. О такой удаче бедняжка не мечтала и в самых сахарных своих снах… На московской платформе Бреста, когда проверка давно была завершена, Ольга увидела стриженого таможенника Николая. Он был, казалось, не в себе.
– Смотри, кукла, больше не проскочишь! – только и проскрежетал он зубами.
– Ты о чем, начальник?
Теперь Ольгу беспокоило только одно: если «стриженый» связан с «мафией», то сегодня же в Москву пойдет сигнал о подозрительной бабе, колесящей туда и обратно через брестский кордон.
«Все, – Ольга приняла это решение не сейчас, – надо завязывать. Резко. Сдавать товар и сматываться совсем. С концами».
Конечно, для людей сведущих Ольгина фамилия, Малкина, со всей определенностью указывала на принадлежность к международному еврейству со всеми вытекающими последствиями. Но на самом деле это не так. Никаких евреев в своей родне Ольга не помнила и не знала, откуда взялась подозрительная фамилия – понятия не имела. Может, была раньше в родне какая-нибудь Молокина, кто знает.
Поэтому в Москве Ольга сразу связалась через знакомых с небезызвестным Велвелом, в застойном прошлом – киношным каскадером-лошадником, а ныне – торговцем антиквариатом и поддельными метриками.
– Я тебя умоляю, Лялечка, – сказал Велвел, – сделаем все по высшему классу. Если бы я имел в виду втюхать тебе туфту, то просто продал бы за штуку бланк дубликата. Ты могла бы написать на нем, напротив своей мамы, что ты сама захочешь: хоть «еврейка», хоть «турчанка», хоть «столбовая дворянка». Но я же интеллигентный человек! Видишь, сзади стоит год, когда его напечатали в типографии: 1987. Эти тамошние спецы из израильского консульства очень умные люди. Они быстро расчухали, что за штуку евреем может стать хоть писатель Василий Белов со всем обществом «Память» в придачу. И они уже стали проверять…
Так вот, эти ушлые деятели теперь требуют, чтобы бланк метрики вышел из типографии еще до того, как ты родилась. Хорошенькое дело! Ты спросишь: Велвел, а что для этого надо? Для этого надо рядом с твоей мамой – как ее, кстати, звали – Варвара Трухина?! Очень подходящее имя! – изъять несоответствующее ситуации «русская» и вписать романтическое и загадочное «еврейка».
Конечно, эти злобные антисемиты из консульства, эти непримиримые борцы против еврейства диаспоры скажут: Лялечка, как же так? Что это за еврейка, Варвара Трухина? Ты что, пришла сюда шутки шутить? А посему придется провести еще одно хирургическое вмешательство в твою маму, дай ей Бог здоровья: вытравить подчистую «Варва» и на освободившееся место засунуть «Са».
А? Как тебе нравится? Сара Трушкина! Почти в десятку! Но… опять только «почти». Придется еще поднапрячься! Чуть-чуть! О, Сара Трухман! То, что доктор прописал!
Это, конечно, тоже будет стоить, но уже дороже. Тебе, Лялечка, по очень большому блату – три штуки с полной гарантией успешной абсорбции на земле предков.
– Сколько? Ты что – серьезно?
– Но, Лялечка, это же вместе с гарантией: если факир окажется пьяным и фокус не выгорит – никаких с тебя бабок. Ты поняла?
– Давай за две!
– Лялечка, я вижу, ты хочешь и на елку влезть, и попку не ободрать… Слушай, кстати, а тебе не нужна панагия, петровские дела, полный «свежак», муха не садилась, и совершенно бесплатно – всего двадцать штук…
Договорились на двух с половиной. О метрике, конечно, – не о панагии…
Приехав в Москву, Ольга засуетилась. Она допустила сразу три непоправимые ошибки: во-первых, решила сдать товар, минуя обычные каналы, во-вторых, слишком быстро и, в-третьих, слишком дорого.
Со Славиком они встретились у Сретенских ворот около магазина «Галантерея». Второпях Ольга пропустила важную деталь: за углом, у почты, стояла белая «Волга»…
Вдвоем они перешли Сретенку и спустились вниз к Трубной по Рождественскому бульвару. Этот молодой светловолосый атлет был предупредителен, говорил гладко, как воспитанные мальчики, без блатной фени. Славик очень понравился Ольге, и, хоть была она старше его лет на десять, да и не до лирики сейчас, ей вдруг подумалось: «Чем черт не шутит!» Ольга была невелика ростом, в последние годы изрядно располнела, лицо имела широкое, с родинкой, но глаза ее как бы светились изнутри, и чувствовалась в них глухая непреклонная решимость, которая, видно, влекла к ней определенный сорт мужчин. Заходить в подворотню Славик категорически отказался, резонно опасаясь засады. Ольге пришлось оставить его на бульваре, а самой идти домой за товаром. Все это никуда не годилось, но выхода не было. Вскоре она воротилась, неся в руках темный полиэтиленовый пакет.
Славик терпеливо коротал время на лавочке, но Ольга сразу почувствовала в нем что-то новое, какое-то волнение, резкость какую-то, настороженность. Народу вокруг не было совсем, и Славик внимательно рассматривал товар, как-то отстраненно расспрашивал и как будто чего-то ждал. В какой-то момент пакет со всем содержимым вдруг оказался у него. Тут же бесшумно, как наваждение, за оградой появилась белая «Волга», трое дюжих громил разом выскочили из машины, перемахнули низкий барьер и бросились к лавке. Двое резко подняли Славика и заломили ему руки за спину, третий схватил пакет. Славик и не думал сопротивляться. Все было решено мгновенно, организованно и слажено, но вместе с тем плавно и артистично.
Обычная инсценировка, разыгранная опытными кидалами.
Ольга стояла как вкопанная и завороженно смотрела незнакомый гангстерский фильм с погонями и мордобоем. Неожиданно кровь ударила в голову, и она чуть не потеряла сознание.
– Это важный преступник, – сказал тот, что с пакетом, – мы его давно ищем, будет суд. Вам все понятно? – Он даже не прятал усмешки. Этот был невысок, но крепок, с уже поредевшей шевелюрой. – Вам все понятно?
– Понятно.
Ольга сунула руку под кофту, вытащила из-за пояса пистолет и несколько раз подряд почти в упор, целясь прямо в лицо кидалам, выстрелила капсулами нервно-паралитического газа. Все четверо рухнули как подкошенные, не успев даже вскрикнуть. Откуда им было знать, на что способна эта полная тетка не первой молодости? Ольга подхватила пакет, спрятала «пушку», тяжело перелезла через ограду и исчезла в подворотне. Она все время пыталась вспомнить, не видел ли ее кто-нибудь, – и не могла.
Дома Ольга собрала вещи и, как только стемнело, на такси отвезла их подруге. Потом вернулась назад, позвонила знакомому перекупщику и за полцены сдала товар оптом.
«Ловить» в Москве было больше нечего, негде, да и опасно… За пять штук крупный ОВИРовский деятель, заранее прикормленный Ольгой, в течение суток организовал паспорт с выездной визой на постоянное местожительство в Израиль. А еще через день она просунула в окошечко на Большой Ордынке вместе с паспортом Велвелову хирургическую лажу, получила выездную визу и заказала билет на ближайший рейс…
Сегодня у нас в Хайфе успешно работает русский магазин «Ляля», куда я частенько захаживаю выпить чудесного светлого пива за два шекеля. К вечеру в пятницу после закрытия магазина я иногда помогаю хозяйке управиться побыстрее: вывезу на тележке порожнюю тару, протру влажной тряпкой пол, постелю газетку на низкий мясной холодильник и открою бутылку популярной местной водки «Кеглевич». Ляля тем временем выставит вкуснейшую чищеную кильку и пару малосольных огурцов «русского» засола. И мы говорим, говорим, вспоминаем Трубную, Сретенку, Колокольников переулок, винный магазин «морковка» на углу, пиццерию на Рождественском, гриль-бар «Аннушка» на Цветном, обязательную отвальную перед «ездкой», таможенный кордон в Бресте, заветную дырку в Стене, куда мы ошалело, минуя пограничный запрет, лезли, лезли, как безумные, в свободный мир нашей неправдоподобной, ублюдочной мечты…
1993
Не видеть Париж и умереть
Петр Никитович Барабанов по прозвищу Шеф начал войну рядовым, а кончил майором, да не каким-нибудь там, а майором СМЕРШа.
Весна 45-го застала его под Белградом… Тито был пока что большим другом, героем-партизаном, выдающимся практиком – и, очутившись вскоре в Москве, недальновидный и малограмотный Петр Никитович резво накатал кандидатскую по теме «Иосип Броз Тито и международное национально-освободительное движение». Все эти факты в передаче знающих людей вполне достоверны, как достоверно, по-видимому, и то, что вскоре молодой историк получал теплую и вполне пристойную должность в Университете марксизма-ленинизма, а еще через какое-то время, совсем короткое, мы видим его кряжистую фигуру в российском дипломатическом представительстве в Бельгии на должности военного атташе. Там-то он и подхватил в свой обиход несколько десятков французских слов, спасших его в дальнейшем от полного забвения.
Прошла еще пара лет… Из героического партизана-вождя Тито обернулся коварным бандитом и подлым империалистическим наймитом. Петр Никитович затрепетал в ожидании самого худшего: оно и понятно – в своем оптимистическом опусе он всем своим могучим интеллектом поднимал этого самого Иосипа на щит истории как верного интернационалиста-ленинца и боевого соратника-сталинца. И худшее (как свидетельствуют знающие люди) не замедлило явиться… Вызвал его сам Лаврентий Павлович, саданул кулаком по столу и швырнул в рожу «гнусную провокационную писульку». Петр Никитович наложил в штаны по полной: он ждал если не расстрела, то, во всяком случае, долгой отсидки. Но ни того, ни другого не последовало. Его всего-навсего лишили удобного кандидатства и теплого места при марксизме. Он затаился надолго: надо было переждать опалу, и напоминать о себе до поры до времени не следовало ни при каких обстоятельствах.
Чтобы хоть как-то кормиться и окончательно не одичать, ему удалось пристроиться в одну из московских школ учителем труда. Так Петр Никитович стал «наробразовцем»…
Времена между тем заметно теплели. Где-то кто-то вспомнил и про старого смершевского волка: учитывая прошлые заслуги перед марксизмом, его определили директором Образцовой московской гимназии № 2 закрытого типа с преподаванием ряда предметов на французском языке. Это серьезно: предполагалось, что гимназия будет с детства готовить умелых и стойких гуманитариев для работы за границей. Таким образом, связь с органами просматривалась отчетливо – и это был хороший знак.
Петр Никитович преподавал Историю СССР в старших классах, и как всякий человек, в молодости ушибленный обстоятельствами, воли языку не давал, о Иосипе Броз Тито помалкивал и о международном рабочем движении сверх школьной программы не распространялся. И правильно делал… Генсеки приходят и уходят, а органы, как прежде, стоят столбом, как после хорошей дозы стимуляторов.
В период нелегких размышлений о жизненных коллизиях Петр Никитович снимал с бугристого носа очки и, тяжко вздыхая, протирал физиономию огромной рабоче-крестьянской лапищей, точно исполинской салфеткой, устало и слепо глядел перед собой на ряды неразумных двоечников в серой робе, на свежевыкрашенную стену, на портрет теоретика и вождя мирового пролетариата Карла Маркса. Потом он опять надевал очки, хитро прищуривался, слегка кренился влево и, запустив лапищу в просвет между брючиной и носком, выразительно скреб ногу с притворным выражением понимания и покорности судьбе. Но через толстые стекла дальнозорких окуляров явно просматривался упрямый вызов: мол, нас голыми руками не возьмешь.
Однажды, классе этак в седьмом, я попал к нему на допрос – после драки на школьном дворе, где дежурные повязали меня, что называется, с поличным. Я отнекивался, как мог, поскольку очень испугался: в комнате, где на меня в упор таращился милицейский следователь, как-то так ласточкой витало слово «колония». Мильтон пугал меня тупо – он напирал, а я отпирался. Когда Петр Никитович взял дело в свои лапищи, я раскололся, как гнилой орех. Шеф допрашивал грамотно, манипулируя словами и жестами, то и дело тыча мне в нос то кнутьём, то пряником. Что мог противопоставить крутой смершевской закваске четырнадцатилетний дилетант, в течение одной недели пять раз посмотревший «Великолепную семерку» и возомнивший себя ковбоем Крисом в облике неподражаемого Юла Бриннера!
Прямое отношение к нашей истории имеет еще одна, пожалуй, не менее колоритная фигура – Жан Арменович Бархударян, репатриант из Франции, по недоразумению осевший в Москве и неожиданно объявившийся в нашем классе на уроке французского языка.
До той поры, начиная почти с младенчества, наша учительница Мария Ильинична, в школе весьма кстати поименованная Дубинишной, политически и профессионально грамотный педагог, вдалбливала в нас зачатки иностранной словесности разве что не силой. Каждый раз при ее появлении в классе мы дружно вставали, противно скрипя и хлопая крышками парт.
Она говорила: «Бонжур, мезанфан!» («Здравстыуйте, дети»!)
Мы отвечали: «Анфан, силенс! ЛяЛесон де франсе команс…» («Дети, тихо. Урок французского начинается»!»
Потом, так же противно скрипя и хлопая, усаживались на место.
Вариант ритуала древнего фаллического культа со вставанием…
Этот самый «силенс» был ее жизненным кредо: перед Шефом она выделывала свой «силенс-команс», перед ней – мы. Вот и вся забава – простая и удобная, как индийский презерватив «кохинор», который можно было поменять у старшеклассников в туалете на почтовые марки французских колоний.
С появлением Жана Арменовича все изменилось… Во-первых, мы вдруг с удивлением услышали настоящий французский язык, тот самый французский, на котором, как выяснилось, говорят все французы, – разительно отличающийся от калеки на инвалидной коляске, которую, напрягаясь до икоты, толкала впереди себя Дубинишна. Во-вторых, наш новый наставник не обладал никакой специальной подготовкой – ни политической, ни методической, а значит, не орал, не занудствовал, не писал замечаний в дневник, не вызывал родителей, не выгонял из класса, не отправлял на ковер к Шефу.
По-русски он не знал ни слова, а значит, мы не только учились французскому, но и общались по-французски. Мы понимали его прекрасно по той простой и естественной причине, что большинство историй были нам интересны до жути, до оторопи. Он говорил о Париже не как о месте заветной командировки по линии горкома профсоюза работников просвещения, а как о своем родном городе, единственном и неповторимом, где каждая улица, дом, столик в кафе жили своими отдельными, суверенными жизнями, и он тоже жил среди них – домов, улиц, кафе – высокий, бородатый, нескладный, с непременной трубкой и желтыми от табака усами.
Это были рассказы о совершенно иной жизни – не те, что повествовал Шеф на уроках истории, прозрачно намекая на всеобщее загнивание буржуазной демократии, и не те, что, пуская слюни, тяжко выдыхали вернувшиеся из турпоездок училки, и не те, что мы проходили с Дубинишной по адаптированной книжонке «Прогулки по Парижу», тупо вызубренной от сих до сих так, что, казалось, десантируй нас с самолета где-нибудь на Пляс Этуаль, мы запросто выберемся оттуда и на Монмартр, и к Нотр-Дам, и в Сен-Жермен-де-Пре – с завязанными глазами. Жан Арменович говорил о другом: как приятно утром в одиночестве гулять вдоль Сены, а потом смотреть картины в Лувре, а потом пить пиво с устрицами у Максима на Елисейских полях! («Вы любите устрицы? – спрашивал нас Жан Арменович. – Как, вы не ели устриц?! Боже мой, что же может быть вкуснее!»).
А еще он рассказывал (о ужас!) про Пляс Пигаль, про знаменитое кабаре Мулен Руж, где некогда сиживал гениальный урод Тулуз-Лотрек вместе со своими друзьями, где и поныне все еще водятся женщины легкого поведения, ну, эти самые, одним словом, проститутки… Такая информация, конечно, не лезла ни в какие политико-воспитательные ворота!
Была в его педагогическом арсенале еще одна занятная штуковина, которую мы, конечно, не смогли бы тогда внятно объяснить ни себе, ни людям, но наживку заглотнули сразу и всенепременно… Никогда он не смотрел на нас, средневозрастной ученический коллектив как на некое единое бесполое существо о тридцати головах – мол, «анфан, силенс!» или там «бобик, к ноге!». Наоборот, с девчонками он бывал по-мужски приветлив, отпускал комплименты и даже слегка флиртовал, и они, надо сказать, отвечали ему в соответствии с правилами нашей игры; с мальчишками – всегда, мужественен и строг… Одним словом, он предстал перед нами не педагогическим реликтом, а просто мужиком, одинаковым и в нашей классной комнате, и в своем парижском кабаке.
А иногда Жан Арменович и вовсе являлся на урок с гитарой и, отложив сторону непременную трубку, исполнял песни из репертуара знаменитых французских шансонье – Жака Брелля, Шарля Азнавура и Сальвадоре Адамо!
Что и говорить, все эти его «выкрутасы и закидоны» не могли остаться незамеченными в королевстве кривых зеркал гнилой смершевской оттепели, плавно переходящей в крещенские морозы брежневской бессознанки… Они и не остались… Случился анекдот: Жана Арменовича вызвали на педсовет для проработки!
Беда его, педсовета, заключалась в полном генетическом непонимании предмета своего обсуждения и осуждения; «подследственный Бархударян» был абсолютно естествен как в быту, так и на работе, – таким создала его природа и воспитала жизнь на загнивающем Западе: он не имел представления о возможности какого-то иного существования и в кошмарном сне не лицезрел себя поучающим Дубинишну, как ей жить дальше и чему ей учить молодое поколение строителей светлого завтра.
Педсовет думал иначе: он, педсовет, полагал, что этот непонятный бородатый француз умышленно подстраивается под незрелые детские мозги и, получив власть над оными, умышленно же калечит неокрепшие детские души разной безответственной болтовней про устрицы, шампанское, Тулуз-Лотрека и женщин легкого поведения. Все свои воинственные претензии он, педсовет, выдал «товарищу Бархударяну» (слава Богу, пока еще «товарищу») на своем адаптированном французском с изрядным количеством грамматических и смысловых ошибок, уличив обвиняемого в политической слепоте и методической безграмотности.
На следующий день Жан Арменович грустно и обреченно сообщил нам во время урока:
– Вчера меня вызывали на педсовет…
– И что же?
– Я толком ничего не понял… Мне пришлось исправлять ошибки в их дурацком французском…
Возможно, вся эта катавасия как-нибудь потихоньку спустилась бы на тормозах: Жан Арменович мало-помалу мимикрировал под Дубинишну, а Шеф успокоился на достигнутом… Но крутая смершевская закваска ветерана натолкнулась на полный буржуазный пофигизм француза. Началась свара… А кто всегда побеждает в разборках? Правильно! Тот, кто чтит основополагающий принцип социалистического гуманизма: «Если враг не сдается, его уничтожают!»
Вскоре Жан Арменович из Образцовой гимназии ушел, год-другой-третий скитался по московской богеме и… был таков. Я повстречал его в пору своих вступительных экзаменов в институт неподалеку от театра Эстрады, где в то лето гастролировал великий мим Марсель Марсо.
– Бонсуар, Лео, са ва? (Как дела?) – окликнул меня Жан Арменович.
– Поступаю…
– А я уезжаю… Пора.
И тут он произнес сакраментальную фразу, ставшую на долгие годы девизом моего захудалого существования…
– Лучше ночевать в Париже с клошарами, чем жить в роскошной московской квартире…
– Я завидую вам, Жан Арменович…
– Вы? Мне? Ну что вы! Вы еще так молоды…
Он порылся в кармане и извлек оттуда крошечную Эйфелеву башню, сдул с нее излишки хлебных крошек и табака, протянул мне…
Вскоре после школьных выпускных экзаменов мамина подруга тетя Лена присутствовала на нашем семейном совете в качестве консультанта. На повестке дня стоял только один вопрос – о моем поступлении на учебу в престижную Академию языкознания имени Дружбы народов, куда, по просочившимся на волю слухам, евреев не подпускают на пушечный выстрел. Особенно – на спецфакультет перманентного перевода (сокращенно, спермфак), готовивший студентов к работе, связанной с дефицитными загранкомандировками.
Именно тетя Лена подвела черту под затянувшимся за полночь разговором: «Мальчик подготовлен отлично. Грех не попробовать». Наивная женщина!
При первом же удобном случае она подошла вплотную к декану и торопливо заговорила:
– Слушай, Валёк, сроду ни о чем тебя не просила – первый раз молю: сделай доброе дело! Племянник мой к нам навострился… (Версия о племяннике была отработана заранее – муж тети Лены хоть и был полковникам, а все же хромал на пятый пункт.) Он прекрасно говорит по-французски, эрудирован…
– Нет проблем, Ленок… Вопрос изучим, сделаем все, что в наших силах… Как его… фамилия?
Декан достал записную книжку, перелистал, нашел нужную страничку, снял колпачок авторучки…
– Левин, – уныло и обреченно выдохнула тетя Лена. И хоть фамилия эта встречается у самого Зеркала Революции, для меня все уже было кончено…
– Левин? – несказанно изумился декан, как будто речь шла о каком-то Лао Цзы, – Да-а… Ле-евин…
Тетя Лена физически ощущала, как видавший виды партийный функционер медленно выплывал из глубокого нокдауна.
– Но, Валя, он прекрасно подготовлен. Ручаюсь тебе! – Тетя Лена еще раз попыталась исправить положение слабой атакой.
– Нет, Лена, извини – не могу! – Декан ушел в глухую непробиваемую защиту.
– Но как же нам быть? Он окончил Образцовую гимназию… Фактически всю жизнь он готовился к поступлению в нашу академию…
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































