Текст книги "Введение в русскую религиозную философию"
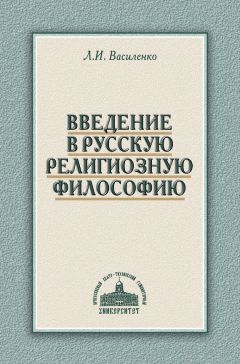
Автор книги: Леонид Василенко
Жанр: Философия, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 38 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
Многие замечали, что «мистическая интуиция» вела Соловьева в сторону пантеизма. Сам он этому сопротивлялся, но где-то и поддавался. В статьях он отмежевался от пантеизма самым решительным образом, но не убедил в том, что совершенно к нему непричастен. Кн. Е. Трубецкой писал: «Пантеизм есть необходимое последствие той точки зрения, которая смешивает два мира, два существенно различных порядка бытия и понимает отношение Божественного к здешнему как отношение сущности к явлению» (1, т. 1, с. 295).
Наконец, следует отметить, каким образом Соловьев понимал соотношение веры и разума. Он считал недостаточным, чтобы вера являлась просто источником вдохновения для философии, не определяя содержание мысли. Не принимал он и распространенное на Западе после Аквината разграничение их компетенций: вера занимается данными Откровения, а разум – естественным порядком вещей. Соловьев воспринял халкидонскую истину о Богочеловеке, но не хотел взять от церковной веры другие основополагающие положения и принципы для философской работы. Завершая «Критику отвлеченных начал», Соловьев заявил, что традиционное догматическое учение односторонне, т. к. утверждает религиозную истину только как догмат веры, а не в ее абсолютном значении. Чтобы освободить ее от односторонности, нужно «ввести религиозную истину в форму свободно-разумного мышления и реализовать ее в данных опытной науки, поставить теологию во внутреннюю связь с философией и наукой, и таким образом организовать всю область истинного знания в полную систему свободной и научной теософии» (6, т. II, с. 350). Из выше изложенной метафизики Всеединства ясно, что при таком отношении к делу вера подчиняется теософии.
Несколько иначе это формулируется в начале его «Теократии»: Соловьев предложил «оправдать веру отцов, возведя ее на новую ступень разумного сознания» (6, т. IV, с. 243). Однако на деле это благое намерение оборачивается следующим. В «Чтениях о Богочеловечестве» и в других работах дана чисто философская схема описания Пресвятой Троицы, являющаяся заменой истины веры на метафизику. Воспроизводить ее здесь нет необходимости.
Соловьев в этот период понимал веру не церковно, а теософски – как мистическую связь субъекта со всем существующим: «Он [субъект] есть в предмете и предмет есть в нем» (6, т. II, с. 340). Ранние славянофилы так далеко не заходили, они ограничились признанием того, что вера вводит разум в таинственную глубину реальности (И. Киреевский), и никакой теософии не привлекали. Соловьев же настойчиво говорил, что у него есть безусловная внутренняя уверенность в несомненности того, что дает мистическая интуиция Всеединства. Это означает, что религиозной вере остается только подчиниться ей. Но не только ей одной. Как писал Соловьев, любому предмету познания, в том числе и тому, к которому ведет мистическая интуиция, мы «даем образ, соответствующий нашей сущности» (с. 336), т. е. наш разум его интерпретирует, подчиняя себе его понимание. Это означает, что истина церковной веры субъективно искажается.
Соловьев настаивал, что философия – это свободный поиск истины, свободный, в том числе, и от церковной традиции. Следует признать, однако, что его свобода поиска была заметно повязана прельщением его духа со стороны видений «дамы» и ограничена гностическим руслом. Не замечая этого, Соловьев надеялся, что свободный поиск приведет к полному согласию веры и критического философского разума к взаимному удовлетворению обоих. Почему? Потому что и разум, и вера в его понимании имеют одну общую цель – Всеединство.
Подводя итог, можно сделать следующий вывод: на данном этапе творчества Соловьев не нашел безупречного решения вопроса о соотношении веры и разума. Не особенно убедителен он и в том, что предложенная им схема Всеединства действительно преодолевает тот грех отвлеченности мысли, который он столь успешно подверг критике в своей «Критике отвлеченных начал». Обещанные его метафизикой «положительные», т. е. не отвлеченные начала, оказались гностически замутненными и искаженными.
И все же метафизика Всеединства имеет свои достоинства, пусть даже в той форме «заявки», а не систематической проработки, какую мы имеем: она развивает чувство глубокой духовной укорененности личности в Высшем бытии, помогает увидеть вселенскость православия в его отличии от католического универсализма. Кто отнесется к Всеединству с пониманием, тот не будет считать русское православие чем-то локальным, слабым и изолированным от мирового христианства и от проблем современного мира. Но любая метафизика – не откровение высшей истины, а только придуманное человеком средство для решения духовных задач. В одной культуре и эпохе это средство пригодное, а в другой – нет. Соловьеву это средство понадобилось, чтобы преодолеть публицистичность многого из того, что было написано ранее. Времена меняются, меняются и средства, но главная задача, согласно Соловьеву, остается: христианство призвано оздоровлять культуру и народ, давать им силы преодолевать грехи, находя в культуре и обществе то лучшее, на что можно опереться. Метафизику Всеединства следует считать неудачно выбранным и неприемлемым средством выражения Вечной истины.
§ 4. СофияО Софии писал еще Платон, говоря, что Мировая душа имеет двуаспектно выраженную разумность в виде Ума и Софии («Филеб» 30 c-e): София раскрывает все мыслительные потенции Ума, тогда как сам Ум – высший Субъект мышления (он же Логос и Зевс). София царствует над всем в земном мире.
Если Платон писал об Уме и Софии, имея в виду таинственную разумную пару в сумрачной космической глубине, то Соловьев рискнул применить сказанное им к сверхкосмической, нетварной, божественной жизни. В «Чтениях о Богочеловечестве» дается формула: Христос – это Логос и София. Соловьев как платоник приписал Христу двуединство Ума и Софии, он также истолковал Софию как основу жизни Св. Троицы: «В божественном организме Христа действующее единящее начало, начало, выражающее собою единство безусловно-сущего, очевидно, есть Слово или Логос. Единство второго вида, единство произведенное, в христианской теософии носит название Софии… София есть тело Божие, материя Божества, проникнутая началом божественного единства. Осуществляющий в себе или носящий это единство Христос, как цельный божественный организм – универсальный и индивидуальный вместе – есть Логос и София» (6, т. III, c. 115).
София понадобилась для описания пребывающей в Боге абсолютной формы единства всего существующего, при всем том, что Логос остается средоточием этого единства в вечности. У ап. Павла сказано иначе: Христос есть «Божья сила и Божья премудрость» (1 Кор. 1:24), а все, что было предвозвещено о Софии-Премудрости в Ветхом Завете (Притч. 8:22–31 и др.), – это прообразы того, что явлено в полной мере во Христе (1 Кор. 1:30; Кол. 1:15–20; 2:3). Соловьев рассудил по-своему и подал Софию как нетварную Божественную мудрость, как «духовное тело Божие», вроде божественно-разумной сущности всех трех Ипостасей. Если так, то она – неипостасна и должна быть безличной, но Соловьев не согласовал это с тем, что он постоянно говорил о ней как о запредельной личности: это «живое духовное существо, обладающее всею полнотою сил и действий» (6, т. III, с. 111).
Соловьев исходил не только из философии Платона и других авторов, но и из своего личного мистического опыта, который не тождествен с ранее описанной «мистической интуицией» Всеединства. Это опыт встреч с некоей неземной «дамой», который он с доверием описал в стихах «Три свидания» и «Das Ewig-Weibliche» (нем. «Вечно-Женственное»), а также в ряде других. Эти стихи принято считать свидетельствами его встреч с Софией, хотя сам он не давал ей в стихах такое имя. Есть основания сближать образ этой «дамы», как его описал Соловьев, с древними гностическими трактовками Софии у Симона Волхва, офитов (нахашенов) и Валентина. Например, выше отмечено, что, согласно Соловьеву, Логос воплощается и спасает падшую «мировую душу», т. е. земную Софию, а это – одна из любимых тем древних гностиков первых веков. Но у Соловьева есть нечто свое: София должна царствовать над всем мирозданием, вести его по путям восхождения, быть ему «богиней».
Весьма подробно соловьевское учение о Софии разбирал А.Ф. Лосев и выявил немало аспектов этого учения: «абсолютный, богочеловеческий, космологический, универсально-феминистический, эстетически-теоретический, интимно-романтический, магический, национально-русский и эсхатологический» (15, с. 256). Может быть, из-за того, что книга адресована была в советское издательство, ассоциаций Софии с Церковью в списке нет, но Лосев был вправе не считать, что соловьевское понимание Софии имеет что-то общее с Церковью. Описанная многоаспектность означала, что каждый энтузиаст мог найти в таком учении что-нибудь близкое и нужное себе. Видя озадаченность современников его учением о Софии, Соловьев решительно отверг всякие домыслы своих оппонентов о поклонении ей как «богине» и любое отождествление Софии с женским началом, внесенным в самое Божество, назвав это «величайшим безумием» и «величайшей мерзостью». Этому он противопоставил «истинное почитание Вечной женственности», которая получила от века «силу Божества» и вместила в себя «полноту добра и истины» и «нетленное сияние красоты». Н. Лосский, приведя эти слова, назвал тех, кто с сомнением относился к «софийному» опыту Соловьева как к искушению, более православными, чем само православие. Одними этими словами снять вопросы, однако, невозможно. Дело не только в том, что кто-то отличается особой склонностью подозревать и ставить неприятные вопросы, но в том, что существует реальная проблема: как церковно оценивать предложенный Соловьевым «софийный» опыт и его интерпретацию. В конце концов, даже о. Александр Мень относил его «софийные» видения к искушениям, не говоря уж об о. Георгии Флоровском, о. Сергии Булгакове, И.М. Андрееве и мн. др., кто находил здесь привкус сомнительной эротики.
Некоторые авторы вслед за С. М. Соловьевым (5) стали разбирать вопрос о каббалистических корнях этой софиологии (см. 25, 26). Определенные основания для такой постановки вопроса есть: в молодости Соловьев занимался Каббалой, хотя и не мог бы стать настоящим каббалистом никогда. Для этого надо быть, во-первых, евреем, достигшим 40-летнего возраста, во-вторых, иудеем, успешно прошедшим школу Талмуда, и, в-третьих, изучать Каббалу не по одним только книгам, а под руководством опытного мастера. Соловьев мог знать о ней в общих чертах по книгам и из бесед с осведомленными евреями. «Каббала для неевреев», – так назовем то, что ему могли изложить. Ныне нечто подобное, можно предполагать, в еще более упрощенном виде, широко пропагандируют в России М. Лайтман и др. Каббала могла побудить его к размышлениям о неземной Софии вот каким образом. Абсолют или Божество (Эн-Соф) как бы «уходит в Себя», внутренне «сжимается» (совершает самоограничение – «цимцум»), освобождая некое «место» или «прапространство творения». Там и появляется София как «другое Бога»; она становится посредницей между Богом и миром. «Любая разновидность софиологии… явно или скрыто базируется на допущении цимцума» (26, с. 75). Заявление это нуждается в дополнительном обосновании, но верно и то, что о «цимцуме» Соловьев хорошо знал (6, т. Х, с. 340). Если вспомним схему описания высшего Всеединства, где Абсолют порождает из себя «свое другое», сходство с Каббалой напрашивается само собой.
И. Киреевский сказал бы, если бы софиология попала в поле его зрения, что потемненное духовное состояние Соловьева, связанное с опытом встреч с «дамой» и последовавшими затем гностическими и каббалистическими исканиями, привело к искажениям в работе его творческой мысли, к снижению ее качества, и с этим можно только согласиться. Видеть в Софии «богиню» и одновременно быть свободным философом, бесстрашно ищущим истину, на что претендовал Соловьев, – невозможно. Подлинную свободу духа, как писал Хомяков, мыслитель обретает только в соборном сознании Церкви. Бесстрашие свободной мысли должно поставить «богиню» под вопрос. И к чести Соловьева нужно сказать, что в 90-е годы он имел мужество продолжить философский поиск истины без ссылок на софиологию, хотя личным чувством избранника Софии он дорожил еще долго, предоставляя ему возможность выразиться в своих «софийных» стихотворениях.
§ 5. Восток и ЗападТема вековечного конфликта двух социально-культурных миров Востока и Запада была для Соловьева центральной. В наше время часто говорят и о других расколах (Север – Юг) и считают его видение односторонним, но Соловьев имел основание утверждать, что разрыв Востока и Запада реален и имел место задолго до появления Церкви. В этом плане важна его статья «Великий спор и христианская политика» (1883).
Запад, писал Соловьев, утверждал индивидуальную личность, его творческую самодеятельность, инициативу, самореализацию. Здесь исток западного динамизма, который, потеряв связь с духовными основами жизни, пришел к цивилизации безбожной. Восток принижал или подавлял человеческое начало во имя Высшего бытия. Восток консервативен в сравнении с Западом, но упускает, что лучший способ сохранять вечное наследие – давать ему в каждую эпоху новую жизнь, творчески обновлять ее формы. Консервируя внешние формы, как если бы они были единственно возможным выражением вечного содержания, Восток вел к творческому застою, к статике. Восток отличался также бесчеловечностью своих религий.
Христианство смогло преодолеть тупиковую односторонность Востока и Запада, очистить и внутренне восполнить одно и другое и создать единый христианский мир древности. Но когда христианство стало государственной религией, общий нравственный и духовный уровень стал снижаться. Начиная с IV в., тенденции к сепаратизму и расколу начали прорываться на первый план – в первую очередь в форме ересей.
Все ереси, с точки зрения Соловьева, можно суммарно оценить как отрицание Халкидонского догмата, выступление против Богочеловечества. Он считал ереси симптомами возврата в дохристианское состояние, попытки которого начались на христианском Востоке задолго до Ислама. В 1054 г. кардинал Гумберт и патриарх Михаил (Керулларий) обменялись анафемами, чем, согласно Соловьеву, и выразили, что былое противостояние Востока и Запада снова вышло на первый план. После этого христианский Восток, по оценке Соловьева, сконцентрировался на внутреннем застывании, а Запад развивался в духе римского понимания своей особой исключительности, своих властных притязаний и социальной активности. Мотив раскола Соловьев видел здесь не в ереси, а в том, что была принесена в жертву и на Востоке, и на Западе.
Соловьев писал, что Церковь существует для того, чтобы сила любви и правды Божией была проведена по всем направлениям церковной работы, во все виды человеческой деятельности, во всю жизнь человечества для его исцеления, преображения и воскресения. Упрек Соловьева таков: византийский Восток, особенно после раскола 1054 г., предоставил общество самому себе, и оно стало жить своими страстями, а те, кто жаждал истинного христианства (особенно монашествующие), отдалились и минимально влияли на нравы, культуру и общественную жизнь.
Немало потерял от раскола и Рим. Он, по своему практическому характеру, занялся строительством Царства Божия на земле в форме латинской теократии. Организующая воля Рима поддалась соблазну своевольно утверждать себя вопреки остальному христианскому миру. «Воистину если бы и в Риме и в Византии не искали своего, то разделения церквей не совершилось бы. Настоящая коренная причина всех дел человеческих, малых и больших, частных и всемирно-исторических, есть человеческая воля. И в настоящем случае, каковы бы ни были видимые поводы и способствующие обстоятельства для разделения церквей, оно окончательно могло произойти только потому, что с восточной и западной стороны крепко хотели покончить друг с другом. Важнее всего в этом деле был факт глубокой внутренней вражды между церковными людьми Востока и Запада. Было желание разрыва – разрыв совершился» (6, т. IV, с. 60–61).
Заявление, что именно воля всему причина, неполно воспроизводит трактовку воли Иоанном Дунс Скотом. Соловьев как философ должен был бы объяснить, что повлияло на выбор воли, например со стороны веры или со стороны искажений или заблуждений веры, т. е. со стороны догматической неправды. И не совсем корректно говорить, что весь разрыв состоялся именно в 1054 г. Впрочем, Соловьев прав, что здесь воля человеческая поставила себя выше воли Божией, и прав в дальнейших рассуждениях, что властолюбие Рима привело к папоцезаризму на Западе – к политическим и церковно-властным притязаниям пап. Во взаимоотношениях с православными церквами Рим явил религиозную форму властолюбия – папизм. В XI в. в Символ веры на Западе вносят Filioque, с Лионского собора 1274 г. началась надолго затянувшаяся униональная деятельность, а в 1870 г. I Ватиканский собор провозгласил свой догмат о безошибочности суждений папы ex cathedra, не думая о том, будет ли это принято православными церквами Востока.
Соловьев искал сближения христиан, а для этого вначале решил расчистить завалы, созданные историческими грехами разных времен. Он занялся тем, что теперь называют экуменической проблемой (термин этот введен протестантами в начале XX в.). Многие экуменисты ныне сами дискредитировали свое дело пренебрежительным отношением к тому, что свято и дорого православным христианам. Но если, несмотря на это, относиться к экуменизму хотя бы минимально положительно и искать в нем что-то доброе, то ему следует придавать смысл примирения христиан разных церквей на основе Христовой истины, а не их объединения на основе принципов или требований, чуждых Св. Преданию и вере Христовой. Без взаимного покаяния, прощения и любви здесь, конечно, не обойтись.
Жажда соединения христиан, борьба с расколотостью христианского мира как противоречащей воле Божией, готовность служить примирению христиан – вот что было глубинной мотивацией экуменических исканий Соловьева во все годы его творческой жизни. Однако на данном этапе он не обратил внимания на различие между подлинным примирением (в духе Христовой любви и истины) и внешне организовываемым объединением и явно отдавал предпочтение последнему. Он приводил весомый, с его точки зрения, аргумент: объединение всех христиан безусловно необходимо перед лицом роста сил антихристианских, это военно-стратегическая необходимость. Дело объединения, писал он, нужно рассматривать как дело христианской политики. В ранний период его творчества, надо признать, у него еще не было понимания объединения как проекта унии в католическом духе. Он считал, что Рим умерит свои притязания, а Восток признает, что далеко не вся евангельская правда была исполнена в социальной жизни у православных, поэтому взаимные шаги навстречу друг другу приведут к тому, что в каждой Церкви начнется духовное возрождение, которое их и сблизит.
Но что при этом не было учтено? Прот. А. Шмеман, хорошо знавший экуменическое движение на Западе изнутри, писал: «Прежде всего, Запад давно и почти полностью утратил сознание того, что он когда-то был именно половиной первоначальной Christianitas [лат. – христианский мир]… Чем настойчивее Запад отождествлял себя со всей Christianitas, тем более отодвигался Восток на периферию его исторической памяти…» (18, с. 236–237). При таком отношении к делу западное понимание христианской политики будет совсем другим, чем его хотел бы видеть тогда Соловьев.
В последующей полемике с российскими авторами, особенно с националистами, Соловьев все более склонялся к признанию того, что раскол Востока и Запада принес потери в основном только для христианского Востока, а Запад потерял не так уж и много. Чем дальше он спорил, тем больше он склонялся к признанию, что Запад почти ничего не потерял, но сохранил главное – независимость и активность иерархии. Здесь срабатывал соблазн теократии, с подменой теократии как власти Божией на ватиканскую иерократию.
Рим стал нужен Соловьеву как видимый организационный центр вселенского христианства в борьбе с силами воинствующего антихристианства и с греховными силами, растаскивавшими православных в разные национально ограниченные группировки.
«Одно из двух, – заявил Соловьев, – или вообще Церковь не должна быть централизована, в ней не должно быть никакого центра единения, или же этот центр находится в Риме, потому что ни за каким другим епископским престолом невозможно признать такого центрального для Вселенской Церкви значения» (6, т. IV, c. 8283).
В древней Церкви таких решительных (безальтернативных, как теперь говорят) требований не высказывал никто из Учителей и Отцов. И это понятно. Если вспомнить, как ап. Павел говорил о «единстве Духа в союзе мира» (Еф. 4:3), то вопрос о властной централизации предстает неуместным. Не поднимали его также серьезные православные духовные писатели трагического XX в. Напомним древнее свидетельство св. Игнатия Антиохийского, что для христиан Востока Рим первенствует в чести и любви (в начале его «Послания к римлянам»), а это не есть центральный авторитет. Соловьеву, в отличие от св. Игнатия, папа понадобился как вождь: «…Каждый папа есть не столько глава Церкви, сколько вождь данной исторической эпохи» (6, т. IV, с. 85).
Уступка папизму прозвучала в словах «глава» и «вождь» (целой эпохи!), чему не дан серьезный противовес – каждая Церковь, сохранившая чистоту веры и апостольское преемство, есть подлинная Церковь, в согласии с древнехристианским принципом «где епископ, там и Церковь»; все епископы образуют соборное единство, хранят верность истине и полноту благодати в Церкви. Хомяковского чувства соборности у Соловьева явно нет. Нет серьезного отношения к вопросу о догматическом единомыслии епископов, т. е. согласии в истине. Как и раннеславянофильского понимания того, что Византия – наша историческая мать, от которой получены все духовные сокровища.
Соловьеву не достает у веры в святость Церкви, в то, что она – Тело Христово, напоенное Духом Святым, а вместо этого превалируют земные стороны христианства, социальные задачи церквей, центральность Рима, военно-стратегические нужды перед лицом антихристианства и др. Упрекая православных за пренебрежение земным, Соловьев принизил значение в Церкви неземного начала. Ясно, что воли Божией на всеобщее политическое объединение всех христиан вокруг Рима не было и нет. «Христианская политика», на которую уповал в это время Соловьев, явно несет на себе все признаки воли человеческой, а не воли Божией, которая состоит в том, чтобы отношения между церквами были союзом любви Христовой. Весьма тяжелые примеры христианской политики Рима, такие как Ферраро-Флорентийский собор или Брест-Литовская уния, где ни о какой любви говорить невозможно, могли бы его отрезвить.
О его дальнейших уступках папизму, вплоть до временного принятия, а затем постепенного отхода от него, речь шла выше. В 1886 г. он написал в редакцию «Церковного Вестника»: «Имея свои особые мнения относительно спорных церковных вопросов, я остаюсь и уповаю всегда оставаться членом восточной православной Церкви не только формально, но и действительно, ничем не нарушая своего исповедания и исполняя соединенные с ним религиозные обязанности» (8, т. III, с. 193). Насколько не нарушал – ясно из предыдущего, но все же нужно отдать должное тому, что Соловьев не имел намерения уйти из православной Церкви. И лишь к концу жизни в «Трех разговорах» он перешел к другому пониманию роли папы, ближе к древнехристианскому.
По поводу теократии, ради которой Соловьев готов был согласиться с центральностью Рима в мировом христианстве, кн. Е.Н. Трубецкой писал, что Соловьев сделал неудачную попытку исправить старый средневековый папоцезаризм с его «двумя мечами» и пр. Самая суть этой теократии оказалась совершенно непродуманной: «С одной стороны, теократия для него – свободное соединение Бога и человека; с другой стороны, она – церковно-государственный строй, который может быть осуществлен путем принуждения, насилия» (т. 1, с. 538). Но она заявлена как свободная теократия. Такого не может быть: либо свобода разрушает теократию, либо теократия – свободу. При теократии Церковь вбирает в себя государство, что приведет, как вполне мог решить Ф. Достоевский, слушая лекции Соловьева, к появлению Великого инквизитора.
Подытоживая, нужно сказать, что соловьевская схема противопоставления Запада и православного Востока страдает грубостью и примитивностью. Трагедию Византийской империи списать на один только цезарепапизм, конечно, невозможно, как и на то «практическое монофизитство», которое он обвинительно приписал как лучшим, так и бытовым вариантам византийского благочестия. Осуждающий пафос Соловьева придает этому характер основных действующих причин трагедии. Но сам же Соловьев пишет о человеческом своеволии как главной действующей причине событий, откуда нужно сделать вывод, что причины следует искать в решениях, поступках и событиях. В таком случае он должен был бы отнести цезарепапизм и «практическое монофизитство» к условиям действия причин, а не к самим причинам и рассмотреть вопрос, насколько верно он описал сами эти условия и насколько жесткими они были в разные периоды византийской истории.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































