Читать книгу "Введение в русскую религиозную философию"
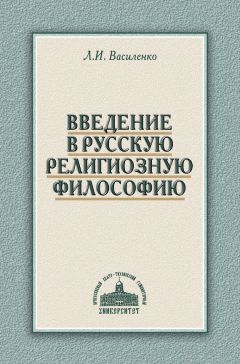
Автор книги: Леонид Василенко
Жанр: Философия, Наука и Образование
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Ранние славянофилы, как писал о. Василий Зеньковский, обрели точку духовной опоры «в сочетании национального сознания и правды Православия» (3, с. 38). Они боролись с западничеством, потому что многие из них сами прошли через искушения греховным величием и красотой западной культуры. Эту культуру теперь называют «постхристианской», она отвернулась от Христа и продолжает соблазнять на измену. Славянофилы преодолели ее искушения после нелегкой борьбы. Они увидели у западников самое элементарное и совершенно невыносимое идолопоклонство перед Европой, духовную капитуляцию слабых перед силой тех, кто не понимает сомнительность качества этой силы. А первое письмо Чаадаева восприняли как вызов, на который нужно было дать зрелый ответ.
«Время славянофильствует», – сказал впоследствии об этих днях В.Ф. Эрн. «Пафос возвращения» к православию и русскому народу, ностальгия по оставленному Западу, обманувшему былые надежды и мечты, страстная, нередко до перевозбужденности, вера в духовную силу русского народа – вот характерные черты творчества ранних славянофилов, отмеченные о. Георгием Флоровским (2, с. 253). И все же здесь были не только пристрастия, было также и вдумчивое «испытание духов»: «Пафос вечного и вселенского давал им право суда и оценки. Они осуждали Запад за отпадение от Вселенской Церкви…» (3, с. 261–262), а также за нежелание помнить о своих средневековых корнях.
Ранние славянофилы скорбно переживали трагедию западного исторического и религиозного пути как свою трагедию. Они также переосмыслили вопрос о призвании личности в мире. Западники вдохновлялись верой в важность активной культурной работы и придавали большое значение внешним формам общественной жизни, обеспечивающим свободное развитие личности. На первое место они поставили самореализацию личности в активном социальном служении, в гуще социальной борьбы с целью изменить мир к лучшему, либо на законных путях социальных реформ, либо – в крайних вариантах – путем революционного насилия над обществом.
Славянофилы не верили в спасительную силу реформ и тем более революций. Они настаивали, что личность призвана прежде всего совершить подвижнический труд над собой, нужный, чтобы привести свой внутренний мир и внешнюю деятельность в соответствие с волей и замыслом Божиим. Забыв об этой задаче, Запад пришел в духовно бедственное состояние. У славянофилов, однако, не было ясных идей относительно того, каким образом нравственно обновленная личность будет действовать, чтобы побеждать зло тогдашней российской жизни, чтобы Россия действительно смогла облагораживающим образом воздействовать на окружающие народы.
Националистического самопревознесения у ранних славянофилов искать не стоит. Есть другое – недоверие к западной культуре и к российским западникам, связанное с убеждением, что они хотят добиться решающих успехов в социальной и культурной работе, удовлетворяясь тем прискорбным состоянием природы человека, в каком она пребывает вне церковной ограды. Если это состояние плачевно, если не ставится задача нравственного перерождения человека, или если она ставится без должной духовной компетентности, то и успехи будут ненадежными, недолгими или просто фиктивными.
Ранние славянофилы не были врагами Запада. А.С. Хомяков известен часто цитируемыми стихами: «О грустно, грустно мне; ложится тьма густая на дальнем Западе, в стране святых чудес». В духовном отношении, возражал он Чаадаеву, мы «не отстали от других просвещенных народов; а язычество таится еще во всей Европе: сколько еще поклонников идолам, рассыпавшимся в золото и почести!» (8, т. 1, c. 450). Ради православия и национального возрождения России нужно дистанцироваться от Европы: на Западе «душа убывает», потеряв веру Христову и Высшую правду.
Не нужно думать, спорил Хомяков, что русские ничего не смогли сделать в истории, что они не способны к самостоятельной работе мысли. «Мы принимали от умиравшей Греции святое наследие, символ искупления и учились слову; мы отстаивали его от нашествия Корана и не отдали во власть папы; сохраняли непорочную голубицу, перелетевшую из Византии на берега Днепра и припавшую на грудь Владимира» (с. 454). Православная Византия – историческая мать русского православия – передала Руси полноту истины Христовой.
Многие славянофилы получили образование на Западе, где их заинтересовал романтизм Шеллинга, Шлейермахера и др. Немецкий романтизм возвышал мистику народной души, красоту искусства, настаивал, что искусство несет в себе больше истин, чем сухая философия. Западные романтики тянулись к религии, но редко когда заботились о чистоте истины. Романтизм стимулировал разное: возрождение католичества и протестантства в Германии, интерес к дохристианскому язычеству, идеалистический национализм. О. Георгий Флоровский писал, что на Западе многие «”возвращались” в Церковь в эпоху романтизма», видя в ней «единственную “органическую” силу среди “критического” разложения и распада всех скреп, в эпоху самого острого культурно-исторического кризиса» (2, с. 250). Шеллинг был уверен, что каждая нация в мире имеет особую миссию, которую ей уготовало Провидение; есть она и у России. Славянофилы с большим интересом отнеслись к этой теме. Но Хомяков и Киреевский прекрасно видели границу, разделяющую христианство и шеллингианство.
По оценке Бердяева, родоначальники славянофильства – Хомяков и Киреевский, а затем Ю. Самарин и И. Аксаков – трудились «на высоте европейской культуры». Им уступают более поздние – К. Аксаков, Н. Страхов, Н. Данилевский, Ап. Григорьев. Несколько особняком стоят Ф. Достоевский и К. Леонтьев. Мысль первого поколения славянофилов была глубокой, они верили, что русские православные сохранили здоровый духовный корень и верность древнехристианскому наследию, а это позволит определить исторические пути России без повторения западных ошибок.
Формулу графа С.С. Уварова «Православие, самодержавие, народность» принимали как ранние, так и поздние славянофилы, но трактовали ее по-разному. Ранние были за самодержавие и православное народное благочестие, потому что считали их ценным сосудом, хранящим святыню и истину православия. Монархию они считали лучшей в нравственном отношении формой правления в сравнении с демократическим правопорядком. Они не ожидали от демократизации ничего, кроме разрушения сосуда и гонений на тех, кто верен Богу и Церкви. Либералов поэтому они воспринимали как разрушителей России и врагов Церкви. Поздние славянофилы предпочитали думать, что православие ценно лишь тем, что оно, как писал митр. Антоний (Храповицкий), являет собой «главный, и весьма благородный, устой русской гражданственности, русской государственности»; они совершили «преклонение пред огромным, растущим великаном русского государства» («Колокол», 1909, № 1045, с. 2–3). Они потеряли из виду, что главное в православии – верность Христу Спасителю, о чем никогда не забывали ранние славянофилы.
§ 3. Иван Киреевский о разумно-свободной личностиИван Васильевич Киреевский прожил недолго (1806–1856) и написал немного – два изданных до революции тома. Наиболее примечательны работы «О характере просвещения Европы и о его отношении к просвещению России» (1852) и особенно «О необходимости и возможности новых начал для философии» (1856).

Жизненный путь его был труден. Поначалу увлекся западными идеями в их масонском виде и взялся издавать журнал «Европеец», но дело не пошло. По милости Божией он удачно женился. Жена его – Н. П. Арбенева – была духовной дочерью старца Филарета из Новоспасского монастыря и хорошо помогла его православному воцерковлению. Спустя некоторое время они вместе стали трудиться у старцев Оптиной пустыни. В конце своей долгой жизни она содействовала трудам священномученика Серафима (Чичагова).
Она подсказала Киреевскому, что волновавшие его проблемы, поднятые Шеллингом в «Философии откровения» и других работах, известны оптинским старцам по трудам Св. Отцов. Он познакомился с их трудами и воспринял этот подход, и постепенно дистанцировался от западников. В начале 40-х гг. Герцен признал: «Между им и нами стояло Православие» (5, с. LVI). Оптина приняла его. Духовником семьи стал старец Макарий. «Из всех мирских лиц, перебывавших в Оптиной Пустыни, Киреевский ближе других подошел к ее духу и понял, как никто другой, ее значение как духовной вершины, где сошлись и высший духовный подвиг внутреннего делания, венчаемый изобилием благодати даров стяжания Св. Духа, и одновременно служение миру во всей полноте, как в его духовных, так и житейских нуждах. Он видел в Оптиной претворение в жизнь мудрости святоотеческой» (И. М. Концевич, 9, с. 207).
Вера и труд принесли плоды. Святоотеческое наследие стало основой его мысли, а вопросы политические он навсегда отложил в сторону. Западная философия и тогдашняя образованная Россия не знали Отцов. Сообразовать с преданием Св. Отцов все вопросы тогдашнего образования и философского творчества – вот что стало жизненным делом Киреевского. Впоследствии о. Георгий Флоровский и др. продолжили эту нелегкую работу – «вхождения в разум Отцов», чтобы вновь обрести в их наследии образец для христианской мысли и жизни.
Вместе со старцем Макарием и С.П. Шевыревым Киреевский работал над переводами текстов свв. Исаака Сирина и Максима Исповедника. По благословению митр. Московского Филарета вышли в свет «Житие и писания Молдавского старца Паисия Величковского» (1847) и труды названных и других отцов-подвижников (см. 11). Но жизнь Киреевского была недолгой. Оптина Пустынь воздала ему честь тем, что его похоронили рядом с старцем Львом, а на могильном камне поместили слова Прем. 8:2,21.
Киреевский занялся философской антропологией, сосредоточив внимание на динамике духовной жизни верующего человека. Он привлек духовный опыт православия, противопоставив его западному христианству, т. к. считал последнее утратившим преемственность с полнотой духовного опыта древней Церкви. Киреевский не увлекался прогрессом и цивилизацией, как Чаадаев: Запад потому и динамичен, что, потеряв связь с духовными корнями, компенсирует эту потерю разными подменами. Но они духовно не убедительны, жажда правды не утоляется и Запад постоянно идет от одних подмен к другим, жаждет обновления – отсюда весь его динамизм.
Киреевский обратился к «любомудрию Св. Отцов» как источнику и основе подлинно православной философии, которую нужно создать в России в ответ на вызовы западной культуры. Святоотеческую мысль, «просвещенную высшим зрением», он назвал «зародышем этой будущей философии…, зародышем живым и ясным, но нуждающимся еще в развитии и не составляющим еще самой науки философии» (5, с. 276). Готовой святоотеческой философии у нас нет, писал он, создаст ее не одинокий автор, а общее единомыслие многих («добрые силы в одиночестве не растут» – с. 279). Киреевский призвал образованных русских смело взяться за решение сверхзадачи – овладеть «всем умственным развитием современного мира», чтобы «истина христианская тем полнее и торжественнее явила свое господство над относительными истинами человеческого разума» (с. 277).
Начинать нужно с восстановления полноты и чистоты духовного опыта, чтобы достичь единства веры, разума и нравственности, цельности души, целомудрия. Душа обычного (невоцерковленного) человека внутренне фрагментирована, его мышление не опирается на правильно поставленную жизнь сердца, на добродетель, и такой человек не может постичь истину: он думает одно, делает другое, мечтает о третьем. Он не знает, что в глубине его души есть та любовь к Богу, которая должна стать главным движущим мотивом разума. Тот же, кто обретает внутреннее единство души, правильный душевный строй, получает доступ к истине. Именно в православной Церкви преодолевается фрагментация внутреннего мира человека, потому что она сохранила преемственность с духовным опытом древнего христианства.
Человека плотского Киреевский описал как расщепленного на внутреннего и внешнего. Внешний человек – душевный; он живет страстями. Внутренний как бы дремлет. Некоторые люди могут всю жизнь оставаться в таком состоянии. Страсти внешнего человека связаны с «эго», отчужденным от его сердца. Для восстановления цельности своей души он должен пробудить сердце и вверить себя Богу. «Эго» должно отойти на второй план. Душевные силы должны отделиться от «эго» и укорениться во внутреннем «я» – в сердце.
Найти глубинное «я» нелегко тем, кто постоянно жил поверхностными интересами и страстями. Христианин с доверием вручает свое сердце Богу, и тогда начинается долгая и трудная спасительная работа по перестройке души, созиданию ее подлинно нравственного строя. В древности это называли путем добродетели. Разум, совесть, творческие способности, эстетическое чувство – все здесь отлагается от «эго» и переукореняется в сердце. Происходит «возвышение разума» – достигается его «сочувственное согласие с верою», «цельность разума» (5, сс. 248, 251). Эту цельность он часто называл «первобытной», имея в виду, надо думать, состояние разума до грехопадения. Эта аскетическая работа совершается в Церкви, в ней «собирается душа» – разум, воля, чувства, совесть – в живое единство.
Для «цельности разума», настойчиво подчеркивал Киреевский, необходима «цельность жизни». Чтобы достичь ее, нужно иметь мужество вступить в решительную борьбу со своей самостью, борьбу под знаком той любви к Богу и ближнему, которая должна охватить всего человека. Нельзя быть христианином наполовину.
«Только с той минуты, когда решительное и всецелое обращение сердца к Христу отрезывает все корыстные стремления и внушает волю, твердую до мученичества, – только тогда начинает в душе заниматься заря другого дня» (5, с. 444).
Киреевский настаивал на соборном характере духовного труда и борьбы. Победа не будет индивидуальной – это победа всей Церкви, ее благодати, это синергия. Все должны содействовать обретению и сохранению благодати каждого. Победа каждого человека – победа всех; она вносит свой вклад в то, чтобы другие люди могли пройти по этому пути и достичь победы над страстями. «Каждая нравственная победа в тайне одной христианской души есть уже духовное торжество для всего христианского мира» (5, с. 285).
Анализируя внутреннюю работу человека, Киреевский пришел к выводу: в ком эта работа, по милости Божией, принесла серьезные плоды, кого привела к достижению «цельности жизни» и «цельности разума», тот способен обрести истину. Это истина верующего сердца – сердца, в котором любовь к Богу, вера, воля к добру и совесть соединены с мышлением. Разум здесь един с любовью к Богу и ближнему, а душа воскрешена от пленения в эгоизме. Истина созидает нового человека, живущего полнокровной жизнью, – «разумно-свободную личность» (5, с. 281), поэтому так важны верность истине и любовь к ней. Человек, достигший духовной просвещенности разума, улучшает качество своей мысли и вправе серьезно заниматься философией. Западный идеализм и рационализм не предполагают такой духовной работы, значит, полноты истины в них нет и быть не может. Разум, который западная культура оставляет в падшем состоянии, далек от разумения истины.
Он писал: «Внутреннее сознание, что есть в глубине души живое общее средоточие для всех отдельных сил разума, сокрытое от обыкновенного состояния духа человеческого, но достижимое для ищущего и одно достойное постигать высшую истину, – такое сознание постоянно возвышает самый образ мышления человека; смиряя его рассудочное самомнение, он не стесняет свободы естественных законов его разума, напротив, укрепляя его самобытность и вместе с тем добровольно подчиняет его вере. Тогда на всякое мышление, исходящее не из высшего источника разумения, он смотрит как на неполное и потому неверное знание, которое не может служить выражением высшей истины, хотя может быть полезным на своем подчиненном месте и даже иногда быть необходимою ступенью для другого знания, стоящего на ступени еще низшей. Потому свободное развитие естественных законов разума не может быть вредно для веры православно мыслящего. Православно верующий может заразиться неверием – и то только при недостатке внешней самобытной образованности, – но не может, как мыслящий других исповеданий, естественным развитием разума прийти к неверию» (5, с. 249–250).
Неполное знание не следует считать всегда неверным, т. к. за всю историю рода человеческого никто не достигал полноты ни в какой области знаний. Свою далеко идущую оценку И. Киреевский сам ограничил рядом оговорок и признал «относительную истинность» тех знаний, которые получает разум в невоцерковленном состоянии (5, с. 251). При этом он прав в критике рационализма как самомнения разума, как гордости ума, распространенной в западной философии и социальной жизни, в западном христианстве. Рационализмом он объяснял появление Filioque (лат. «и от Сына») в католическом Символе веры, хотя дело не только в этом.
Еще пример его критики. Рационалист Декарт исходил в философии из горделивого чувства личного самосознания: Cogito ergo sum (лат. «Я мыслю, следовательно, я есть»). Разум человека, как думали Декарт и его последователи, способен, не нуждаясь в вере, выйти на прямое созерцание безошибочных истин, осмыслить их и построить надежную систему знания. Но, возражал И.Киреевский, самосознание, отделенное от всех и от Церкви, не достигает безошибочности.
Была ли его критика Запада во всем справедливой? Начиная с Паскаля, там тоже критиковали рационализм, так что не следует сводить все западное целиком к рационализму. Киреевского нередко сопоставляли с Паскалем, который тоже писал о познании Бога и о сердце человека; можно сравнить и с Максом Шелером в XX в. Киреевский трактовал неправоту рационализма так: индивидуалистический разум не достигает истины, потому что мыслит в отрыве от реальности, воспринимаемой сердцем, полным верой. Вера просвещает душу, формирует разум, вводит его в истину, и он уже не думает об истине как о чем-то внешнем. Сама истина становится в нем светом, позволяющим осмысливать все остальное.
Истина открывается тем, кто достигает единства сердца и разума, а сердце – единства с Богом в Церкви, живого общения с Ним. Когда сердце и разум едины в любви к Богу, в подлинной вере, в живом и ответственном церковном служении, им открывается тайна истории, тайна внутреннего мира личности – здесь Киреевский прав. «Верою познаём, что веки устроены словом Божиим», – писал ап. Павел (Евр. 11:3). Как именно верующее мышление обретает глубокое внутреннее единство с реальностью, Киреевский конкретно не разъяснил.
Некоторые авторы указывали на недостаточную философскую ясность его слов «цельность разума» и «только существенность может прикасаться к существенному» (5, с. 280). Под «существенностью» Киреевский понимал, судя по всему, внутреннюю собранность разумно-свободной личности, которой таинственным образом дано войти в контакт с реальностью. Вере такой личности придается смысл не только общения с Богом или «взора сердца к Богу» (с. 90), но и способности доступа к внутренней жизни созданного Богом мира. Мы вправе сказать в порядке комментария, что обретение цельности в смысле Киреевского следует понимать скорее как условие достижения истины, чем как ее гарант. Можно допустить, что вера, понимаемая как верующее мышление, получает доступ к реальности через особые личные акты откровения свыше, которые могут даваться по крайней мере некоторым из тех, кто стал разумно-свободной личностью.
Духовная истина православия раскрывается в Церкви в ходе исторического процесса, охватывающего народную и государственную жизнь. Триединую формулу «Православие, самодержавие, народность» Киреевский трактовал в том смысле, что именно православию принадлежит духовно ведущая роль. Народ нуждается в руководстве Церкви, потому что хотя он и сохранил еще веру, «но, по несчастью, нельзя не сознаться, что он потерял уже одну из необходимых основ общественной добродетели: уважение к святыне правды» (5, с. 272). Народ должен быть в глубоком духовном единомыслии со своей Православной Церковью и народность следует понимать как «соборность духовно-свободных личностей» (И. Смолич), всецело преданных Церкви.
Государство должно проникаться духом церковности и ее верой, брать на себя служебную роль по отношению к верующему народу, единому с Церковью. Киреевский готов был ждать обращения государственных деятелей к вере церковной и народной, он был решительно против того западного понимания, что государство и его институты должны быть отделены от Церкви. Он был также против произвольного вмешательства властителей в дела Церкви, поэтому оценивал Ивана Грозного как «еретика» за его поступки в отношении к Церкви, «еретика», очевидно, не в догматическом смысле, а в смысле «ереси жизни».









































