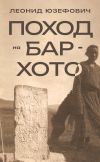Текст книги "Самодержец пустыни"

Автор книги: Леонид Юзефович
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 37 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Роберт и Роман. от Австрии до Амура
1
В плену Унгерн сказал, что не считает себя русским патриотом, и своей “родиной” назвал Австрию. Действительно, родился он не на Даго, как обычно указывается, а в австрийском Граце. Точная дата его рождения долго оставалась спорной, лишь недавно американский историк Уиллард Сандерленд съездил в Грац, нашел лютеранскую церковь, где крестили Унгерна, и по записи в церковно-приходской книге установил ее окончательно – 10 (22) января 1886 года[12]12
В первом и втором изданиях этой книги датой рождения Унгерна я называл 17 (29) декабря 1885 г. Этот день фигурирует в переписке его двоюродных братьев Эрнста и Арвида Унгерн-Штернбергов (Исторический архив Эстонии в Тарту, ф. 1423, oп. 1, д. 191).
[Закрыть].
По принятой в немецких дворянских семьях традиции, позволяющей иметь не одного небесного покровителя, а троих, мальчик при крещении получил тройное имя – Роберт– Николай-Максимилиан. Позднее последние два были отброшены, а первое заменено наиболее близким по звучанию начального слога славянским – Роман. Оно ассоциировалось и с фамилией царствующего дома, и с суровыми добродетелями древних римлян, и к концу жизни стало казаться как нельзя более подходящим его обладателю, чья отвага и фанатичная преданность свергнутой династии были широко известны. По отцу, Теодору-Леонгарду-Рудольфу, сын стал Романом Федоровичем.
Отец, младший ребенок в семье, при четырех старших братьях на сколько-нибудь значительное наследство рассчитывать не мог, но в 1880 году двадцатитрехлетним юношей он женился на девятнадцатилетней Софи-Шарлотте фон Вимпфен, уроженке Штутгарта[13]13
Франко-немецкий (гугенотский) род баронов фон Вимпфен дал Франции двух известных генералов: один в 1793 г. возглавил армию, созданную жирондистами для борьбы с якобинской диктатурой, другой сражался с русскими в Крыму и с пруссаками под Седаном.
[Закрыть]. Невеста принесла ему солидное приданое. Супруги много путешествовали по Европе, пока не осели в Граце. Их первенец родился только на шестом году брака. Еще три года спустя появился на свет второй сын, Константин-Роберт-Эгингард.
После его рождения семья перебралась в Ревель, но еще раньше, летом 1887 года, Теодор-Леонгард-Рудольф совершил поездку по Южному берегу Крыма с целью изучить возможности развития там виноградарства. Путешествие было предпринято по заданию Департамента земледелия Министерства государственных имуществ. Свои выводы Унгерн-старший изложил в объемистом сочинении с цифрами и схемами, но как доктор философии, а не только геолог, попутно высказал ряд соображений, столь же любопытных, сколь и неуместных рядом с таблицами сравнительного плодородия крымских почв.
“Россия, – пишет он, например, – страна аномалий. Она одним скачком догнала Европу, миновав ее промежуточные стадии на пути к прогрессу”. В доказательство этого тезиса приводится следующий факт: от проселочных дорог Россия перешла к железным, а шоссейных практически не знала. В то время мало кто задумывался о том, что, прямо с проселка встав на рельсы, страна вот-вот покатится по ним к революции.
Это труд профессионала, знакомого и с почвоведением, и с химией, что не исключает склонности автора к своеобразному прожектерству. Если сын будет вынашивать планы создания ордена рыцарей-буддистов для борьбы с революцией, идея отца хотя и скромнее, заквашена на тех же дрожжах: для пропаганды виноделия среди крымских татар он предлагал учредить “класс странствующих учителей”. Этих бродячих проповедников автор изображал чуть ли не мучениками идеи, предупреждая, что их миссия потребует “много самопожертвования” и “при выборе таких лиц следует поступать с крайней осмотрительностью”. Крымские татары как мусульмане с понятной враждебностью относились к виноградной лозе, но стремление обставить хозяйственное предприятие конспирологической атрибутикой, облечь его в формы служения и подвижничества все-таки не совсем типично для нормального чиновника. Зная младшего Унгерна, в отце можно усмотреть зародыш тех черт, которые в полной мере проявятся в сыне.
Унгерн-старший страдал каким-то нервным расстройством. То ли это и послужило причиной развода, то ли отношения с женой довели его до психиатрической лечебницы, сказать трудно. Так или иначе, но в 1891 году супруги Унгерн-Штернберги со скандалом разошлись, пятилетний Роман и двухлетний Константин остались с матерью. Через три года она вышла замуж за барона Оскара Хойнинген-Хюне. Второй ее брак оказался более удачным; Софи-Шарлотта прожила с мужем до самой своей смерти в 1907 году и родила еще одного сына и двух дочерей.
Впоследствии сложилось мнение, будто она мало уделяла внимания первенцу, который с детства был предоставлен самому себе. Если даже и так, это не отразилось на его отношениях с единоутробным братом и сестрами. Они оставались вполне родственными даже после того, как мать умерла, но с отчимом Унгерн не поладил. Мальчик не слишком уютно чувствовал себя в семье, что не могло не сказаться на его характере. С родным отцом он, похоже, никаких связей не поддерживал на протяжении всей жизни. Не осталось ни малейших следов его участия в судьбе сына.
Во время Гражданской войны рассказывали, что отец Унгерна был зверски убит крестьянами в 1906 году, при “беспорядках” в Эстляндской губернии, и это якобы навсегда “положило в сыне глубокую ненависть к социализму”. Такого рода историями нередко оправдывают тех, чья жестокость не поддается рациональному объяснению. О состоявшем в Монголии при Унгерне легендарном душегубе Сипайло тоже говорили, будто в ургинских застенках он мстит за свою вырезанную большевиками семью. По крайней мере, словарь прибалтийских дворянских родов, изданный в Риге перед Второй мировой войной, датой смерти Теодора-Леонгарда-Рудольфа (Федора) Унгерн-Штернберга называет 1918 год, а ее местом – Петроград. Обстоятельства, при которых он погиб или умер, неизвестны.
2
До четырнадцати лет Унгерн обучался дома, в 1900 году поступил в ревельскую Николаевскую гимназию, но через два года был исключен. “Несмотря на одаренность, – пишет его кузен Арвид Унгерн-Штернберг, – Роман вынужден был покинуть гимназию из-за плохого прилежания и многочисленных школьных проступков”. Отчим решил, что при таком характере ему больше подойдет военное учебное заведение, и отдал пасынка в петербургский Морской корпус. Родной отец в этих хлопотах никак не участвовал. Он тогда жил в Петербурге, но даже билет на право брать мальчика в отпуск был выписан на другое лицо.
Семью годами позже Унгерн аттестовался начальством как “очень хороший кадет”, который “любит физические упражнения и очень хорошо работает на марсе”, при этом ленив и “не особенно опрятен”. Сохранился внушительный список его “проступков”, регулярно караемых сидением в карцере. Всё это преступления достаточно невинные: “вернулся из отпуска с длинными волосами”, “курил в палубе”, “бегал по классному коридору”, “не был на вечернем уроке Закона Божия”, “потушил лампочку в курилке перед входом офицера”, “дурно стоял в церкви”, “уклонялся от утренней гимнастики” и т. д. Постоянно фигурируют какие-то состоящие под строжайшим запретом, но любезные сердцу шестнадцатилетнего кадета Унгерн-Штернберга “ботинки с пуговицами”.
О его характере можно судить по тому, что он способен был сбежать из-под ареста, пока дежурный уносил посуду после обеда, и вызывающе “разгуливал по шканцам”. Отроческое бунтарство сочеталось в нем с мрачностью и застенчивостью. При чтении реестра его проказ нельзя не заметить, что почти все они совершались не в компании сверстников, а в одиночестве.
Со временем он начинает хуже учиться. Автор очередной аттестации, указывая на его грубость и неопрятность, делает далеко идущий вывод: “Весьма плохой нравственности при тупом умственном развитии”. В последнее поверить трудно, тем не менее в 1904 году Унгерн оставлен на второй год в младшем специальном классе. Еще через полгода родителям предложено “взять его на свое попечение”, поскольку поведение их сына “достигло предельного балла (4) и продолжает ухудшаться”. Мать и отчим предупреждены, что в любом случае, возьмут они его домой или нет, из корпуса он будет отчислен.
“Вскоре после начала Русско-японской войны, – не без умиления повествует первый биограф Унгерна, Николай Князев, – на утренней поверке как-то недосчитались троих гардемарин младшего класса; одного из них, конечно, звали Романом”. В действительности ничего подобного не было, хотя сам Унгерн тоже говорил, что добровольно оставил Морской корпус, дабы попасть на войну с японцами. Документы это опровергают, но можно допустить, что положение второгодника было для него унизительно, отношения с начальством испортились вконец, поэтому он решил ехать на войну и “предельным баллом” по поведению сознательно провоцировал свое исключение.
С помощью отчима Унгерн оформился вольноопределяющимся в 91-й Двинский пехотный полк, но повоевать ему не удалось. На Дальний Восток он попал в июне 1905 года, когда бои уже прекратились. Рассказы о его ранениях и полученном им Георгиевском кресте (или даже трех) за храбрость – легенда. Правда, послужной список Унгерна сообщает, что он был награжден “светло-бронзовой” медалью “за поход в Русско-японскую войну”, а всем нижним чинам, прибывшим в действующую армию после сражения под Мукденом, которое Николай II постановил считать концом войны, давали такую же медаль, но “темно-бронзовую”. Это позволяет допустить, что в каких-то диверсионных вылазках Унгерн все-таки успел поучаствовать[14]14
Сообщено В. Е. Чуровым.
[Закрыть].
Вольноопределяющийся должен был прослужить в армии один год. По истечении этого срока Унгерн вернулся в Петербург и поступил сначала в Инженерное военное училище, где проучился очень недолго, затем – в Павловское пехотное. Здесь он прошел “полный курс наук” и в 1908 году был произведен в офицеры, но не в подпоручики, как следовало ожидать по профилю училища, а в хорунжие 1-го Аргунского полка Забайкальского казачьего войска. Странное для “павлона”, как называли павловских юнкеров, производство и назначение Арвид Унгерн-Штернберг объяснял тем, что его кузен мечтал служить в кавалерии, а выпускнику пехотного училища “возможно было осуществить это желание только в казачьем полку”. Назначению предшествовала обязательная в таких случаях процедура приписки к одной из забайкальских станиц.
То, что из всех казачьих войск Унгерн выбрал второразрядное Забайкальское, его враги объясняли “шкурным” стремлением получить большие “проездные и подъемные”, а поклонники – увлеченностью “просторами и дебрями Забайкалья”, которые “приглянулись” ему по дороге в Маньчжурию и где могла “найти приют его мятущаяся душа”, но скорее всего, причина в другом: как раз в то время поползли слухи о надвигающейся новой войне с Японией, и он хотел быть поближе к будущему театру военных действий.
3
В мирное время Забайкальское казачье войско выставляло четыре “первоочередных” полка шестисотенного состава – Читинский, Нерчинский, Верхнеудинский и Аргунский, базировавшийся на железнодорожной станции Даурия вблизи китайской границы. Здесь Унгерн начал службу и быстро стал превосходным наездником. “Ездит хорошо и лихо, в седле очень вынослив”, – аттестовал его командир сотни.
В августе 1921 года, когда он попал в плен к красным, на одном из допросов было сделано краткое описание его внешности. В нем отмечено: “На лбу рубец, полученный на Востоке, на дуэли”. По словам Врангеля, хорошо запомнившего этот шрам, рана от полученного тогда шашечного удара заставляла Унгерна всю жизнь мучиться “сильнейшими головными болями” и “отражалась на его психике”. Говорили, будто из-за нее он временами даже терял зрение.
В начале XX века дуэли в русской армии не были запрещены, напротив, поощрялись как средство поддержания корпоративного сознания офицерства. Традицию столетней давности искусственно реанимировали сверху, соответственно усилился элемент государственной регламентации в этой деликатной сфере. Поединок перестал быть интимным делом двоих. Необходимость дуэли определялась офицерскими судами чести, за чьей деятельностью надзирали командиры полков и начальники дивизий. Они же выступали арбитрами в спорных вопросах. В результате, как это всегда бывает, когда обычай превращается в писаный закон, священный некогда ритуал утратил былую значимость.
В дивизии, где служил Унгерн, произошел, например, такой инцидент. Один офицер нанес другому “оскорбление действием”, и суд чести вынес постановление о необходимости поединка. Противники сделали по выстрелу с дистанции в двадцать пять шагов, после чего помирились. Выяснилось, однако, что накануне секунданты одного из них предложили секундантам другой стороны не заряжать пистолетов, а обставить дело лишь “внешними формальностями”. Те отказались, и двоим офицерам, решившим вместо дуэли устроить ее имитацию, по приговору суда чести пришлось покинуть полк.
Казалось бы, иницидент исчерпан, виновные наказаны, но начальник дивизии был возмущен. “Нравственные правила и благородство исчезают в офицерской среде, – пенял он полковым командирам, – и среда эта приобретает мещанские взгляды на нравственность и порядочность”. Негодование было вызвано тем, что изгнанию не подверглись и секунданты противной стороны. Ведь они, выслушав порочащее их предложение, не потребовали сатисфакции, а довольствовались докладом о случившемся. Да и суд чести, не настояв на обязательности еще двух поединков, не оправдал ни имени своего, ни предназначения[15]15
С началом Первой мировой войны дуэли в армии запретили, но когда в декабре 1917 г. прапорщик Крыленко стал большевистским главковерхом, несколько офицеров через газеты послали ему вызов на дуэль, соглашаясь драться в любом месте и на любых условиях. Ответа, естественно, не последовало.
[Закрыть].
Обвинить Унгерна в “мещанских взглядах на нравственность” не мог бы никто, но через полтора года службы в Даурии ему пришлось оставить полк. Причиной послужила не дуэль, а опять же то обстоятельство, что она не состоялась в ситуации, когда обойтись без нее было нельзя.
На попойке в офицерском собрании Унгерн поссорился с сотником Михайловым, и тот при всех назвал его проституткой. Барон почему-то смолчал и мало того, что в ближайшие дни не послал обидчику вызов, но даже не потребовал извинений. Возмущенные офицеры созвали суд чести, однако Унгерн не пожелал ничего объяснять. Что побудило его так себя вести, неизвестно. В трусости его никто никогда не обвинял, но в итоге и ему, и Михайлову предложили перевестись в другой полк. Их поединок так и не состоялся, а шрам на лбу Унгерн получил уже на новом месте службы, в Благовещенске-на– Амуре. Правда, это была не “дуэль”, как говорил он сам, а тоже пьяная ссора, перешедшая в рубку на шашках.
Об этом в 1926 году в Пекине написал бывший офицер Голубев, поименно перечислив входивших в состав суда чести и решавших участь барона офицеров-аргунцев. Сам Унгерн говорил, что свой шрам он получил “на Востоке”. В Иркутске, где проходил допрос, так можно было сказать про Дальний Восток, но не про соседнее Забайкалье. Видимо, Унгерн имел основания не только не вызывать на дуэль оскорбившего его Михайлова, но и отказаться объяснять причины своего отказа. Есть в этой темной истории какая-то психологическая убедительность.
По другой, менее обоснованной версии, пьяная ссора, в которой Унгерну разрубили лоб, произошла в Даурии. После излечения он вызвал обидчика на дуэль, а поскольку тот не принял вызов, оба были исключены из офицерского состава полка.
Так или иначе, но Унгерн перевелся в Амурский полк – единственный штатный полк Амурского казачьего войска. В 1910 году он покинул Даурию, чтобы возвратиться туда через восемь лет и превратить название этой станции в символ белого террора и едва ли не иррационального ужаса.
Как всюду на русском Дальнем Востоке, немалый процент жителей Благовещенска, где располагались квартиры Амурского полка, составляли китайцы и корейцы. После недавних слухов о близящейся войне с Японией относились к ним с подозрением. В каждом узкоглазом парикмахере, содержателе бань, торговце пампушками или гороховой мукой готовы были видеть переодетого офицера японского Генерального штаба. В местных куртизанках тоже подозревали агентов иностранных разведок.
В 1913 году приамурский генерал-квартирмейстер Алексей Будберг (через пять лет он станет военным министром в правительстве Колчака) разослал командирам полков следующее циркулярное письмо: “Штаб Приамурского военного округа получил совершенно секретные сведения, указывающие на то, что во многих общеувеселительных учреждениях, находящихся в пунктах расположения войск округа, очень часто можно встретить гг. офицеров в обществе дам, обращающих на себя внимание своим крикливым нарядом, говорящим далеко не за их скромность. При выяснении этих лиц нередко оказывалось, что таковые именуют себя гражданскими женами того или иного офицера, а при более подробном обследовании их самоличности устанавливалось, что их можно видеть выступающими на подмостках кафешантанов в качестве шансонеток или же находящимися в составе дамских оркестров, играющих в ресторанах разных рангов на разного рода музыкальных инструментах, причем большая часть таких шансонеток и музыкантш – иностранки. Интимная близость этих особ к гг. офицерам ставит их в отличные условия по свободному проникновению в запретные для невоенных районы, т. к. бывая в квартирах гг. офицеров, они пользуются не менее свободным доступом ко всему тому, что находится в квартирах их, – как секретному, так и несекретному. А если к этому прибавить состояние опьянения и связанную с последним болтливость, то становится ясно, что лучшим условием для разведки являются вышеизложенные обстоятельства, а самым удобным контингентом для разведывательных целей являются: шансонетки, женщины легкого поведения, дамы полусвета, оркестровые дамы. Причем в каждой из них есть еще и тот плюс, что в силу личных своих качеств (как, например, красота) каждая может взять верх над мужчиной, и последний, подпав под влияние женщины, делается послушным в ее руках орудием при осуществлении ею преступных целей включительно до шпионства”.
В программу русских цирков входила женская борьба, проводились первенства. Женщины-артистки в многоязычных, бурно растущих городах Дальнего Востока тем более тогда никого не удивляли, но под пером генерал-квартирмейстера они предстают созданиями коварными и крайне опасными. Капитаны и поручики легко становятся их жертвами. Кажется, Будберга больше тревожат сами офицеры, чем те секреты, которые могут выведать у них иностранные разведки через “оркестровых дам” и кафешантанных певичек. Сквозь формы армейского циркуляра, комичного в архаически-казенном обличении “злых женок”, прорывается печальное сознание слабости современного мужчины.
К Унгерну подобные опасения не относились ни в коей мере. Если он и посещал популярный у офицеров публичный дом “Аркадия” (полковое начальство регулярно предупреждало об опасностях этого “заведения”), едва ли такие визиты доставляли ему много радости. Женщины всегда мало его волновали. С однополчанами он тоже близко не сходился, так как “в умственном отношении стоял выше среднего уровня офицеров-казаков” и держался “в стороне от полковой жизни”. Это связано было и с его застенчивостью, от которой он не вполне избавился даже в зрелые годы. Один из мемуаристов назвал ее “дикой”.
В юности Унгерн много читал на разных языках. Немецкий и русский были для него одинаково родными, хотя по-русски он говорил “с едва уловимым акцентом”. Об этом пишет служивший под его началом Князев, добавляя, что “мысли отвлеченного характера легче и полнее барон выражал по-французски”, а по-английски “читал свободно”. По словам Оссендовского, в разговорах с ним Унгерн попеременно пользовался всеми этими четырьмя языками.
“Обладает мягким характером и доброй душой”, – свидетельствует служебная аттестация, выданная ему в 1912 году. К этой характеристике следует отнестись без иронии, но с немаловажной поправкой: пьяный, Унгерн был способен на самые грубые и эксцентричные выходки. Похоже, результатом одной из них стала пощечина, уже в годы Первой мировой войны при неизвестных обстоятельствах полученная им от генерала Леонтовича. Алкоголь рано сделался его проклятьем и одновременно – спасением от депрессии, которой, судя по всему, он страдал с молодости. Другим эффективным способом борьбы с ней были разного рода рискованные предприятия, в его лексиконе – “подвиги”.
Однажды Унгерн заключил пари с офицерами-однополчанами. Он обязался, не имея при себе ничего, кроме винтовки с патронами, и питаясь только “плодами охоты”, на одной лошади проехать несколько сотен верст по глухой тайге без дорог и проводников, а в заключение еще и “переплыть на коне большую реку”. Об этом пари слышали многие, но маршрут называли разный. В качестве начального и конечного пунктов указывались Даурия и Благовещенск, Благовещенск и Харбин, Харбин и Владивосток. Соответственно расстояние колебалось от 400 верст до тысячи, а в роли “большой реки” выступали то Зея, то Амур, то Сунгари. Врангель в своих мемуарах отправил Унгерна в тайгу на целый год, но дал ему в спутницы собаку. Другой мемуарист заменил лошадь ослом, а к собаке добавил охотничьего сокола; этот любимец барона будто бы постоянно восседал у него на плече, навсегда оставив там следы своих когтей. В главном, однако, сходились все – абсолютно не зная дальневосточной тайги, Унгерн прошел намеченный маршрут точно в срок и пари выиграл. Сам он объяснял свою затею тем, что “не терпит мирной жизни”, что “в его жилах течет кровь прибалтийских рыцарей, ему нужны подвиги”.
Как выпускника пехотного училища Унгерна поначалу приставили к пулеметной команде, но вскоре он добился более подходящей для себя должности начальника разведки 1-й сотни. Сотня имела единственный знак отличия – серебряную Георгиевскую трубу за поход в Китай в 1900 году; Россия тогда вместе с Англией, Францией, Германией и Японией подавила восстание ихэтуаней (“боксерское”), в котором Владимир Соловьев увидел первое движение просыпающегося “дракона”, первую зарницу грозы, несущей гибель западной цивилизации.
Полковая жизнь текла заведенным порядком. Офицеры ходили в наряд дежурными по полку, готовили свои подразделения к смотрам в табельные дни, руководили стрельбами, следили за перековкой и чисткой лошадей, за хранением оружия, за чистотой казарм, конюшен и коновязей. По утрам с нижними чинами занимались урядники, офицеры вели послеобеденные занятия в конном строю или “пеше по-конному”. Другие обязательные предметы: гимнастика, рубка и фехтование, укладка вьюка, полевой устав. Еженедельно проходили “беседы о войне”.
Новая война с Японией так и не началась, возможностей совершать подвиги в Благовещенске оказалось не больше, чем в Даурии. На быструю карьеру рассчитывать не приходилось, очередной чин сотника Унгерну присвоили в установленные сроки, на четвертом году службы. Гонимый гарнизонной скукой, в 1911 году он отпрашивается в полугодовой отпуск и уезжает в родной Ревель. Между тем в Монголии, на окраине доживающей последние месяцы Поднебесной империи, назревают события, в которые ему предстоит вмешаться дважды – через полтора года, а затем еще семь лет спустя.