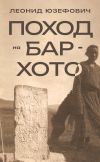Текст книги "Самодержец пустыни"

Автор книги: Леонид Юзефович
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 1 (всего у книги 37 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Леонид Юзефович
Самодержец пустыни. Барон Р. Ф. Унгерн-Штернберг и мир, в котором он жил
Предисловие к новому изданию
Это исправленный и расширенный вариант книги, впервые вышедшей в 1993 году, а писавшейся двумя-тремя годами раньше. Здесь много новых фактов, значительная часть которых почерпнута мною из публикаций С. Л. Кузьмина, но еще больше, может быть, новых наблюдений, толкований и аналогий. Шире, чем прежде, я использовал слухи, легенды, рассказы людей, чьи предки или родственники оказались втянуты в монгольскую эпопею Унгерна, и хотя их достоверность сомнительна, дух времени они выражают не менее ярко, чем документы. Тут я следовал за Геродотом, писавшим, что его долг – передавать все, о чем рассказывают, но верить всему он не обязан.
Я убрал кое-какие рассуждения и умозаключения, которые имелись в первых двух изданиях “Самодержца пустыни” и которые теперь кажутся мне ошибочными, наивными или просто лишними. Как и раньше, я старался быть объективным, но объективность ограничена временем и личностью автора. Глупо делать вид, будто за четверть века после выхода первого варианта этой книги мои убеждения и я сам остались прежними. Все мы за эти десятилетия стали другими людьми. Я не утверждаю, что вместе с нами изменилось и прошлое, хотя это совсем не так глупо, как может показаться, но чем дальше оно отодвигается от нас, тем больше может сказать о настоящем – не потому, что похоже на него, а потому, что в нем яснее проступает вечное.
Полки стояли как изваянные, молчаливые и такие тяжелые, что земля медленно уходила под ними вниз. Но не было знамен с полками…
Над равниной всходило второе солнце.
Оно шло невысоко. Ослепленные полки закрыли глаза, узнав в этом солнце все свои знамена.
Всеволод Вишневский1930 г.
Но Наполеона у нас не предвидится.
Да и где же наша Корсика? Грузия, Армения? Монголия?
Максимилиан Волошин1918 г.
Смысла железные двери величиной в пядь
Открываются ключами примеров величиной в локоть.
Гунтан-Банби-ДонмоXVII в.
Брат Мао Цзедуна
Летом 1971 года, ровно через полвека после того, как остзейский барон, белый генерал, монгольский князь и муж китайской принцессы Роман Федорович Унгерн-Штернберг был взят в плен и расстрелян, я услышал о том, что он, оказывается, до сих пор жив. Мне рассказал об этом пастух Больжи из бурятского улуса Эрхирик неподалеку от Улан-Удэ. Там наша мотострелковая рота с приданным ей взводом “пятьдесятчетверок” проводила выездные тактические занятия. Мы отрабатывали приемы танкового десанта. Двумя годами раньше, во время боев на Даманском, китайцы из ручных гранатометов ловко поджигали двигавшиеся на них танки, и теперь в порядке эксперимента на нас обкатывали новую тактику, не отраженную в полевом уставе: мы должны были идти в атаку не вслед за танками, не под защитой их брони, а впереди, беззащитные, чтобы очищать им путь, автоматным огнем уничтожая китайских гранатометчиков. Я в ту пору носил лейтенантские погоны, так что о разумности самой идеи судить не мне. К счастью, ни нам, ни кому-то другому не пришлось на деле проверить ее эффективность. Китайскому театру военных действий не суждено было открыться, но мы тогда этого еще не знали.
В улусе была небольшая откормочная ферма. Больжи состоял при ней пастухом и каждое утро выгонял телят к речке, вблизи которой мы занимались. Маленький, как и его монгольская лошадка, издали он напоминал ребенка верхом на пони, хотя ему было, думаю, никак не меньше пятидесяти. Из-под черной шляпы с узкими полями виднелся густой жесткий бобрик седины на затылке. Шляпу и брезентовый плащ Больжи не снимал даже днем, в самую жару.
Иногда, пока телята паслись у реки, он выходил к дороге посмотреть на наши маневры. Однажды во время обеда я принес ему котелок с супом, принятый им охотно, но с достоинством и без чрезмерной благодарности. В котелке над перловой жижей с ломтиками картофеля возвышалась баранья кость в красноватых разводах казенного жира. Первым делом Больжи объел с нее мясо и лишь потом взялся за ложку, объяснив мне, почему военный человек должен есть суп именно в такой последовательности: “Вдруг бой? Бах-бах! Все бросай, вперед! А ты самое главное не съел”. По тону чувствовалось, что это правило выведено из его личного опыта, а не взято в сокровищнице народной мудрости, откуда он щедро черпал другие свои советы.
В следующие дни, если в обеденный перерыв Больжи не появлялся у дороги, я отправлялся к нему сам. Обычно он сидел на берегу, но не лицом к реке, как сел бы любой европеец, а спиной. При этом в глазах его заметно было то выражение, с каким мы смотрим на текучую воду или языки огня в костре, словно степь с дрожащими над ней струями раскаленного воздуха казалась ему наполненной таким же таинственным вечным движением, одновременно волнующим и убаюкивающим. Под рукой у него всегда были две вещи – большой термос с чаем и выпущенный местным издательством роман Василия Яна “Чингисхан” в переводе на бурятский язык.
Я не помню, о чем мы говорили, когда Больжи вдруг сказал, что хочет подарить мне оберегающий от пуль амулет-гay, который в настоящем бою нужно будет положить в нагрудный карман гимнастерки или повесить на шею. Впрочем, я так его и не получил. Обещание не стоило принимать всерьез, оно было не более чем способом выразить мне дружеские чувства, что не накладывало на говорившего никаких обязательств. Однако назвать это заведомой ложью я бы не рискнул. Для Больжи намерение важно было само по себе, задуманное доброе дело не обращалось от неисполнения в свою противоположность и не ложилось грехом на душу. Просто в тот момент ему захотелось сказать мне что-нибудь приятное, и он не придумал ничего лучшего, чем посулить этот амулет. Тогда я не знал, что на войне буряты и монголы носили на груди особым образом свернутую охранную мантру Белозонтичной Тары, как русские – переписанный от руки 90-й псалом.
Подчеркивая не столько ценность подарка, сколько значение минуты, Больжи сообщил мне, что такой гау носил на себе барон Унгерн, поэтому его не могли убить.
Я удивился: то есть как не могли? Его же расстреляли.
В ответ сказано было как о чем-то общеизвестном: нет, он жив, живет в Америке. Затем с несколько меньшей степенью уверенности Больжи счел нужным добавить, что Унгерн – родной брат Мао Цзедуна, “вот почему Америка решила дружить с Китаем”.
Имелись в виду планы Вашингтона, до сих пор считавшего Тайвань единственным китайским государством, признать КНР и установить с ней дипломатические отношения. Это можно было истолковать как капитуляцию Белого дома перед реалиями эпохи, но с нашей стороны законного злорадства не наблюдалось. Газеты скупо и без каких-либо комментариев, что тогда бывало нечасто, писали о предполагаемых поставках в Китай американской военной техники. Популярный анекдот о том, как в китайском Генеральном штабе обсуждают план наступления на северного соседа (“Сначала пустим миллион, потом еще миллион, потом танки”. – “Как? Все сразу?” – “Нет, сперва один, потом другой”), грозил утратить свою актуальность. Впрочем, и без того все опасались фанатизма китайских солдат. Говорили, что ни на Даманском, ни под Семипалатинском они не сдавались в плен. Об этом рассказывали со смесью уважения и собственного превосходства – как о чем-то таком, чем мы тоже могли бы обладать и обладали когда-то, но отбросили во имя новых, высших ценностей. Очень похоже Больжи рассуждал о шамане из соседнего улуса. За ним безусловно признавались определенные способности, недоступные ламам из Иволгинского дацана, в то же время сам факт их существования не возвышал этого человека, напротив – сдвигал его далеко вниз по социальной лестнице.
Говорили, что китайцы стреляют из АКМ с точностью снайперской винтовки, что они необычайно выносливы: на дневном рационе, состоящем из горсточки риса, пехотинцы преодолевают в сутки чуть ли не по сотне километров. По слухам, вся территория к северу от Пекина изрезана бесчисленными линиями траншей, причем подземные бункеры так велики, что вмещают целые батальоны, и так тщательно замаскированы, что мы будем оставлять их у себя за спиной и постоянно драться в окружении. Успокаивали только рассказы о нашем секретном оружии для борьбы с миллионными фанатичными толпами, о превращенных в неприступные крепости пограничных сопках, где под слоем дерна и зарослями багульника скрыты в бетонных отсеках смертоносные установки с ласковыми, как у тайфунов, именами (“Василёк”). Впрочем, толком никто ничего не знал. На последних полосах газет Мао Цзедун фигурировал как персонаж одного бесконечного анекдота, между тем в Забайкалье перебрасывались мотострелковые и танковые дивизии из упраздненного Одесского военного округа.
Из китайских торговцев, содержателей номеров, искателей женьшеня и огородников, которые наводнили Сибирь в начале XX века, из сотен тысяч голодных землекопов послевоенных лет не осталось ни души. Они исчезли как-то вдруг, все разом; уехали, побросав своих русских жен, повинуясь недоступному нашим ушам, как ультразвук, далекому властному зову. Казалось, шпионить было некому, но мы почему-то были убеждены, что в Пекине знают о нас все. Когда я прибыл в часть по направлению из штаба округа, дежурный офицер сказал мне: “Ну, брат, повезло тебе. У нас такой полк, такой полк! Сам Мао Цзедун всех наших офицеров знает поименно”. Самое смешное, что я этому поверил.
Поверить, что Унгерн и Мао Цзедун – родные братья, при всей моей тогдашней наивности я не мог, но волновала сама возможность связать их друг с другом, а следовательно, и со мной, пребывающим ныне в том же географическом пространстве. Лишь позднее я понял, что Больжи вспомнил Унгерна не случайно. В то время должны были ожить старые легенды о нем и появиться новые. В монгольских и забайкальских степях никогда не забывали его имени, и что бы ни говорилось тогда и потом о причинах нашего конфликта с Китаем, в иррациональной атмосфере этого противостояния безумный барон просто не мог не воскреснуть.
К тому же для него это было не впервые. В Монголии он стал героем не казенного, а настоящего мифа, способным умирать и возрождаться. Да и к северу от эфемерной государственной границы между СССР и МНР невероятные истории о его чудесном спасении рассказывали задолго до моей встречи с Больжи. Наступал подходящий момент, и он вставал из своей затерянной под фундаментами городских новостроек, безвестной могилы в Новосибирске.
Унгерн – фигура локальная, если судить по арене и результатам его деятельности, порождение конкретного времени и места. Однако если оценивать его по идеям, имевшим мало общего с идеологией Белого движения; если учитывать, что его планы простирались до переустройства всего существующего миропорядка, а средства соответствовали целям, это явление совсем иного масштаба.
Одним из первых в XX столетии он прошел тот древний путь, на котором странствующий рыцарь становится бродячим убийцей, мечтатель – палачом, мистик – доктринером. На этом пути человек, стремящийся вернуть на землю золотой век, возвращает даже не медный, а каменный.
Впрочем, ни в эту, ни в любую другую схему Унгерн целиком не укладывается. В нем можно увидеть фанатичного борца с большевизмом и евразийца в седле, бунтаря эпохи модерна, протофашиста, провозвестника грядущих глобальных столкновений Востока и Запада и создателя одной из кровавых утопий XX века, кондотьера-философа и самоучку, опьяненного грубыми вытяжками великих идей, или одного из тех мелких тиранов, что вырастают на развалинах великих империй, но под каким бы углом ни смотреть, остается нечто ускользающее от самого пристального взгляда. Фигура Унгерна окружена мифами и кажется загадочной, но его тайна скрыта не в нем, а в нас самих, мечущихся между желанием восхищаться героем и чувством вины перед его жертвами; между надеждой на то, что добро приходит в мир путями зла, и нашим опытом, говорящим о тщетности этой надежды; между утраченной верой в человека и преклонением перед величием его дел; наконец, между неприятием нового мирового порядка и страхом перед близостью архаических стихий, в любой момент готовых прорвать тонкий слой современной цивилизации. Есть известный соблазн в балансе на грани восторга, ужаса и отвращения; отсюда, может быть, наш острый и болезненный интерес к этому человеку.
Стрела в колчане Божьем
1
В 1893 году крещеный бурят, практикующий тибетский врач Петр Бадмаев подал своему крестному отцу XII докладную записку под выразительным названием: “О присоединении к России Монголии, Тибета и Китая”. Он предсказывал, что маньчжурская династия скоро будет свергнута, дни ее сочтены, и советовал уже сейчас начать планомерную работу по утверждению в Срединной империи русского влияния, не то неизбежной после падения Цинов анархией воспользуются западные державы. Бадмаев предлагал тайно вооружить монголов, подкупить и привлечь на свою сторону ламство, занять ряд стратегических пунктов типа Ланьчжоу, наконец, организовать депутацию из Пекина, которая попросит русского государя принять Китай заодно с Тибетом и Монголией в свое подданство. “Европейцам пока еще не известно, что для китайцев безразлично, кто бы ими ни управлял, и что они совершенно равнодушны, к какой бы национальности ни принадлежала династия, которой они покоряются без особенного сопротивления”, – уверял царя Бадмаев.
Подобные идеи выдвигались и раньше. Еще Пржевальский писал об отсутствии у китайцев склонности к военному делу и считал возможным быстро завоевать весь Китай; по его мнению, для этого потребуется армия не многим большая, чем имели Кортес и Писарро при покорении ацтеков и инков. Отчеты Пржевальского предназначались для военного министерства и до Александра III, по-видимому, не доходили, иначе на сопроводительной записке Витте, представившего ему бадмаевский проект, он не оставил бы резолюцию: “Все это так ново, необыкновенно и фантастично, что с трудом верится в возможность успеха”.
Тем не менее Бадмаев получил на расходы два миллиона рублей золотом и выехал в Читу, где первым делом выстроил себе двухэтажный каменный дом в центре города[1]1
В 1918 г. этот особняк заняла семеновская контрразведка, превратив его в один из самых страшных застенков. – Здесь и далее примеч. автора.
[Закрыть]. Из Читы он совершил несколько поездок в Монголию и Пекин и вернулся в Петербург лишь через три года, когда вступивший на престол Николай II отказал ему в субсидиях. Ощутимых результатов его деятельность не принесла, но вектор имперской политики Бадмаев предугадал верно. Россия утвердилась в Маньчжурии, была построена Китайско-Восточная железная дорога, возник Харбин, Внешняя Монголия стала зоной русской экономической экспансии. В Тибет, который Бадмаев называл “ключом Азии”, с секретными миссиями направлялись казачьи офицеры из бурят, и англичане, в 1904 году войдя в Лхасу, искали там несуществующие склады с русскими трехлинейками.
А за четыре года до того, как бадмаевская записка легла на стол Александра III, Владимир Соловьев, будучи в Париже, попал на заседание Географического общества. Среди однообразной публики в серых костюмах его внимание привлек человек в ярком шелковом халате; это был китайский военный агент, как называли тогда военных атташе, генерал Чэнь Цзитун (у Соловьева – Чен Китонг). Вместе со всеми Соловьев “смеялся остротам желтого генерала и дивился чистоте и бойкости его французской речи”. Не сразу он понял, что перед ним представитель не только чуждого, но и враждебного мира. “Вы истощаетесь в непрерывных опытах, а мы воспользуемся плодами этих опытов для своего усиления, – передает Соловьев смысл его обращенных к европейцам предостережений. – Мы радуемся вашему прогрессу, но принимать в нем участие у нас нет ни надобности, ни охоты: вы сами приготовляете средства, которые мы употребим для того, чтобы покорить вас”.
Соловьев не подозревал, что такого рода заявления были рутинным приемом китайской дипломатии тех лет. Делались они с целью получить финансовые займы от западных стран, для чего полезным считалось немного их попугать. В европейских генштабах прекрасно знали, что Поднебесная империя безнадежно дряхлеет, что ее армия вооружена фузеями и алебардами, что лишь магические пушки, нарисованные на стенах крепостей, защищают их от огня современной артиллерии, поэтому Чэнь Цзитун адресовал свою речь не военным, а более впечатлительной публике, способной повлиять на общественное мнение. Ожидалось, что в итоге правительство Франции предоставит Китаю желанный кредит, дабы заполучить могущественного в будущем союзника.
Женатый на француженке Чэнь Цзитун, автор книг и статей во французской прессе, строил свои расчеты не на пустом месте. Соловьев, например, с юности был одержим мыслью о восточной угрозе, причем, по его словам, тут он “не был одинок”. Это была общеевропейская фобия, а для тогдашних интеллектуалов – еще и метафора слабости духовно скудеющего Запада[2]2
Недаром во время Гражданской войны китайцам отводилась роль чуть ли не главных союзников евреев в деле разрушения российской государственности, что плохо соотносилось с их реальной численностью в Красной армии.
[Закрыть]. Напряженное “ожидание исторической катастрофы на Дальнем Востоке” для Соловьева стало доминантой последних лет жизни. Он верил, что перед лицом общей опасности наступит примирение христианских конфессий, вот почему “панмонголизм” – “имя дико” – “ласкало” его слух.
Из книги французского миссионера-лазариста Жозефа Габе, в 1840-е годы побывавшего в Тибете, Соловьев почерпнул сведения о тайном “братстве или ордене келанов” (от тиб. калон, как называли советников далай-ламы) с их грандиозными религиозно-политическими замыслами. Они якобы стремились “завладеть верховной властью в Тибете, потом в Китае, а затем посредством китайских и монгольских войск покорить великое царство Оросов (Россию. – Л.Ю.) и весь мир, и воцарить повсюду истинную веру перед пришествием Будды Майтрейи”. Речь шла об эсхатологической войне Шамбалы с неверными, но Соловьев, подставив на место “келанов” реальных японцев (“вождей восточных островов”), в 1900 году в “Краткой повести об Антихристе” детально описал будущее нашествие азиатских полчищ на Европу:
“Узнав из газет и из исторических учебников о существовании на Западе панэллинизма, пангерманизма, панславизма, панисламизма, они (японцы. – Л.Ю.) провозгласили великую идею панмонголизма, т. е. собрания воедино, под своим главенством, всех народов Восточной Азии с целью решительной борьбы против чужеземцев, т. е. европейцев”[3]3
Впоследствии значение понятия “панмонголизм” сузилось. Так стали называть политическое течение, ставящее целью объединить в одном государстве всех монголов и бурят, разделенных между Монголией, Китаем и Россией. То, что имел в виду Соловьев, обозначалось термином “паназиатизм”.
[Закрыть]. Эта сугубо книжная идеология в итоге, по Соловьеву, становится роковой для Европы, откуда она пришла в Японию. Запад себе на погибель сам выковал это оружие.
Дальнейшие события происходят в течение жизни одного-двух поколений. После занятия Кореи, следом – Пекина, где на престоле свергнутых Цинов утверждается один из наследников микадо, японец по отцу и китаец по матери, новая сверхдержава приступает к завоеванию Азии, а затем и всего мира. Уничтожены архаические государственные структуры Поднебесной империи, ее армия реформирована японскими инструкторами. Пополненная тибетцами и монголами, она первый удар наносит на юго-восток: англичане вытесняются из Бирмы, французы – из Тонкина и Сиама. Заверив русское правительство, будто собранная в Китайском Туркестане четырехмиллионная армия предназначена для похода на Индию, богдыхан вторгается в Центральную Азию, занимает Сибирь, движется через Урал. Навстречу ему наскоро мобилизованные дивизии спешат из Польши, из Петербурга и Финляндии, но при отсутствии предварительного плана войны и огромном численном превосходстве неприятеля “боевые достоинства русских войск позволяют им только гибнуть с честью”. Корпуса истребляются один за другим в ожесточенных и безнадежных боях. После победы богдыхан оставляет часть сил в России “для преследования размножившихся партизанских отрядов”, а сам тремя армиями переходит границы Германии. Одна из них терпит поражение, но одновременно “во Франции берет верх партия запоздалого реванша, и скоро в тылу у немцев оказывается миллион вражьих штыков”. Очутившись “между молотом и наковальней”, Берлин капитулирует, “ликующие французы братаются с желтолицыми”, теряя всякое представление о дисциплине. Следует приказ перерезать легкомысленных союзников, что однажды ночью “исполняется с китайской аккуратностью”. В Париже побеждает восстание рабочих, “столица западной культуры радостно отворяет ворота владыке Востока”.
В результате вся Европа, включая Великобританию, сумевшую откупиться от ужасов нашествия миллиардом фунтов, за ней – Америка и Австралия, куда снаряжаются морские экспедиции, признают вассальную зависимость от богдыхана. Что касается мусульманского мира, он в этих катаклизмах попросту отсутствует. Соловьеву казалось, что ислам, как и народы, его исповедующие, целиком принадлежит прошлому.
Во время Русско-японской войны этот сюжет стал широко известен, в последующие годы оказался надолго забыт, но еще позже, когда никакая фантастика не могла соперничать с реальностью Гражданской войны в Сибири и японские дивизии дошли до Байкала, о нем вспомнили опять.
2
В 1918–1919 годах в забайкальских газетах регулярно появляются корреспонденции М. Волосовича, сотрудника русского дипломатического агентства в столице Монголии Урге. Корректируя Соловьева реалиями последних лет, напоминая, что в Сибири ныне “японофильская ориентация господствует от Байкала до океана и возглавляется бурятом” (намек на происхождение атамана Семенова), Волосович дает прогноз ближайшего будущего: “Восприняв германскую идею мирового владычества и сверхчеловечества, Япония при благодушном попустительстве белой расы сорганизует Китай, Монголию, бурят, русский Дальний Восток, Маньчжурию, Корею и т. д., а затем двинет их на Сибирь и Европу. Японофильствующий Восток упадет к ногам Токио, как спелый плод. На запад будут двинуты народы, роль коих – сложить свои головы пур л’оппарар де Жапань и своими трупами вымостить дорогу для триумфального шествия японцев. В авангарде пойдут буряты, затем монголы, за ними главная масса пушечного мяса – китайцы. Русские с Дальнего Востока будут убивать русских из Сибири, русские из Европы будут брошены на западных славян. Следом для романских и англо-саксонских народов наступит очередь испытать все ужасы желтого нашествия. Начнутся смуты «сознательных рабочих», европейцы будут выметены из Европы или обращены в рабов желтолицых”.
На исходе Первой мировой войны и в разгар Гражданской трудно поверить, что после покорения азиатами Европы настанет долгий период процветания и религиозного синкретизма, как в свое почти идиллическое время думал Соловьев. Если столь кошмарной оказалась война между народами одной расы, а ныне – внутри одного народа, столкновение “двух враждебных рас” не вызывает у Волосовича никаких иллюзий.
Установив причину глобальной опасности, он с легкостью находит и средство спасения, тоже, разумеется, единственное: Запад может быть спасен Монголией, ибо она “сильна своей религией и готова объединиться духовно под главенством ургинского первосвященника”. Монголы – “антагонисты японцев и китайцев”, “страна их пространством великая, дух воинственный и независимый”, но необходимо позаботиться о том, чтобы им выгоднее было заключить союз не с японцами, а с белой расой. В этом случае при покушении Японии на мировое господство, когда неисчислимая масса послушных Токио китайских войск двинется на север, “летучая” монгольская конница ворвется в Китай и “учинит такую диверсию, что китайцам станет не до наступления”. Затем, “пользуясь диверсией”, англичане ударят из Индии и Тибета, русские – из Туркестана; Пекину придется прекратить войну, Япония останется в одиночестве и вынуждена будет отказаться от своих претензий.
Соловьевские всадники Апокалипсиса у Волосовича превратились в картонных солдатиков, которых он вдохновенно передвигает по карте из гимназического учебника. Итоговый вывод сформулирован с предельной простотой и краткостью: “Кто будет иметь преимущественное влияние в Монголии, будет иметь таковое же и в Центрально-Восточной Азии, а после – и на всем земном шаре”.
Эти слова могли бы принадлежать Унгерну. Для него мировое зло воплощалось не в японцах, как для Волосовича, но оба они сходились в одном: путь к владычеству над миром проходит через Монголию. Правда, если Волосович считал ее не более чем перышком, способным склонить замершие в равновесии чаши весов в ту или иную сторону, то Унгерн относился к ней по-другому. Мало изменившаяся со времен Чингисхана, Монголия представлялась ему островом в море буржуазной европейской культуры, под чье развращающее влияние отчасти попали уже и сама Япония, и даже “недвижный” Китай.
Идеи Унгерна питались низведенным до дежурной темы русской журналистики мифом о “желтой опасности”, но с обратным знаком. “Существует не желтая опасность, а белая”, – говорил он[4]4
Понятие “белой опасности” (“хакабату”) было важнейшим элементом идеологии японского паназиатизма.
[Закрыть]. Страдающей стороной объявлялся Восток, призванный противостоять агрессору, чтобы в итоге стать его благодетелем. Унгерн верил, что лишь азиатское нашествие принесет Европе обновление; внутри ее самой такой очистительной силы не существует. Не случайно в его планах радикального переустройства мира важное место отводилось буддизму.
Немало одиночек и до, и после Унгерна искали точку духовной опоры на Востоке, но никто не пытался привязать ее к местности с целью создать стратегический плацдарм для борьбы с социализмом и либерализмом. Учение Будды волновало многих русских и западных интеллигентов, но только Унгерн собирался нести его в Европу на острие монгольской сабли. При этом образцом для него оставалась рухнувшая Поднебесная империя, которую он мечтал возродить ради “спасения человечества”.
Как буддист и проповедник паназиатизма Унгерн отпугивал белых эмигрантов, но он же сделался вдохновляющим примером тех успехов, каких может добиться в Азии европеец, разделяющий туземные идеалы. Вероятно, именно в этом качестве Унгерн в 1960-е годы заинтересовал американскую разведку: в нем увидели тип Куртца, героя “Сердца тьмы” Джозефа Конрада, для которого роль вождя африканского племени была еще и средством добычи слоновой кости для пославшей его в джунгли компании. Чтобы изучить опыт остзейского барона, ставшего монгольским ханом и чуть ли не живым божеством, в ЦРУ составили библиографию посвященных ему мемуаров, статей и доступных архивных документов на нескольких языках[5]5
Этот список из 197 названий приведен в книге польского историка и журналиста Витольда Михаловского “Testament barona Ungerna” (Warszawa, 2000).
[Закрыть].
При всем том идеология Унгерна проста, если не элементарна. В плену у красных этот сын доктора философии Лейпцигского университета и враг западной цивилизации, с солдатской категоричностью оперируя словами “должен” и “подлежит”, вкратце сформулировал свое кредо: “Восток должен столкнуться с Западом. Культура белой расы, приведшая европейские народы к революции, сопровождавшаяся веками всеобщей нивелировкой, упадком аристократии и прочая, подлежит распаду и замене желтой, восточной культурой, которая образовалась три тысячи лет назад и до сих пор сохраняется в неприкосновенности”.
3
В 1920 году, когда Унгерн гонялся за партизанами по забайкальским сопкам, в баварском Байрете, городе Рихарда Вагнера, Адольф Гитлер встретился с членами известного позднее “Общества Туле”. Среди них был Рудольф Гесс, ассистент кафедры геополитики в Мюнхенском университете, которую возглавлял Карл Хаусхофер, в прошлом немецкий военный атташе в Токио, в будущем президент Германской академии наук.
Согласно его гипотезе, прародиной ариев была Центральная Азия, район нынешней Гоби. Три-четыре тысячелетия назад климат здесь изменился, цветущие долины превратились в пустыню, после чего арийские племена переселились частью в Индию, частью – на север Европы; значит, легендарную Туле, традиционно отождествляемую с Исландией или Гренландией, нужно искать на Востоке. Подтверждением этой гипотезы служил буддийский миф о Шамбале, подземной стране мудрецов и праведников. Они рассматривались как носители эзотерической культуры народа, в древности обитавшего на территории Монголии, Тибета и Амдо. Считалось, что предание о Шамбале в фантастической форме отражает исход ариев, стоявших на более высокой цивилизационной ступени, чем те племена, что пришли им на смену и создали этот миф.
В 1930-е годы гипотеза Хаусхофера стала одной из официальных научных доктрин Третьего рейха. Монголия и Тибет трактовались как колыбель германцев, как потаенное мистическое сердце мира. Отсюда совсем близко и до Волосовича с его уверенностью, что хозяин Монголии обретет власть над всей планетой, и до попытки Унгерна отсюда начать строительство нового миропорядка.
В сознании современников эти идеи наложились на совсем другую традицию, восходящую к Елене Блаватской с ее “Тайной доктриной”. Ссылаясь на некие рукописи из гималайских монастырей, она утверждала, будто в Тибете находятся центры сакрального знания, сохраненного для человечества полубожественными старцами-“махатмами”. Позже француз Жозеф Сент-Ив д’Альвейдр локализовал место их обитания. С помощью телепатических посланий, которые, как он утверждал, присылал ему далай-лама, Сент-Ив подробно описал существующий под Гималаями священный город Агарта (Агартхи), чьи обитатели тайно контролируют ход мировой истории через избранных ими народоводителей верхнего, наземного мира. Наконец, в 1922 году, в Нью-Йорке, вышла книга Антония Фердинанда Оссендовского “Люди, звери и боги”, имевшая колоссальный успех по обе стороны Атлантики. В Германии среди ее читателей были Гесс, Хаусхофер и, возможно, Гитлер, а в Советской России – эзотерик Александр Барченко, небезуспешно убеждавший ОГПУ в возможности поставить могущество Шамбалы на службу мировой революции. Умалчивая о Сент-Иве как источнике своего вдохновения, Оссендовский оперировал исключительно личными впечатлениями, якобы вынесенными из встреч с монгольскими князьями и ламами. Вложенные в их уста красочные рассказы о подземном “царстве Агарты” обеспечили новым кредитом поблекшие к тому времени фантазии французского оккультиста.
Книга Оссендовского появилась через год после смерти Унгерна, но это не значит, что ему не известно было ее содержание. Автора он знал лично и часами беседовал с ним в мае 1921 года, накануне похода из Монголии в Забайкалье. Поговаривали, что Оссендовский “подогревал” его мистицизм.
Петр Врангель, в годы Первой мировой войны – полковой командир Унгерна, отмечал, что “острый проницательный ум” уживался в нем с “поразительно узким кругозором”. Точность этой несколько высокомерной характеристики сочетается с ее ограниченностью. Унгерн знал языки, много читал; в аттестации, составленной его сотенным командиром в 1913 году, говорится, что он выписывает несколько журналов и “проявляет интерес к литературе не только специальной, но и общей”. Однако это была, видимо, совсем не та литература, на которой воспитывался Врангель.