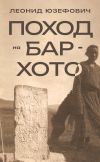Текст книги "Самодержец пустыни"

Автор книги: Леонид Юзефович
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 37 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
«Стать императором Китая»
1
В начале 1930-х годов Арвид Унгерн-Штернберг начал собирать материалы для задуманной, но так и не написанной биографии своего знаменитого кузена. Он обратился к их общим родственникам с просьбой прислать воспоминания об Унгерне, в ответ последовало предостережение одного из них: “Если писать биографию Романа, опираясь только на достоверные факты, она будет бесцветной и скучной. При более художественном описании появляется опасность пополнить и без того большое количество рассказываемых о нем историй”.
Однако даже авторы, не претендовавшие на “художественность”, вставали перед загадкой внезапного превращения заурядного белого генерала в монгольского хана и “бога войны”. Истоки этой метаморфозы искали в его первой поездке в Монголию, расцвечивая ее совершенно фантастическими подробностями. Врангель писал, что в боях с китайцами он проявил чудеса храбрости, получил в награду княжеский титул и был назначен командующим всей монгольской кавалерией; другие утверждали, будто барон с шайкой головорезов грабил караваны в Гоби; третьи отсылали его к хунхузам. На самом деле, поскольку служить у Джа-ламы ему запретили, он поступил сверхштатным офицером в Верхнеудинский казачий полк, частично расквартированный в Кобдо, и жил здесь без особых приключений, надеясь, видимо, что затухающая война вспыхнет вновь. Этого, однако, не случилось. Военные действия прекратились, под нажимом русской дипломатии дело шло к признанию Пекином автономии Внешней Монголии. Весной 1914 года, получив из Благовещенска документы о своей отставке, Унгерн уехал в родной Ревель.
Как пишет его кузен Арвид, уже тогда он “приобрел обширные познания о стране и населяющих ее людях”. По словам Князева, Унгерн “услыхал голос подлинной, мистически привлекавшей его Монголии” и “до краев наполнился настроениями”, которые вызывают “ее причудливые храмы” и “зеленые ковры необъятных падей, и люди ее, как бы ожидающие могучего толчка, чтобы пробудиться от векового сна”. Если отбросить красоты стиля и намек, что монголы дождались-таки человека, давшего им этот “могучий толчок”, все примерно так и обстояло. Унгерн говорил, что еще во время первой поездки в Халху “вера и обычаи монголов ему очень понравились”. В Кобдо он стал изучать монгольский язык, и хотя едва ли за полгода успел им овладеть, какие-то основы были заложены уже тогда. Впоследствии он будет вполне сносно на нем изъясняться.
Писали, будто в те месяцы ему удалось завязать “знакомства с князьями, гэгенами и влиятельными ламами”, но это маловероятно. Столь же сомнительно известие, будто в Кобдо, “не будучи ревностным сыном лютеранской церкви”, он втайне “принял ламаизм”. Увлечение Унгерна буддизмом – вариант обычного для людей его типа интереса к “мудрости Востока”.
Этот интерес разделял ставший вскоре известным философом граф Германн фон Кайзерлинг, земляк и дальний родственник Унгерна, по матери происходивший из рода Унгерн-Икскюлей. При пятилетней разнице в возрасте (Кайзерлинг был старше) они познакомились в детстве. Отец будущего философа и отчим Унгерна были соседями по имению и вместе с семьями навещали друг друга. В написанных под конец жизни мемуарах Кайзерлинг не раз упомянет о товарище детских лет, а его единственная дочь выйдет замуж за младшего брата Унгерна, Константина.
В 1911–1912 годах Кайзерлинг совершил кругосветное путешествие, посетил Японию, Корею, Китай, Индию, а по возвращении в Эстляндию написал принесший ему славу двухтомный “Путевой дневник философа”. По отклику, который эта книга вызвала у современников, ее можно сравнить лишь с “Закатом Европы” Шпенглера. Из-за начавшейся вскоре Первой мировой войны она увидела свет только в 1919 году, но была закончена пятью годами раньше. Унгерн, вернувшись в Ревель из Кобдо, мог читать ее в рукописи. “Я был тогда настолько одержим Востоком, что долго не мог представить себя западным человеком”, – писал Кайзерлинг. В этом Унгерн был его двойником[21]21
Интерес к Монголии и Тибету мог пробудить в нем и Густав Маннергейм, будущий президент Финляндии, в 1906–1907 гг. побывавший на Тибете как русский разведчик. Он, как и Кайзерлинг-старший, дружил с отчимом Унгерна, Оскаром Хойнинген-Хюне, и наверняка знал его пасынка.
[Закрыть].
Он не пробовал перенести на бумагу свои монгольские впечатления, но наверняка делился ими с братьями, сестрами и прочей ревельской родней. Восток был в моде, интерес слушателей подогревал и питал воображение. Как позже вспоминали кузены Унгерна, в родственном кругу бытовало мнение, что Роман обладает богатой фантазией и сам верит в собственные вымыслы. Как правило, это свойство приписывают только тем, кому симпатизируют, заблуждаясь относительно степени самообмана, но оно предполагает общительность, горячность и увлеченность рассказчика. Обычно молчаливый, напряженный, замкнутый, Унгерн, значит, с близкими людьми бывал другим.
Тогда же, обсуждая с кузеном Эрнстом политическую ситуацию на Дальнем Востоке, он заметил: “Отношения там складываются таким образом, что при удаче и определенной ловкости можно стать императором Китая”[22]22
Эрнст Унгерн-Штернберг должен был вспомнить этот разговор, узнав, что в 1919 г. его кузен женился на маньчжурской принцессе.
[Закрыть]. Скорее всего, имелся в виду генерал Юань Шикай, президент Китайской республики, пытавшийся основать собственную династию, но слышится здесь и какая-то глубоко личная нота, иначе собеседник не запомнил бы эту фразу и не повторил бы ее два десятилетия спустя в разговоре с биографом Унгерна. Пример Юань Шикая показывал, что в разрушенных структурах власти путь к ее вершине может быть сказочно короток.
В Кобдо, говорил Унгерн, он впервые задумался о возможности с помощью монголов восстановить в Китае маньчжурскую династию. В то время это было чистое умозрение, но в годы Гражданской войны план реставрации Цинов, чтобы мощью Поднебесной империи воздействовать на революционную Россию и буржуазную Европу, станет его навязчивой идеей. Умрет он в убеждении, что “спасение мира должно произойти из Китая”.
2
Барон Альфред Мирбах, муж единоутробной сестры Унгерна, писал о нем, ссылаясь на мнение жены: “Только люди, лично знавшие Романа, могут объективно оценить его. Одно можно сказать: он не как все”.
Схожее свидетельство оставил о нем живший в Монголии русский поселенец Иван Кряжев. Он помнил Унгерна по жизни в Кобдо в 1913 году и рассказывал, что барон вел себя “так отчужденно и с такими странностями, что офицерское общество хотело исключить его из своего состава, но не смогли найти за ним фактов, маравших честь мундира”.
И далее: “Унгерн жил совершенно наособицу, ни с кем не водился, всегда пребывал в одиночестве. А вдруг ни с того ни с сего, в иную пору и ночью, соберет казаков и через весь город с гиканьем мчится с ними куда-то в степь – волков гонять, что ли. Толком не поймешь. Потом вернется, запрется у себя и сидит один, как сыч. Но, оборони Бог, не пил, всегда был трезвый. Не любил разговаривать, все больше молчал”[23]23
В то время Унгерн еще не отказался от алкоголя. Это произойдет много позже. На рассказ Кряжева, записанный в 1921 г., повлияли широко известные в Монголии истории о борьбе барона с пьянством.
[Закрыть].
Рассказ Кряжева об Унгерне завершается точным и выразительным наблюдением: “В нем будто бы чего-то не хватало”. Ошибки тут нет – не ему чего-то не хватало, а именно “в нем”. Эта пустотность выдавала себя в глазах. Бурдуков говорит о “выцветших, застывших глазах маньяка”; другой мемуарист описывает их как “бледные”, третий – как “бездушные, оловянные”, четвертый вспоминает о “водянистых, голубовато– серых, с ничего не говорящим выражением, каких-то безразличных”. По-видимому, у их обладателя плохо развиты были окологлазные мышцы, чья игра придает взгляду бесконечное множество оттенков. Обычно этот физический дефект связан с недоразвитием эмоциональной сферы. “Сердце, милосердие в нем отсутствовали, – отметил служивший под началом Унгерна полковник Торновский. – Сирых и убогих не терпел”.
По словам современника, не однажды с ним встречавшегося, тот “совершенно не заботился о производимом впечатлении, в нем не замечалось и тени какого-либо позерства”. Это столько же говорит о силе характера, сколько об отсутствии потребности в чисто человеческих связях. Унгерн не корректировал свое поведение по реакции собеседника, она его просто не интересовала. Эмоциональная блеклость позволяла не замечать чужие чувства, считать их не заслуживающими внимания, не имеющими ценности.
Здесь же берет начало его странная для аристократа неопрятность – нестриженые усы и волосы, грязная, а то и рваная одежда, но тут не было и намека на вызов унылой мещанской аккуратности или условностям военной касты. Он неделями не менял белья и не отдавал его в стирку, а выбрасывал, когда оно превращалось в лохмотья. Комнаты, где он жил, содержались в ужасающем беспорядке и почти не имели мебели. Многие отмечали его “умеренность в питье и пище, особенно в последней”. Рассказывали, будто он, как монгол, питается бараниной и чаем, хотя не может обходиться без хороших папирос. Враги называли его кокаинистом и наркоманом, но прямых свидетельств об употреблении им наркотиков нет. Разве что в одном из его писем упоминается курение опиума в дружеской компании, членом которой он был, однако редкий европеец в Китае обходился тогда без такого опыта. О знакомстве с этой стороной жизни говорит еще одна деталь: мечтая создать “орден военных буддистов” по типу средневековых рыцарских орденов, Унгерн исключал употребление его членами алкоголя, зато допускал гашиш и опиум – чтобы “дать русскому человеку возможность тешить свою буйную натуру”.
Общеизвестны его неприхотливость, бессребреничество, отсутствие интереса к женщинам, но этот аскетизм тоже был формой мизантропии: привязанность окружающих к земным благам и усладам оправдывала отношение к ним как к существам низшего порядка. “В его небрежности в одежде для чуткого ума ясно звучали горделивые ноты сознания своего превосходства”, – неуклюже, но проницательно замечает Князев. Так Наполеон, уже возложив на себя императорскую корону, продолжал носить простой серый сюртук, не маскировавший, а напротив, подчеркивавший обтянутый им животик.
На вершине могущества Унгерн будет сравнивать себя с Николаем I и Фридрихом Великим, другие найдут в нем сходство с Павлом I, хотя куда больше он напоминает шведского Карла XII с его воинственностью и презрением к радостям плоти.
Многие Унгерн-Штернберги служили шведской короне, Даго и Ревель – бывшие владения Швеции. Мальчики типа Унгерна – страстные читатели биографий великих полководцев; он мог знать, что легендарный король-воитель был человеком высокообразованным, но отличался солдафонской грубостью манер, крайней неряшливостью в одежде, невзыскательностью в пище и абсолютным равнодушием к женщинам. Тот же набор воинских и одновременно монашеских добродетелей числился и за ним самим. Это не значит, что он сознательно подражал Карлу XII, скорее представлял собой близкий тип личности, но какая-то память об оригинале, с которого снята копия, в нем, может быть, присутствовала.
Своих солдат и офицеров Унгерн считал “жалким подобием людей”, “толпой голодных кровожадных шакалов, рыскающих в поисках добычи”, но изредка попадавшихся среди них интеллигентов не любил еще больше. Неспособность подняться над предрассудками современной морали была для него не менее крупным недостатком, чем отсутствие моральных принципов. Унгерн постоянно жаловался, что окружен не теми людьми, каких ему хотелось бы видеть возле себя, но, похоже, таких, чтобы он ими удовлетворился, не существовало в природе. Возможно, его болезненная тяга к оккультизму была порождена еще и поисками опоры за пределами человеческого круга общения. Интимный контакт с обитателями иного мира мог восполнить ущербность отношений с людьми.
Нет смысла противопоставлять жестокость Унгерна его бескорыстию или идеализму, как то делали современники, старательно сортируя его достоинства и пороки, раскладывая их на разные чаши весов, чтобы установить соотношение в нем добра и зла. Одно тут вытекает из другого и связано с важнейшей особенностью личности параноидального склада, каковой являлся Унгерн, – сознанием собственной исключительности как объективного факта. Человек такого типа смотрит на себя как на единственно живого в окружении фантомов, применительно к которым позволено все, поскольку они – лишь эманация неких сил и начал, а не такие же люди, как он сам[24]24
В издании 1993 г. далее говорилось: “Этот тип личности характерен не столько для тиранов патриархального толка, пусть даже самых кровавых, сколько для творцов тотальных утопий”. Такого рода неоправданные обобщения типичны для того времени, когда слово “утопия” казалось универсальным ключом ко всей истории XX в.
[Закрыть].
В 1913 или 1914 году, в Благовещенске или в Ревеле фотограф запечатлел Унгерна затянутым в парадный мундир: молодой человек на этом снимке напоминает кузнечика – длинные конечности, узкое тело, непропорционально маленькая голова. Вероятно, в ранней юности эти телесные особенности были выражены еще ярче. “Худой и изможденный с виду, но железного здоровья”, – писал о нем Врангель. Не исключено, что необыкновенная выносливость и энергия были даны ему не от природы, а стали результатом сознательных усилий. Будучи не в состоянии изменить свою анатомию, Унгерн сумел приспособить ее к требованиям души. Лишь с голосом он так ничего и не смог поделать: голос остался тонким, высоким, соответствующим физическому облику его обладателя. Порой кажется, что война Унгерна с погрязшим в хаосе и нечестии миром – продолжение борьбы с изъянами собственного тела, которой он, видимо, в молодости отдал немало сил.
Люди, встречавшиеся с ним в возрасте за тридцать, описывают его почти одинаково, но, в зависимости от симпатии или антипатии к нему, по-разному акцентируют одни и те же черты. Это человек высокого роста и астенического сложения, держится очень прямо. У него короткое туловище и длинные ноги – “кривые”, как характеризуют их недоброжелатели, или “кавалерийские”, как предпочитают выражаться поклонники. Волосы на голове светлые, с рыжеватым оттенком, не слишком густые. Такого же цвета лохматые брови и довольно большие (“свисающие”) усы. Высокий выпуклый лоб, правильной формы нос. Между узкими губами, при молчании плотно сжатыми, в разговоре видны торчащие вперед верхние передние резцы. Впрочем, враг Унгерна может описать его нос как “тупой”, волосы – как “редкие”, усы назвать “желто-серыми”, а зубы – “гнилыми, лошадиными”.
Авторы беллетризованных воспоминаний, рассчитанных на широкого читателя, рисовали портрет барона в согласии с представлениями о нем как о фигуре демонической. Колчаковский офицер Алешин при первой же короткой встрече с Унгерном успел отметить, что один его глаз выше другого, что их взгляд свидетельствует о “зловещем безумии” и “опасной силе читать мысли людей”. Шрам на лбу, который вовсе не бросался в глаза, Алешин описывает как “ужасный, пульсирующий налитыми кровью венами”.
Эмигрантский журналист, видевший Унгерна только на фотографиях, замечает, что такие лица, “дышащие свирепостью и дикой волей”, были у викингов, “рубившихся на кровавых тризнах”. Оссендовский, напротив, говорит о лице, “похожем на византийскую икону”. Спокойный наблюдатель находит в нем родовые черты: лицо “достаточно ординарно, с сильно выраженным тевтонизмом остзейского типа, но отнюдь не прусского”. Он же добавляет: “Походная жизнь и привычка повелевать, жизнь в условиях узковоенной среды, все это наложило на него отпечаток солдатчины, хотя и не очень заметный”.
Очищение и кара. От Пруссии до Персии
1
В 1910 году один из дальних родственников Унгерна, служивший в Генеральном штабе, передал секретные документы австрийскому военному агенту Спанокки, был арестован, судим и сослан в Сибирь, но из-за этого случая никакого клейма изменников на Унгерн-Штернбергах, разумеется, не лежало. Как для большинства прибалтийских дворян, родиной для них была пусть не Россия, но Российская империя, и в 1914 году они пошли на войну точно так же, как если бы им предстояло воевать не с немцами, а с французами, англичанами или китайцами. Один из кузенов Унгерна после разгрома армии Самсонова под Сольдау бросился на пулеметы, не желая пережить поражение и гибель товарищей. Тем не менее многие чуткие натуры остро переживали двусмысленность своего положения немцев на русской службе, да и высокий процент немецких фамилий среди высшего офицерства придавал некоторую деликатность этой теме.
В забайкальском и монгольском окружении Унгерна людей с такими фамилиями окажется немало; ему, вероятно, проще было находить с ними общий язык, при этом общность происхождения если и учитывалась, то считалась фигурой умолчания. Рассказывали, будто в Урге он приказал расстрелять человека, на людях неосторожно заговорившего с ним по-немецки. При всей недостоверности этой истории сам по себе факт ее возникновения явно не случаен[25]25
Сообщено проживающей в США Верой Хатчер, правнучкой барона П. А. Витте, который в 1921 г. занимал должность советника при правительстве Богдо-гэгена.
[Закрыть].
Известие о начале войны, которой мало кто хотел, которая “у дипломатов, ею игравших и блефовавших, против их собственной воли выскользнула из неловких рук” (С. Цвейг), обернулось неожиданным взрывом энтузиазма. Отнюдь не казенное воодушевление охватило Париж, Петербург, Лондон, Берлин и Вену. Даже те интеллигенты, кто очень скоро увидят в этой войне вселенский кошмар и повальное безумие, признавали, что в первом порыве масс было нечто величественное. Реакция оказалась чрезвычайно схожей по обе стороны готовых разверзнуться фронтов. В ней парадоксальным образом еще раз проявилось единство Европы перед лицом общей судьбы. Эта война, как ни одна до нее, породила надежды на грядущее обновление мира, и Унгерн, может быть, подобно Томасу Манну, призывавшему войну как “очищение и кару”, надеялся, что в стальном вихре исчезнет лицемерная буржуазная культура Запада, что сила положит конец власти капитала и избирательной урны. Наконец, ему просто хотелось воевать, не важно, с кем и за что.
“Это только за последние тридцать лет выдумали, чтобы воевать за какую-то идею”, – говорил впоследствии Унгерн, а причину своей симпатии к монголам объяснял следующим образом: “У них психология совсем другая, чем у белых; у них высоко стоит верность, война; солдат – это почетная вещь, и им нравится сражение”. Опять же русским он не доверял потому, в частности, что они “из всех народов самые антимилитаристские” и “заставить их воевать может только то, что некуда деваться, кушать надо”.
Не исключено, что к страстному желанию воевать примешивались и соображения сугубо житейские. Война грянула в тот момент, когда Унгерн окончательно оказался не у дел, и разом сняла все проблемы. Отставной сотник, тридцатилетний неудачник без семьи, без профессии, с туманными планами на будущее, он должен был страдать от неудовлетворенного честолюбия и сознания стремительно уходящей молодости. Война открыла перед ним новые перспективы.
19 июля 1914 года, на второй день всеобщей мобилизации, Унгерн был зачислен в 34-й полк Донского казачьего войска. Эрнст Унгерн-Штернберг сообщает, что его кузен воевал в составе несчастной 2-й армии Самсонова, был ранен, но окружения и плена сумел избежать. Впрочем, все сведения о том, где и как провел он первые месяцы войны, проверке не поддаются. Его послужной список за это время не сохранился. Известно лишь, что с начала декабря 1914 года, выйдя из госпиталя, он воевал в 1-м Нерчинском полку и вновь, как в Даурии, носил на мундире желтые цвета забайкальского казачества. В том же полку командиром сотни, а затем полковым адъютантом служил Григорий Семенов; тогда Унгерн с ним и подружился. Будущий атаман был пятью годами младше, но в этой паре ему всегда принадлежала роль старшего.
Нерчинский полк входил в 10-ю Уссурийскую дивизию. Весной и летом 1915 года, во время “великого отступления”, она составляла конный резерв 5-й армии Западного фронта и “моталась”, как вспоминал Семенов, по “угрожаемым участкам”, прикрывая отходящую на восток пехоту. Иногда казакам приходилось контратаковать в пешем строю. Однажды Унгерна ранило, когда он перерезал колючую проволоку перед австрийскими позициями, для чего нужно было находиться в первых рядах атакующих. Потеряв сознание, он повис на проволочных заграждениях и остался бы там висеть, если бы не любовь к нему казаков его сотни. Они вынесли своего командира с поля боя.
В 1916 году уссурийцев перебросили на Юго-Западный фронт, в Карпаты. В то время начальником дивизии был генерал-майор Крымов, через год покончивший с собой после неудачи корниловского выступления, а командиром Нерчинского полка – полковник Врангель, будущий преемник Деникина, главком русской армии. В мемуарах он отзывался об Унгерне без симпатии, даже, пожалуй, с неприязнью. Для него это был “тип партизана-любителя, охотника-следопыта из романов Майн-Рида”. Всегда “оборванный и грязный”, барон спал на полу среди казаков своей сотни и ел с ними из одного котла. На Врангеля он производил впечатление человека, который, “будучи воспитан в условиях культурного достатка”, совершенно “отрешился” от норм породившей его среды. Полковой командир тщетно “пытался пробудить в нем сознание необходимости принять хоть внешний офицерский облик”.
После того как заурядный белый генерал семеновского производства стал хозяином Монголии, его предшествующая жизнь окрасилась в фантастические тона. Кто-то, к примеру, пустил слух, будто он командовал личным конвоем Николая II. Унгерна повышали в чинах, осыпали орденами, назначали на должности, о которых ему не приходилось и мечтать. В действительности за два года войны он дослужился до есаула, а выше командира сотни так и не поднялся.
Представленный к восьми наградам, включая Георгиевское оружие, Унгерн из-за пьянства и плохих отношений с начальством получил только пять: офицерского Георгия 4-й степени, Святого Владимира 4-й степени, Святой Анны 3-й и 4-й степеней и Святого Станислава 3-й степени. Ранений он имел ровно столько же, сколько наград. Дважды при этом оставался в строю, в остальных случаях возвращался в полк с еще не зажившими ранами.
“В боевом отношении выше всяких похвал”, – свидетельствует выданная ему аттестация. Врангель тоже признавал за ним поразительное бесстрашие при отсутствии дисциплины. Продвижение по служебной лестнице его не занимало, Унгерн долго отказывался от должности сотенного командира, потому что при таком назначении лишился бы возможности бывать в разведке. В той же аттестации говорится, что его служба – “сплошной подвиг”, он “участвовал в десятке атак, доведенных до удара холодным оружием”. Однополчанин вспоминал: “На врага он бросался в классическом унгерновском стиле – сломя голову”.
Не обходилось и без преувеличений. Якобы каждый офицер, приезжавший с Юго-Западного фронта, рассказывал о его подвигах. При отходе в тыл Унгерн якобы неизменно исчезал из полка и появлялся вновь, едва полк возвращался на позиции. Он будто бы неделями пропадал в тылу противника, корректировал огонь русской артиллерии, сидя на дереве прямо над вражескими окопами, а командир полка, заслышав его голос, прятался под стол, заранее зная, что барон опять предложит какую-нибудь немыслимую авантюру. Некто Ignota писал: “Его письма родным с фронта напоминали песни трубадура Бертрана де Борна: они дышали беззаветной удалью, опьянением опасности. Он любил войну, как другие любят карты, вино и женщин”.
Однако, чтобы любить не войну вообще, а именно эту войну с ее загаженными окопами, вшами и разъедающим сознанием бессмысленности происходящего, надо было обладать извращенным чувством жизни, если не ненавистью к ней. Патриотизмом, верностью родовым традициям или чтением Ницше храбрость Унгерна объяснить нельзя. Рассказывали, будто в атаку он скакал, как пьяный или “как лунатик, с застывшими глазами и качаясь в седле”. Если это и гипербола, его способность наслаждаться “опьянением опасности” сомнению не подлежит. Люди такого сорта невыносимы в мирной жизни, незаменимы на войне, но опасны даже там. “Этот тип, – замечает Врангель, – должен был найти свою стихию в условиях настоящей русской смуты. В течение этой смуты он не мог не быть хоть временно выброшенным на гребень волны и с прекращением смуты так же неизбежно должен был исчезнуть”.
Унгерн был представлен к чину войскового старшины, но получить его не успел, хотя впоследствии считал свое производство состоявшимся. Его карьера завершилась внезапно. 22 октября 1916 года, находясь в краткосрочном отпуске, он с позиций поехал в прифронтовые Черновцы и ночью, пьяный, пришел в гостиницу “Черный орел” с требованием предоставить ему номер. Швейцар отвечал, что не имеет права сделать это без письменного разрешения коменданта города. Раздраженный отказом, Унгерн решил проучить какого-то лакея, который плохо к нему относился, когда двумя неделями раньше он жил в этой гостинице, долечиваясь после ранения, и отправился на поиски обидчика. Швейцар “увивался” рядом и “кричал, что это безобразие”. Рассердившись, Унгерн “хотел ударить его шашкой в ножнах, но промахнулся и разбил стекло в дверях”. Так излагал дело он сам, а швейцар утверждал, что первый удар пришелся ему по лицу, стекло в дверях пострадало уже от второго.
В третьем часу ночи со словами “Кому тут морду бить?” барон явился в комендантское управление, но дежурный, прапорщик Загорский, поговорив по телефону с комендантом, отказался выдать ему разрешение занять гостиничный номер. Взбешенный Унгерн поступил с ним так же, как со швейцаром, – ударил сначала кулаком в лицо, потом шашкой в ножнах “по голове возле правого уха”. На суде он говорил, что не помнит, насколько точны были его удары, но кузену Эрнсту позднее признавался: “Я выбил несколько зубов одному наглому прапорщику”.
Конец истории был скорее комический. “Наглый прапорщик” побежал за подмогой, через час на место происшествия прибыл комендантский адьютант Лиховоз. Обнаружив Унгерна заснувшим в кресле, он отстегнул у спящего буяна шашку и арестовал его.
Замять дело не удалось, потерпевшие подали жалобу в корпусной суд. Оттуда запросили в полку аттестацию обвиняемого. Она оказалась гимном во славу его воинских доблестей и сыграла важную роль. В конце ноября был оглашен вердикт: заключение в крепости сроком на два месяца. При этом оговаривалось, что Унгерн должен отбывать наказание при своей части. В сущности, ему вынесли условный приговор, за что, по словам Эрнста Унгерн-Штернберга, кузену следовало благодарить Врангеля. Тот “употребил все свое влияние, чтобы Роман так легко отделался”, но, пользуясь случаем, решил избавиться от беспокойного барона. Вскоре он утвердил им же, надо думать, инспирированное постановление старших офицеров полка об отчислении Унгерна “в резерв чинов”. В этом качестве он и попал на Персидский фронт[26]26
В краткой биографической справке, предваряющей “Результаты опроса” пленного барона, сообщается, что за избиение комендантского адъютанта он был приговорен “к трем годам крепости”, но вышел на свободу осенью 1917 г., т. е. после прихода к власти большевиков. Недавно Е. А. Белов задался вопросом, какова цель этой фальсификации. “Видимо, – пишет он, – хотели придать образу Унгерна негативный оттенок: мол, он пьяница и драчун, Октябрьская революция вызволила его из крепости, а он, неблагодарный, борется с советской властью”.
[Закрыть].
2
С началом войны Персия заявила о нейтралитете, но успехи немцев в Европе, а турок – на Кавказском фронте и в Месопотамии заставили Тегеран усомниться в правильности принятого решения. Правительство еще колебалось, а в стране уже разгорался джихад, направленный против русских и англичан. С гор спустились курды, к столице подтягивались повстанцы-моджахеды под руководством немецких и турецких офицеров. В этой ситуации осенью 1915 года в северные провинции Персии были введены русские войска, в том числе 3-я Забайкальская казачья бригада, которой командовал генерал-майор Семенов, троюродный брат будущего атамана. Пока Унгерн состоял под судом, Семенов надумал перевестись в эту бригаду, под крыло к родственнику. Его будто бы обошли наградой за оборону какого-то ущелья в Карпатах; обидевшись на начальство в лице Врангеля и Крымова, он подал рапорт о переводе в Персию и прибыл туда в январе 1917 года. Унгерн присоединился к нему чуть позже.
Штаб русского экспедиционного корпуса располагался в Урмии. Значительную часть жителей города составляли ассирийцы (айсары, айсоры), считавшие себя потомками уцелевших после падения Ниневии великих завоевателей древности. Они исповедовали христианство несторианского толка и еще в VI веке бежали от гонений из Византии в Персию. Отсюда их проповедники добирались до Китая и Тибета, а позже обратили внимание на Великую Степь, где при Чингис-хане обратили в христианство часть монголов. Сейчас эти воинственные “черногорцы Персии”, как назвал ассирийцев один русский дипломат, сразу приняли сторону России против своих исконных врагов, курдов и турок. Те ответили резней. Спасаясь от нее, “айсары” из Персидского Курдистана и соседних турецких вилайетов устремились в Урмийский округ под защиту русских войск. Сюда же прибыл ассирийский патриарх Мар-Шимун XIX Биньямин, носивший титул “патриарха Востока и Индии”.
В Урмии, как в своих мемуарах сообщает Семенов, Унгерн “взял на себя организацию добровольческой дружины из местных айсаров”. Он приехал сюда вслед за приятелем, якобы воодушевляемый одной с ним целью: “создать добровольческие дружины из инородцев”, чтобы “оказать давление на русских солдат если не моральным примером несения службы в боевой линии, то действуя на психику наличием боеспособных, не поддавшихся разложению частей”.
Это обычное для Семенова желание изобразить себя прозорливым государственным мужем, каковым он являлся даже в те времена, когда был простым есаулом. На самом деле два ассирийских батальона под командой русских офицеров были сформированы в Персии летом 1916 года, за несколько месяцев до того, как здесь появились Семенов с Унгерном. Существовала еще и созданная из беженцев-ассирийцев “партизанская” дружина, но ее номинальным главой считался патриарх Церкви Востока, а фактическим командиром был приехавший из США Петр Эллов (Ага-Петрос). Виктор Шкловский, тогда помощник комиссара Временного правительства на Персидском фронте, характеризовал эту дружину как “страшную по тысячелетней ненависти к курдам и персам”. Он встречал ее бойцов на урмийском базаре – они шли “в штанах из кусочков ситца, в кожаных броднях, с бомбой за широким поясом, и персиянки показывали на них детям и говорили: «Вот идет смерть»”.
По словам Семенова, “блестяще” показавшие себя в боях “айсарские дружины” состояли “под начальством беззаветно храброго войскового старшины, барона Р. Ф. Унгерн-Штернберга”, однако в реальности все эти формирования возглавлялись другими людьми, да и сам Унгерн ни о чем подобном никогда не вспоминал. Единственный документ, связывающий его с ассирийцами, говорит лишь о том, что в июне 1917 года барон командовал приданной одному из двух ассирийских батальонов и состоявшей, по-видимому, из казаков-забайкальцев “сотней разведчиков”[27]27
Фарис В. Г. Ассирийские отряды Русской армии. М., 2019. C. 105.
[Закрыть].
О Лоуренсе Аравийском, с которым его будут сравнивать, он вряд ли знал, зато мог слышать о Вильгельме Васмусе, бывшем германском консуле в Бушире. Если Унгерн позднее выучит монгольский и китайский языки, будет одеваться как монгол и женится на маньчжурской принцессе, то Васмус владел фарси и наречиями южноперсидских горцев, носил их платье, был женат на дочери племенного князя Ахрама. В его интерпретации этот брак символизировал союз двух древнейших ветвей арийской расы – иранской и германской. Под эгидой тестя Васмус начал собственную войну с британским львом. Созданная им шпионская сеть доставила англичанам множество неприятностей вплоть до поражения при Кутэль-Амаре, где в 1916 году с помощью полученной от Васмуса информации турки под командованием немецкого генерала фон дер Гольца вынудили капитулировать девятитысячный британский экспедиционный корпус[28]28
Лишь к осени 1918 г., когда из Европы стали доходить слухи, что Германия близка к поражению, акции Васмуса у местных племен начали падать. После Компьенского перемирия Ахрам предусмотрительно посоветовал зятю бежать; тот внял совету и скрылся. Это последнее, что о нем известно.
[Закрыть].
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?