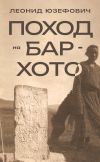Текст книги "Самодержец пустыни"

Автор книги: Леонид Юзефович
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 37 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Особый Маньчжурский отряд
1
Семеновский отряд пополнялся по тому же принципу, что и Запорожская Сечь. У русских волонтеров никто никаких документов не спрашивал, задавали всего три вопроса: “В Бога веруешь? Большевиков не признаешь? Драться с ними будешь?” Утвердительные ответы давали право быть зачисленным на довольствие. Поскольку платили хорошо, на станцию Маньчжурия стекался всякий сброд. Добровольцы сами себе присваивали офицерские чины и щеголяли чужими наградами. Как обычно в смутные времена, появились и самозванцы разного масштаба. Китаец-парикмахер выдавал себя за побочного отпрыска японской императрицы, а какой-то молодой еврей назвался сыном покойного генерала Крымова, командовавшего забайкальскими казаками на фронтах Первой мировой. Некоторое время он состоял при штабе Семенова, пока не был разоблачен и выпорот.
Вопреки расхожему мнению, ссыльные и каторжники шли служить не только к красным. “Хуже всего здесь контрразведка, куда собрались отбросы жандармов, охранных агентов и разнузданная молодежь самого садического типа”, – писал об Особом Маньчжурском отряде (ОМО) военный министр Омского правительства Будберг. Среди представителей этой золотой молодежи с уголовным прошлым были сын министра двора Фридерикс, убивший из-за наследства родного брата; обвинявшийся в шпионаже в пользу Германии барон Тизенгаузен; известный петербургский шарлатан Волков, он же “великий маг Али”, укравший у своей любовницы, генеральши Самойловой, драгоценности на сто тысяч рублей. Все они попали в Забайкалье по судебным приговорам, а теперь оказались в отряде Семенова. Из-за таких фигур аббревиатуру ОМО расшифровывали как “Осторожно, может ограбить”.
“Гражданская война в России дала много Пожарских, но очень мало Мининых”, – обмолвился однажды Семенов. Сам он быстро решил свои финансовые проблемы благодаря японцам[32]32
Представление об этих суммах дает цифра, фигурировавшая на заседаниях японского парламента: только с декабря 1918-го по февраль 1920 г. на Семенова было истрачено 21 110 000 иен. Цифра становится еще более фантастической, если учесть, что одна иена приравнивалась к 60–70 рублям.
[Закрыть]. Те сделали ставку на него, а не на Колчака, слишком тесно, по их мнению, связанного с англичанами и американцами. Зато управляющий КВЖД, генерал Хорват, к Семенову отнесся настороженно и военную власть в полосе отчуждения вручил Колчаку. Признать его главенство атаман отказался наотрез. Адмирал называл семеновцев хамами, бандой, но эта “банда” быстро превращалась в серьезную силу. На японские деньги Семенов закупал снаряжение вплоть до радиостанций, обзавелся артиллерией, приступил к оборудованию бронепоездов, а Колчак сумел поставить под ружье не более 700 человек, вооруженных лишь трехлинейками. К весне 1918 года Семенов имел впятеро больше – около трех с половиной тысяч бойцов. Из них русские составляли треть. Личный состав отряда был преимущественно азиатский: китайцы (в том числе хунхузы), монголы всех племен, буряты, корейцы.
Первая попытка продвинуться в Забайкалье окончилась неудачей, но в начале апреля Семенов вновь перешел границу и с налету захватил сначала Даурию, затем станцию Мацеевскую, где едва не погиб – раненного в ногу, его извлекли из-под обломков колокольни, разрушенной прямым попаданием снаряда. Здесь под видом добровольцев к нему присоединился батальон японской императорской армии в 400 штыков. “Маленькие ростом, великие своим воинским духом, щеголеватые и веселые, японские солдаты в теплый весенний вечер выскакивали из вагонов, кокетливо иллюминованных светящимися фонариками самых причудливых форм. В руках у каждого было по национальному японскому и русскому флагу, они оживленно размахивали этими эмблемами русско– японской солидарности”, – так бывший адъютант Семенова описывал первое появление японцев в Забайкалье. Для него это было “повторение повествования евангелиста о благодетельном самаритянине”.
Из Мацеевской, взятой после упорного боя, Семенов устремляется к Чите. К концу апреля захвачена станция Оловянная, атаман с авангардом выходит к берегу Онона, но красные успевают взорвать мост. Подрывником выступает не кто-нибудь, а лично командующий Забайкальским фронтом, эсер-интернационалист Сергей Лазо. Под прицельным огнем казаков минеры отказались ползти к реке, чтобы еще раз поджечь потухший под дождем запал, тогда Лазо сделал это сам. Фитиль гас еще два раза, но третья попытка оказалась успешной.
Невозможно установить точную численность семеновских частей и противостоящих им красных отрядов. Все постоянно движется, меняется, сотни людей перебегают от Лазо к Семенову и обратно. Дезертируют тоже сотнями. Мобилизации, которые пытается проводить каждая из сторон, увеличивают не столько ее собственные силы, сколько армию противника. Реквизиции проводят те и другие, врагом становится тот, кто сделал это первым.
Разделение по имущественному признаку почти не прослеживается. Сплошь и рядом богатые крестьяне и даже казаки выступают сторонниками советской власти, а бедные поддерживают Семенова. Под прикрытием красного или трехцветного знамени сводят старые счеты из-за выгонов и пахотных земель. Появление в ОМО бурятских и монгольских всадников, привлеченных обещанием вернуть отнятые у них под пашню степные угодья, толкнуло крестьян в противоположный стан. Среди бойцов Лазо в ходу был лозунг “Грабь тварей!”, т. е. бурят. К тем из них, кто сражался на стороне красных, относились презрительно: “Как я встану рядом с ясашным!” Для казаков такой проблемы не существовало, их отношение к степнякам было несравненно более уважительным.
Человек мог оказаться по ту или иную сторону фронта по причинам, не имеющим ничего общего с идеологией. Парень из Читы при красных пошел служить в вокзальную охрану, потому что ревновал невесту, работавшую там кассиршей; к ней приставали мужчины, и он охранял ее бдительнее, наверное, чем вокзал от семеновских диверсантов, но с приходом белых соперник написал на него донос. За службу большевикам несчастный жених был арестован, сумел бежать и в конце концов попал к партизанам. В те дни люди выбирали судьбу на годы вперед, хотя еще не догадывались об этом.
На низовом уровне идейное противостояние принимает карикатурные формы или корыстно используется в житейских ситуациях. На отбитой у Лазо железнодорожной станции казачий офицер заказывает местному портному-еврею новый мундир. Закончив работу, портной из страха перед заказчиком отказывается взять у него деньги. Тот рад не платить, но не желает чувствовать себя должником. Чтобы избавиться от моральных неудобств, офицер заявляет, что портной – большевик, раз он против денег, и приказывает его выпороть.
Большинство населения не понимало, кто, с кем и из-за чего воюет. В эмиграции один офицер с грустью вспоминал разговор, состоявшийся между ним и какой-то женщиной на улице только что захваченного белыми городка. Та никак не могла взять в толк, на чьей стороне сражаются победители. “Мы красных бьем”, – объясняет офицер, но такой ответ не избавляет его собеседницу от сомнений, ведь если есть воители, должны быть и те, кого они защищают. “Вот вас и защищаем”, – находится наконец офицер. Тогда, растрогавшись, женщина благодарно крестит его и говорит: “Ну слава Богу! А то все нынче промеж себя дерутся, про нас-то уж и позабыли”.
Фронт надолго замирает у Оловянной, затем Лазо по льду внезапно переходит Онон. Наступление началось на Пасху. Семеновцы отмечали праздник, а сам атаман уехал кутить в Харбин. Он срочно возвращается, но положение уже безнадежно. Своим последним оплотом Семенов сделал пограничную пятивершинную сопку Тавын-Тологой, укрепив ее окопами и рядами колючей проволоки, однако не удержал позиций и был отброшен в Китай.
Лазо вступил в переговоры с представителями китайской военной администрации. Те прибыли на встречу с положенными по этикету безделушками в качестве подарков, а командующему преподнесли мешок дефицитного сахарного песка. Хозяин усадил гостей пить чай у себя в вагоне, и тут выяснилось, что подаренный песок сильно подмочен. Лазо приказал адъютанту немедленно, любыми путями раздобыть рафинад. С трудом сумели отыскать несколько кусков. Лазо гордо выставил их на стол и, как пишет его жена, “в разговоре с китайцами сделал тонкий намек на то, что русские люди предпочитают пить чай с рафинадом и не любят сахарный песок, в особенности если он подмочен”.
На этой благостной ноте Ольга Лазо заканчивает свои воспоминания о борьбе мужа с Семеновым, но ощущение хаоса подспудно присутствует даже в них. Семеновский офицер, спустя десять лет напечатавший в харбинской газете “Наш путь” заметки об этих днях, вспоминает какие-то свои командировки с неясными целями, поездки на паровозном тендере, стрельбу, бегство, случайных попутчиков, но постепенно начинает казаться, что автор ясно помнит лишь одно – то, как от поджигаемой красными и белыми степи небо все время затянуто дымной пеленой. Каждый новый день разгорается незаметно и так же незаметно переходит в ночь. Над миром властвуют сумерки. Это ощущение пронизывает весь его сбивчивый рассказ, чья главная историческая ценность состоит в нарастающем при чтении чувстве тревоги от многократно и на разные лады повторяемого: “Свет солнца, притемненный дымкой степного пала, казался не дневным, а вечерним”.
2
Из мемуаров Семенова следует, что Унгерн присоединился к нему в конце ноября или в начале декабря 1917 года. Произошло это на станции Даурия, где размещался лагерь австрийских и турецких военнопленных. Из них Унгерн сколотил что-то вроде военно-полицейской команды, которая быстро покончила с гарнизонной солдатской вольницей и грабежами в пристанционном поселке. С тех пор у некоторых семеновских офицеров остались вестовые-турки, славившиеся умением варить кофе.
Неизвестно, когда Унгерн покинул Персию, но его путь из Урмии в Даурию пролег через Ревель. Это был его последний приезд на родину. Сохранившийся в бумагах Арвида Унгерн-Штернберга рукописный рассказ Альфреда Мирбаха, женатого на сестре Унгерна, частично заполняет временной пробел между двумя его экзотическими должностями – инструктора ассирийских дружин и начальника пленных немцев, усмиряющих буйства своих русских охранников.
Мирбах сообщает, что осенью 1917 года они с Унгерном и братом Унгерна по матери, Максимилианом Хойнинген-Хюне, оказались в Иркутске. Как и зачем все трое туда попали, из его рассказа понять нельзя, но дело проясняется, если вспомнить, что Мирбах тогда отбывал ссылку на севере Иркутской губернии, в Балаганске. Перед войной он возглавлял Охранное отделение в Лодзи и двух южных округах Царства Польского и был дружен с жандармским полковником Мясоедовым, который тогда служил в Польше. В 1915 году Мясоедова обвинили в шпионаже в пользу Германии, судили и повесили, а Мирбах, тоже угодивший под суд, отделался ссылкой. После Февральской революции обстановка в стране заставляла опасаться за жизнь бывшего жандарма, и, видимо, Унгерн по просьбе сестры отправился в Сибирь выручать зятя. Семнадцатилетний Максимилиан увязался за ним. Они добрались до Балаганска и каким-то образом сумели вывезти Мирбаха в Иркутск. Вероятно, успех этой операции решили деньги.
В то время уже не нужно было обладать прозорливостью Чойджин-ламы, чтобы предсказать надвигающуюся гражданскую войну. Зная, что Семенов находится в Забайкалье, Унгерн решил пробираться к другу. Мирбах будто бы собирался составить ему компанию, но передумал. К тому времени в Иркутск приехала его жена, брать ее с собой он не хотел, а отпускать с юным братом в Ревель одних – боялся. Втроем они двинулись обратно на запад, а Унгерн – на восток в Даурию.
Скорее всего с этой ситуацией связана смерть его отчима, Оскара Хойнинген-Хюне, чуть позже при невыясненных обстоятельствах убитого в Красноярске. Иначе как тревогой за судьбу сына и дочери невозможно объяснить его появление там зимой 1918 года.
По признанию Семенова, успех “самых фантастических” его предприятий стал возможен благодаря “тесной спайке” с бароном. Первые месяцы их эпопеи – героический период движения. Вожди его бедны, одиноки, гонимы и красными, и старой администрацией КВЖД во главе с неблагодарным Хорватом, забывшим, что они поймали и расстреляли претендовавшего на его место харбинского большевика Аркуса. Этот период изобилует историями о чудесах, какие обязательно присутствуют в официальной мифологии тех режимов, чьи создатели взялись ниоткуда, из полнейшей безвестности, как Семенов. Такого рода истории придают им подобие легитимности. Случайность тут всегда играет важнейшую роль, ибо в ней являет себя божественный промысел, а смекалка и отвага, как у младшего сына в сказке, становятся главным оружием героя в борьбе с вооруженной до зубов неправдой. Здесь атаман и барон с горсткой верных сподвижников разоружают тысячи развращенных большевистской пропагандой нижних чинов; члены Маньчжурского совета пасуют перед воинским эшелоном, где якобы находятся казаки, а на самом деле никого нет. Свечи, зажженные в окнах пустых вагонов, обманывают большевиков, а китайские солдаты пугаются покрытого брезентом бревна, принимая его за пушку, и послушно выполняют предъявленные им требования.
В январе 1918 года Семенов назначил Унгерна комендантом Хайлара – крупного железнодорожного узла и второго по численности русского населения города в зоне КВЖД. Поначалу местная публика не приняла его всерьез, но он быстро показал, на что способен: военный врач Григорьев, публично выступавший против невесть откуда свалившегося на хайларцев барона, был расстрелян без суда. Впервые в жизни Унгерн приказал убить безоружного, к тому же штатского человека, но не похоже, чтобы его перед этим терзали сомнения. Угрызений совести он тоже не испытывал и, докладывая о случившемся Семенову, писал: “В условиях зарождающейся гражданской войны всякая гуманность и мягкотелость должны быть отброшены”. Сделать это ему было тем проще, что в его распоряжении находилась сила, абсолютно чуждая гуманности и прочим интеллигентским слабостям. Семенов потому и отправил Унгерна в Хайлар, что там был развернут штаб монгольской “бригады”.
Ее появление у семеновцев имело свою предысторию. В 1916 году, во время волнений во Внутренней Монголии, восстали харачины, самое воинственное из монгольских племен. Год спустя, теснимые китайцами, они совершили набег на Цеценхановский аймак Халхи; в бою с ними был ранен будущий председатель Монгольской народно-революционной партии Сухэ-Батор, в то время – пулеметчик войск ургинского правительства. Потерпев неудачу, харачины двинулись в Баргу и в сентябре 1917 года подошли к ее столице – Хайлару. Их насчитывалось около восьмисот всадников во главе с князем Фушенгой. Его наследственные владения были конфискованы в пользу переселенцев из Китая; в качестве компенсации он получил чин полковника китайской армии с соответствующим жалованьем, но это не помешало ему возглавить мятеж.
Под Хайларом в его войско влился отряд чахарского князя Баир-гуна, в прошлом – соратника легендарного Тогтохо-гуна. Оба получили тайную помощь от Японии. У Фушенги была рота переодетых в монгольское платье японских солдат при семи офицерах, у Баир-гуна – четыре орудия с японской обслугой. Из них повстанцы принялись бомбардировать Хайлар с окрестных сопок. Азиатская часть города загорелась и была разграблена, а русские кварталы, прилегавшие к железнодорожной станции, спасли от разгрома проезжавшие в это время с фронта уссурийские казаки.
Китайский гарнизон разбежался, но скоро начались столкновения между харачинами и чахарами с одной стороны и баргутами – с другой. Те и другие были монголами, но олицетворяли собой две крайние тенденции в монгольском мире: первые, согнанные китайцами со своих пастбищ, стали бродягами и профессиональными разбойниками, вторые отчасти перешли к оседлому образу жизни. Местный князь Линшэн потребовал от первых покинуть пределы Барги, но те не подчинились. Идти им было некуда. Ситуация сложилась тупиковая, и чтобы как-то ее разрешить, в декабре 1917 года в Хайларе собрались восточномонгольские князья и ламы. Эту “конференцию” организовали японцы, они же позвали на нее Семенова. С благословения или по прямому совету состоявшего при нем капитана Куроки атаман предложил делегатам выход из тупика: харачины и чахары остаются в Барге, но поступают к нему на службу, благодаря чему получают средства к существованию и прекращают грабежи. Фушенга согласился; его всадники составили в ОМО отдельную “бригаду”. Для контроля над ней нужен был человек с железной рукой, и Унгерн отвечал этому условию как никто другой. Фактическое командование перешло к нему, Фушенга отныне царствовал, но не управлял.
В августе 1918 года, при новом наступлении Семенова в Забайкалье, харачины по распоряжению штаба ОМО угнали из приаргунских станиц, которые поддержали Лазо, не то восемь, не то восемнадцать тысяч овец. Предполагалось передать их казакам, пострадавшим от большевистских реквизиций, но обнаружилось, что по ошибке или, скорее, по неистребимой привычке к разбою харачины угнали не тех овец – большинство их принадлежало казакам, служившим не у красных, а у Семенова. Часть стада вернули владельцам, но породистые овцы были уже испорчены – их гнали вперемешку с баранами и оплодотворили раньше, чем положено по скотоводческому календарю. Другую часть успели продать, остальное пошло в котел самим харачинам. Пострадавшие от реквизиций вообще ничего не получили.
Естественно, разразился скандал. Член войскового правления Гордеев, на которого со всех сторон сыпались жалобы, обратился за разъяснениями в штаб и получил ответ: “О, этого вопроса вы, батенька, не поднимайте. Ведь это сделал барон. Если я об этом заявлю, то мой чуб затрещит. Тут есть особый пункт, которого касаться нельзя”.
Словом, с Унгерном лучше не связываться. Его неприкосновенность объяснялась близостью не только к Семенову, но и к тем, от кого зависел сам атаман, – японцами.
В Хайларе он просто не мог не сойтись с приставленными к Фушенге японскими офицерами (среди них находился опытный разведчик капитан Нагаоми, он же Окатойо) и должен был привлечь их внимание своим неординарным интересом к Востоку вообще и буддизму в частности[33]33
Японский экспансионизм связан не столько с синтоизмом, сколько именно с буддизмом – религией, общей для всех народов Восточной Азии. Она призвана была стать основой их объединения под эгидой Токио.
[Закрыть]. На положение в Азии он смотрел так же, как кумир японской офицерской молодежи, военный министр Кадзусигэ Угаки, провозгласивший, что Япония будет противостоять как европейскому и американскому “деспотическому капитализму”, так и “катящейся на восток волне русского большевизма”. В разговорах Унгерна с японцами могли, в частности, обсуждаться и шансы на возвращение к власти Цинов. Наследник престола, девятилетний Пу И, жил при дворе Чжан Цзолина, генерал-инспектора Маньчжурии, но для Унгерна этот мальчик был не просто одним из инструментов политики Токио в Китае. Единственный, как во всякой утопии, рычаг, с чьей помощью можно направить ход истории в нужную сторону, он видел в маньчжурской династии, а точку опоры – в Монголии.
Королева Байкала. Чита и Даурия
1
Взять Читу собственными силами Семенов так и не сумел. Ее заняли, а затем весьма неохотно передали ему пришедшие из Западной Сибири чехословацкие легионеры Радолы Гайды и добровольцы подполковника, будущего генерала Анатолия Пепеляева. Семенову с его соратниками нелегко было смириться с мыслью, что триумфальный въезд в столицу Забайкалья не состоится. “Это их страшно ошеломило, – писал стоявший в оппозиции атаману казачий генерал Шильников, – разрушило их программу победоносно шествовать по Сибири. Семенов больше суток был пьян до беспамятства, и никто ничего не мог от него добиться”.
В сентябре 1918 года он утвердил свою резиденцию в лучшей читинской гостинице “Селект”, а Унгерн обосновался на станции Даурия[34]34
Любопытно, что названия двух географических пунктов, прочно связанных с именем Унгерна, фонетически созвучны его фамилии – Урга и Даурия.
[Закрыть], получив ее на правах феодального владения: военный городок стал его замком, гарнизон – дружиной, местные жители – крепостными, которых он опекал, казнил и жаловал, а включенный в зону его ответственности отрезок железной дороги от Даурии до пограничной Маньчжурии – торговым трактом, на котором смелый воин всегда сможет прокормиться. До того Унгерн носил погоны войскового старшины, но теперь Семенов, минуя чин полковника, произвел его сразу в генерал-майоры.
Всю осень в Чите праздновали победу. На приемах, банкетах и спектаклях Семенов неизменно появлялся со своей “метрессой”, известной как “атаманша Маша”. Негласно принято было считать ее его женой. Для ближнего круга она была Марией Михайловной, кто-то знал ее как Глебову, а иногда в качестве фамилии фигурировало прозвище Шарабан – от эстрадного шлягера тех лет: “Ах, шарабан мой, американка, / А я девчонка, я шарлатанка…”. В прежней жизни она пела по ресторанам цыганские романсы, поэтому ее называли еще “цыганкой Машей”. Происхождение этой яркой женщины окутано туманом. Сама “королева Байкала”, как без иронии величала ее официозная читинская газета “Русский Восток”, культивировала романтический и одновременно народный вариант своей биографии: якобы на ней, крестьянской дочери с Тамбовщины, по большой любви женился тамбовский вице-губернатор, но она не любила мужа и скрылась от него в далекой Сибири. Однако ее восточная внешность входила в противоречие с этой легендой. Священник Филофей, оказавшийся тогда в Чите, слышал очень похожее на правду известие, что Маша – крещеная еврейка из Иркутска, настоящая ее фамилия – Розенфельд. Девчонкой она сбежала из родительского дома, была проституткой, потом благодаря красоте и богатым поклонникам стала кафешантанной певичкой. Рассказывали, что Семенов познакомился с ней в харбинском кабаре “Палермо”.
Атаман славился влюбчивостью, но, как считал один из самых близких к нему людей, полковник Леонид Вериго, не обладал “качествами мужчины, могущего нравиться женщинам”; к Маше он относился “с большим подозрением в верности”, что “порождало угодливость перед ней”. Семенов осыпал ее деньгами и подарками, а позднее в роли своего личного представителя послал в Токио, где она должна была настроить в его пользу японское общественное мнение.
“Загорелая, изящная, поразительно красивая, одетая в шелка, кружева и меха, с жемчужным ожерельем на шее”, – такой увидел ее отец Филофей, прибыв вслед за ней в японскую столицу. Маша выступала здесь в качестве законной супруги атамана. Свидетельство о браке никто у нее не требовал, она поселилась в гостинице “Сейокен” с баснословно дорогими номерами, произносила патриотические речи на банкетах, принимала корреспондентов крупнейших газет и внушала им, что лишь благодаря ей Семенов сумел так возвыситься. В свободное время ходила по магазинам, покупая роскошные платья и драгоценности[35]35
Хранящийся в архиве ФСБ рассказ Филофея опубликован В. В. Марковчиным.
[Закрыть].
Маша была популярна в Забайкалье. На суровом читинском Олимпе она заняла место богини милосердия: к ней обращались с просьбами и жалобами, простые люди уповали на нее как на народную заступницу, к которой они всегда могут воззвать о помощи.
Автор заметки о ней во владивостокской газете “Голос России” отмечал, что Маша отличалась “беспринципностью и жадностью, которые развиваются в молодых женщинах, принужденных добывать телом средства к существованию”, вместе с тем признавал за ней “известную широту натуры”: “В пьяные минуты готова была отдать последнее”.
Молва приписывала ей загадочную смерть жены начальника штаба ОМО генерала Нацвалова, тоже бывшей актрисы, жгучей брюнетки, красавицы, к тому же еще и поэтессы. В Харбине у нее был недолгий роман с Семеновым, прекратившийся после его знакомства с Машей, и в Чите уязвленная Нацвалова возглавила фронду. В ее доме собирались недовольные режимом, из ее салона и, может быть, из-под ее пера выходили анонимные стихотворные памфлеты на атамана и его любовницу. В итоге Нацвалова бесследно исчезла, а пару месяцев спустя ее полуразложившийся труп с отрезанной головой случайно был обнаружен в Сретенске, в заколоченном ящике. Преступление осталось нераскрытым, но общественное мнение назначило на роль убийц кое-кого из близких Семенову людей. Их считали орудием в руках мстительной “атаманши”, хотя, возможно, из желания выслужиться перед ней они действовали по собственной инициативе, думая, что исполняют ее тайные желания.
Есть малоправдоподобный рассказ о том, будто Унгерн и познакомил Машу с Семеновым. Кажется, поначалу он относился к ней снисходительно и назвал Машкой подаренную ему атаманом прекрасную белую кобылу, свою любимицу[36]36
Тезка атаманской “метрессы” стала любимой лошадью Унгерна и служила ему верой и правдой до того момента, когда он попал в плен к красным.
[Закрыть]. Все изменилось, когда Маша стала вмешиваться в политику. Как доносил колчаковский агент в Чите полковник Зубковский, она, чтобы завоевать симпатии офицеров, оплачивает их карточные долги. Полковники и генералы добивались ее расположения. В одном из писем Унгерн сравнил Машу с “евнухами”, обладавшими такой же властью при дворе турецких султанов. Возможно, еврейское происхождение “атаманши” не было для него секретом, и это не располагало его в ее пользу. Ходили слухи, что ставшую притчей во языцех “Иудейскую роту” Семенов создал по ее инициативе. Из-за этого позднейшие русские фашисты включали Машу в число тех, кто будто бы способствовал обращению атамана в “иудомасонство”.
В Забайкалье с удовольствием пересказывали не то анекдот, не то реальную историю о солдатской прямоте барона, который, не стесняясь в выражениях, указал старому приятелю, кем является его подруга. “Раз как-то, – в эпическом тоне повествует один из рассказчиков, – Семенов решил посетить орлиное гнездо своего генерала и выехал в Даурию со своей возлюбленной куртизанкой Машенькой. Барон проведал об этом и выслал навстречу курьера с ультиматумом: «С Машкой-б… не приезжай. Приедешь, ее прикажу выпороть, а тебя выгоню». Пришлось Семенову оставить свою пассию где-то по дороге”.
Эта байка была тем популярнее, что многих раздражал быстро набравший силу культ атамана как выдающегося государственного деятеля и первого в России человека, осмелившегося вступить в открытую борьбу с большевиками: его имя носили Маньчжурская стрелковая дивизия, 1-й Забайкальский казачий полк, весь отряд броневых поездов и вдобавок еще один бронепоезд, а в Чите – благотворительная столовая, фехтовальный зал, инвалидный дом и симфонический оркестр. Унгерн к таким знакам власти проявлял полнейшее равнодушие. Ни в Забайкалье, ни в Монголии не было ни одного воинского подразделения или какого-то другого объекта, названного в его честь.
2
Азиатская конная дивизия, любимое детище Унгерна, свое название получила не сразу. Сначала она именовалась Инородческим корпусом, потом – Туземным корпусом и Азиатской бригадой. В лучшие времена в ней насчитывалось до тысячи сабель при артиллерии и пулеметах, но какова была ее численность на первых порах, определить затруднительно. Колчаковский агент доносил в Омск, что она “вообще не поддается учету”. Два полка составили чахары Найдан-гуна и харачины Фушенги, третий набрали из забайкальских казаков, в том числе бурят, но за те два года, что Унгерн провел в Даурии, все неоднократно менялось. Неизменным оставалось одно: Азиатская дивизия формировалась не по мобилизации, а как наемное войско.
В основном шли служить за хорошее жалованье. Платили не омскими “воробьями” и не читинскими “голубками”, как по цвету и форме изображенного на них двуглавого орла пренебрежительно называли колчаковские и семеновские ассигнации, а “романовскими” или серебром. С лета 1920 года, перед походом в Монголию, стали выдавать жалованье золотом царской чеканки[37]37
Унгерн получил его от Семенова, задержавшего в Чите часть отправленного Колчаком на восток золотого запаса России.
[Закрыть]. Командир полка или батареи получал сорок рублей в месяц, командир сотни – тридцать, младший офицер – двадцать пять, унтер-офицер – пятнадцать. Простым всадникам при жалованье в семь с полтиной выдавали по пятнадцать рублей на двоих, поскольку монеты были только пяти– и десятирублевого достоинства. Георгиевским кавалерам набавлялось по пять рублей за крест. Предусматривались щедрые компенсации за ранения разной степени тяжести, а также выплаты семье за смерть кормильца. Нормы обмундирования не было, изношенное тут же менялось. Ежедневно все, независимо от чина, получали по пачке русских папирос и спички.
В азиатских частях управление строилось по принципу двойного командования – русские офицеры дублировали туземных начальников. Для подготовки офицерских кадров из бурят и монголов была создана военная школа. Ее начальник, есаул Баев, свободно говорил по-монгольски, как и заместитель Унгерна, войсковой старшина Шадрин, бывший переводчик штаба Заамурского военного округа. Для русских офицеров организовали уроки монгольского языка. За непосещение занятий Унгерн наказывал “как за уклонение от службы”, а “проверку знаний” проводил лично. Из этого следует, что монгольским он в той или иной степени овладел во время жизни в Кобдо.
Даурия при нем – особый замкнутый мир со своими мастерскими, швальнями, паровозным депо, электростанцией, водокачкой, лазаретом, казармами и, конечно, тюрьмой. На самую высокую из окружавших поселок сопок, откуда хорошо просматривались окрестности и где выставлялся наблюдательный пост, Унгерн приказал втащить товарный вагон и поставить в нем нары с печкой, чтобы караульная смена не мерзла на голой вершине. Этот вагон на горе виден был с железной дороги и долго изумлял тех пассажиров, кто ничего не слыхал о причудах барона.
Десять лет назад, когда Унгерн служил в Аргунском полку, здесь начали строить казармы, возвели здания офицерских квартир, конюшни, орудийные парки, тир и манеж. Незадолго до войны была заложена каменная церковь. К революции строительство закончили, но освятить церковь не успели, и Унгерн с присущим ему равнодушием к официальной религии приспособил ее под артиллерийский склад[38]38
В октябре 1920 г. семеновцы, отступая из Даурии, взорвали лежавшие в церкви снаряды. Разнесенное по Аргуни эхо взрыва слышно было за десятки верст.
[Закрыть].
Казармы представляли собой типовые, с элементами модной не так давно псевдоготики, двух– и трехэтажные здания из неоштукатуренного кирпича с полутораметровой толщины стенами. В глубоких, рассчитанных на песчаную почву фундаментах размещались просторные подвалы. Партизаны здесь не появлялись; они старались не приближаться к линии железной дороги, где сила была не на их стороне, тем не менее Унгерн, демонстрируя готовность отстоять свою независимость от любых на нее покушений, превратил в “форты” четыре казармы по углам военного городка: окна и двери двух нижних этажей замуровали, а в третьем и на крыше установили пулеметы. Попасть на верхний, боевой, ярус можно было только снаружи по приставной лестнице, которую, как в средневековых донжонах, втаскивали за собой, разрывая связь с внешним миром. На каждый форт полагалось по пушке и прожектору. По ночам дежурные развлекались тем, что ловили прожекторным лучом вылезающих из нор сурков-тарбаганов: те смешно “загипнотизировывались, поворачиваясь мордочкой к источнику света, и замирали”.
Подчинялся Унгерн только Семенову, да и тот старался облекать свои приказы в форму дружеских просьб, советов или, на худой конец, увещаний. Когда из Читы прибыла инспекционная комиссия и потребовала каких-то денежных отчетов, Унгерн предостерег ревизоров: “Господа, вы рискуете наткнуться на штыки Дикой дивизии!” В Даурии он сидел полным князем и считал себя вправе облагать данью проходившие поезда.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?