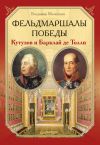Текст книги "Кутузов"
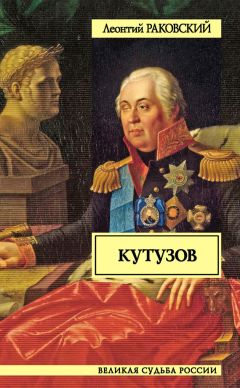
Автор книги: Леонтий Раковский
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 45 (всего у книги 50 страниц)
Большие кавалерийские кони ординарцев постепенно отстали от маленького, выносливого майорского калмыка – Димитрий Николаевич Болговской шпорил его, ехал не разбирая дороги: она вся была одинаково плоха. Ее разбили войска Дохтурова, двигавшегося вчера в Аристово.
Под луной блестели лужи вчерашнего дождя, который лил всю ночь. Грязь летела из-под копыт калмыка во все стороны. Полы шинели и сапоги Болговского были заляпаны ею.
Получив донесение от Сеславина о том, что из Фоминского движется вся армия Наполеона, Дохтуров немедленно послал к фельдмаршалу с этим важным известием своего дежурного штаб-офицера.
Болговской торопился как мог. Еще хорошо, что стояла лунная, светлая ночь.
Уже было после полуночи, когда Болговской на измученном калмыке добрался до Леташевки. Майор с удовольствием соскочил с коня у избы Коновницына.
Болговской отворил тяжелую, набухшую дверь и вошел. Петр Петрович еще не спал. Он в халате и колпаке писал при свече у стола в облаках табачного дыма.
Коновницын поднял глаза на Болговского:
– Дмитрий Николаевич, что?
– Наполеон ушел из Москвы. Он движется от Фоминского к Боровскому, – выпалил Болговской.
– Это верно? Откуда сведения?
– Сеславин видел собственными глазами. Он взял пленного, который рассказал, что французы взорвали Кремль и сожгли все, что уцелело в Москве от пожаров. Вот рапорт Димитрия Сергеича. – Болговской положил конверт на стол.
– Садись, я сейчас! – сказал Коновницын и, надев мундир, выбежал из избы.
Болговской хотел сесть на скамью, но невольно глянул на свои ноги и полы шинели.
Фельдмаршал, конечно, пожелает сам расспросить гонца. Он вышел на освещенный луной двор и стал стряхивать пыль с шинели и сапог.
Коновницын через минуту вернулся к нему с Толем. И все трое пошли к фельдмаршалу.
Коновницын и Толь вошли в избу, а майор Болговской остался в сенях. Сквозь маленькое оконце светила луна. Из-за тяжелой двери глухо доносились голоса. Фельдмаршал быстро откликнулся. Ясно послышалось его возмущенное: «Ах мерзавцы, взорвали Кремль! Я ж говорил! Да позовите его сюда!»
Открылась дверь, и Толь позвал:
– Дмитрий Николаевич!
Болговской одернул шинель, вошел в избу и встал у перегородки в лунном луче, падавшем через окно на пол.
В призрачном свете луны Болговской увидел грузную фигуру Кутузова. Фельдмаршал в сюртуке сидел на кровати за перегородкой.
– Ну говори, дружочек, какие ты мне вести привез? Неужели взаправду Наполеон бежит из Москвы? Говори же скорее, голубчик! Сердце дрожит!
– Ваше сиятельство, Наполеон уже четыре дня как вышел из Москвы. Армия идет к Малоярославцу Надеются завтра быть в Боровске.
– Так, так! Господи! Ты внял нашим мольбам! – растроганно сказал фельдмаршал. – Теперь Россия спасена!
Он полуобернулся к красному углу избы, где чернели иконы.
Кутузов протер слезившийся правый глаз, а заодно машинально провел платком и по здоровому левому. Когда он делал так, все считали, что Кутузов плачет. И враги Михаила Илларионовича, начиная от Александра I, неосновательно называли его «плакса».
– Свечу! – бодро и властно сказал фельдмаршал и, поднявшись, быстро пошел к столу.
Через полчаса майор Болговской уже мчался назад с приказом главнокомандующего генералу Дохтурову немедля идти к Малоярославцу.
Три недели можно было у Тарутина «предаваться неге», как писали неумные враги Михаила Илларионовича. Попросту говоря, три недели приходилось готовиться и ждать, а сейчас надо было действовать.
VЕще час тому назад маленькая, затерявшаяся среди лесов Леташевка мирно спала, а теперь вдруг вся ожила: в окнах засветились огни, захлопали двери изб, тишину лунной ночи разорвали неуважительно громкие голоса, по улицам зацокали копыта лошадей – ординарцы и вестовые мчались от фельдмаршальского дома во все стороны, подымая фонтаны грязи.
Кутузов решил двигаться с армией к Малоярославцу утром и теперь делал последние приготовления.
Фельдмаршал сидел у стола перед раскрытой картой. Все эти дороги от Москвы на юг и запад давно были «исхожены» циркулем и карандашом. На карте спокойно стоял стакан чаю, поданный Ничипором.
Фельдмаршал предписал Платову со всеми его полками и ротой конной артиллерии, «не медля нимало», идти к Малоярославцу. Платов должен был прикрывать с фланга движение всей русской армии.
Кутузов вызвал начальника военных сообщений генерала Ивашова и приказал ему посмотреть дорогу и починить мосты.
Милорадовичу дано было задание уточнить, где находится французский авангард, а затем следовать за армией.
Кутузов послал гонца в Калугу предупредить губернатора о том, что Наполеон идет на Боровск.
Остаток ночи и утро прошли в разных срочных делах.
И когда уже, кажется, все было готово (Михаил Илларионович отдал за последние двенадцать часов шестнадцать письменных приказов, не считая словесных распоряжений), Кутузов вспомнил еще об одном.
Он уходил из гостеприимного, так много давшего русской армии Тарутина. Михаил Илларионович написал владелице Тарутина обер-гофмейстерине Анне Никитишне Нарышкиной, с которой не раз встречался при дворе:
«Село Тарутино, Вам принадлежащее, ознаменовано было славною победою русского войска над неприятельским. Отныне имя его должно сиять в наших летописях наряду с Полтавою, и река Нара будет для нас так же знаменита, как Непрядва, на берегах которой погибли бесчисленные ополчения Мамая. Покорнейше прошу Вас, милостивая государыня, чтоб укрепления, сделанные близ села Тарутина, укрепления, которые устрашили полки неприятельские и были твердою преградою, близ коей остановился быстрый поток разорителей, грозивший наводнить всю Россию, чтобы сии укрепления остались неприкосновенными.
Пускай время, а не рука человеческая их уничтожит; пускай земледелец, обрабатывая вокруг их мирное свое поле, не трогает их своим плугом; пускай и в позднее время будут они для россиян священными памятниками их мужества; пускай наши потомки, смотря на них, будут воспламеняться огнем соревнования и с восхищением говорить: вот место, на котором гордость хищников пала перед неустрашимостью сынов Отечества!»
В полдень 11 октября русская армия оставила Тарутино.
VIДорога была скучная – грязная и непонятная: кажись, неплохо жилось в Гранищеве у Тарутина и неплохо поколотили «Мюрада» (старые солдаты, воевавшие с туркой, так называли Мюрата), а вот, поди ж ты, ведут куда-то назад, на юг.
Армия шла через Леташевку. Думалось разное, думалось такое, о чем вслух и не скажешь.
«Неужто отступаем?»
«Неужто так-таки против него не выстоим?»
От этих невеселых мыслей никли солдатские головы и нехотя шагали ноги.
Солдат весь век на ходу. Солдату не привыкать стать менять квартиру, но все же нелегко оставлять обжитое, пригретое местечко, веселый тарутинский лагерь.
Солдаты шли угрюмые, молча месили ногами осеннюю грязь.
И только на рассвете, пройдя Протву, услышали впереди орудийные выстрелы и оживились.
– Погоди, погоди, паря! Это на отступление не похоже! – начали смекать они.
Не доходя пяти верст до Малоярославца (уже виднелись колокольни его пятиглавого собора и церквей), главнокомандующий устроил привал.
Впереди кипел жаркий бой, слышались не только пушечные выстрелы, но и перекаты ружейной перестрелки. Полки составили ружья в козлы. Задымились трубочки, захрустели на солдатских зубах сухарики.
Фельдмаршал вылез из забрызганной чуть ли не доверху грязью старой коляски и сел на скамеечку среди гвардии.
От Малоярославца скакали к нему с донесениями гонцы. Солдаты услыхали: француз раньше Дохтурова поспел в Малоярославец. Бьются отчаянно, городишко уже три раза переходил из рук в руки.
По дороге из Малоярославца тянулись редкие госпитальные фуры с ранеными. Как всегда, раненым небо казалось с овчинку:
– Валом валят. Тальянцы…
– Не перебить окаянных.
Здоровые уверенно и бодро отвечали им:
– Ну да ничего! Мы их попотчуем!
Дохтуров, принявший на свои плечи удар всей армии Наполеона, просил сикурсу. Он бился с шести утра, уже больше восьми часов.
Михаил Илларионович сидел на скамеечке, думал: «Вот если бы послушался „умников“ и погнался бы тогда за Мюратом у Чернишни, Наполеон успел бы проскочить мимо нас к Калуге по этой новой Калужской дороге. А так – близок локоть, да не укусишь, ваше величество!»
«Умники» были у Малоярославца: Ермолов, рыжий англичанин Вильсон. При Кутузове, как бельмо в глазу, торчал все еще обиженный за Чернишню спесивый Беннигсен.
Ермолов прислал адъютанта, просил подкрепления.
«Все они думают одно: как бы завязать генеральное сражение, а следует только не пустить козла в огород! Не пустить Наполеона в Калугу!»
Михаил Илларионович подозвал Коновницына – он не интриган, он простой солдат, увидит, что там надо.
– Петр Петрович, голубчик! Ты знаешь, как я тебя берегу! – сказал ему фельдмаршал. – Я всегда удерживал твою храбрость, просил: не кидайся в огонь, а сегодня прошу: очисти город!
Коновницын взял бывшую свою третью пехотную дивизию и повел туда, где клокотали гранаты, визжали ядра, рушились горевшие дома.
Томительно тянулись минуты. Малоярославец горел. Ветер приносил вместе с выстрелами терпкий запах пожарищ.
Коновницын оттеснил французов к реке Лужа, но французы зацепились за торговые ряды Соборной площади, за Черноострожский монастырь, стоявший на противоположном конце города, на обрыве.
Коновницын просил помощи. Кутузов отправил своего второго любимца – Раевского.
Малоярославец в четвертый раз оказался у русских. Собственно говоря, города уже не было: были догорающие дома и груды тел на тесных улицах и огородах.
Опять барабанный бой, крики, лязг штыков, ожесточенная рукопашная схватка, и опять русские отброшены к южной, Калужской заставе.
Но и французы не могут никак пробиться дальше, за Малоярославец. Враги дерутся с одинаковым ожесточением.
Кутузов поднял армию и подошел на версту к городу – он твердо преграждал путь Наполеону.
Пока полки занимали позицию, фельдмаршал без свиты, незаметно подъехал к самому Малоярославцу. Не только ядра, но и пули носились роем вокруг него. Одна граната упала в двух шагах от Кутузова. Спокойный конь фельдмаршала испуганно шарахнулся в сторону, но Михаил Илларионович усидел и продолжал осматривать позицию, в потом так же невозмутимо вернулся назад к гвардии, где осталась его коляска. Позиция русских была выгоднее: южная часть города располагалась на возвышенности, и ее трудно было атаковать.
Раевский поддержал Дохтурова, но полки Дохтурова сильно поредели и утомились, пробыв целый день в непрерывном бою. Хочешь не хочешь, а надо их сменить.
Михаил Илларионович послал на смену Дохтурову второй корпус Бороздина.
В это время по дороге из Ильинки показались полки Милорадовича. Никто не ожидал, что он так быстро проделает пятьдесят верст. Армия встретила Милорадовича дружным «ура».
К Кутузову подскакал красный, потный, но все же щеголеватый (хотя уже без цветных шарфов на шее) сияющий, как именинник, Михаил Андреевич.
– Мой крылатый гений! Ты прилетел к нам, как архангел Михаил! – сказал фельдмаршал Милорадовичу, раскрывая ему свои объятия.
Теперь вся русская армия была в сборе.
Из Малоярославца выходили сильно поредевшие, черные, усталые солдаты шестой пехотной дивизии. Откуда-то из сожженных вишневых садов городка пришел и сам Дохтуров со своим штабом. Он был по-всегдашнему спокоен, и только глаза глядели устало.
– Мы не пропустили врага, ваше сиятельство, – сказал он, подходя к Кутузову.
– Благодарю тебя, мой дорогой! Ты сегодня утешил меня, старика! – ответил Михаил Илларионович, обнимая Дохтурова. – Пойди отдохни, дружок!.. Нет, провести нас я Наполеону не позволю! – добавил фельдмаршал, поправляя свою белую бескозырку. – Пусть идет назад, как пришел – по старой дороге!
Вечерело. Бой длился уже больше полусуток. Маленький уездный городок восемь раз переходил из рук в руки.
На землю легла теплая ночь. Бой затихал. Выплыла луна.
Михаил Илларионович ходил возле палатки и думал. Генералитет и свита стояли у костра, переговаривались вполголоса, ждали, что предпримет фельдмаршал.
Намерения Наполеона было нетрудно угадать: завтра он будет стараться пробиться к Калуге. Завтра он усилит атаки. Сегодня действовали только итальянцы вице-короля и Даву, а завтра Наполеон бросит все. Ему во что бы то ни стало надо пробиться к Калуге, где сосредоточены все продовольственные и боевые запасы русских.
«А какова же наша позиция? – обдумывал Кутузов. – На ней негде развернуться кавалерии, а кавалерия у нас сильнее обезноженной французской конницы. В тылу русского расположения, в версте, перед селом Нямцевом, лежит овраг. Овраг труден для перехода: его склоны, как назло, чрезвычайно круты. А дальше тянется узкая и длинная плотина. Конечно, нужно подготовить за ночь более удобную позицию».
Михаил Илларионович подошел к костру и сказал Толю:
– Карлуша, пиши диспозицию: армия отходит за село Нямцево. А ты, голубчик, – кивнул он квартирмейстерскому офицеру Кроссару, – поезжай и найди местечко поудобнее. Эта наша позиция и мала и узка!
В толпе генералов произошло движение, словно над их головами брызнула картечь.
Все заговорили, запротестовали.
Возражали на разных языках, хотя по одному и тому же поводу: Беннигсен – на немецком, Вильсон – на английском, Ермолов и Толь – на русском.
– Отступать? Зачем? Куда? Никогда!
– Ваше сиятельство, я напишу диспозицию к завтрему такую: идти вперед, прогнать неприятеля за Лужу и преследовать! – горячо сказал Толь.
Он уже был в волнении, ноздри его раздувались.
– Да, да, только фпериот! – затараторил рыжий Вильсон.
Англичанин смотрел на старого фельдмаршала с удивлением и презрением.
Кутузов спокойно слушал эти нелепые возражения и предложения.
– Господин фельдмаршал, желаю вам успеха для завершения дела, начатого под Эйлау! – бросил Беннигсен.
Кутузов понял тонкую насмешку самовлюбленного хвастуна Беннигсена: мол, при Эйлау я начал бить Наполеона, а тебе остается теперь только докончить.
Кутузов подошел к возбужденному Толю и сказал:
– Видишь, Карлуша, вон опытный генерал, – Михаил Илларионович кивнул на Беннигсена, – говорит, что завтра на меня нападет неприятель. А ты хочешь, чтоб я действовал как заносчивый гусар. Нет, нет, я должен хорошенько приготовиться к встрече! – Фельдмаршал положил руку на плечо Толя и без тени неудовольствия, но твердо приказал: – Поди, милый, и напиши то, что я говорю!
Больше всех суетился и беспокоился Вильсон. Он стал так красен, как его волосы и мундир. Он кричал, что переводить ночью через нямцевский овраг значительные силы опасно. Что на длинной и узкой плотине войска смешаются, собьются, что арьергард, во всяком случае, погибнет целиком. И он сочувственно смотрел на генерала Уварова, командовавшего арьергардом.
На секунду фельдмаршал закрыл глаза. Потом с вежливой, но холодной улыбкой веско, неторопливо сказал наглому бритту:
– Ваши соображения меня не убеждают. Я предпочитаю построить неприятелю, как вы называете, «золотой мост», чем получить от него удар в затылок. Сверх того, я снова повторяю то, что уже несколько раз говорил вам: я вовсе не убежден, что совершенное уничтожение Наполеона и его армии будет великим благодеянием для вселенной. Его наследство достанется не России или какой-нибудь иной из держав материка, но той, которая уже завладела морями. И тогда-то ее владычество будет невыносимо!
И фельдмаршал пошел от него прочь так быстро, насколько позволяли его старые, больные ноги.
Несмотря на мрачные предсказания английского генерала, русская армия благополучно перешла через нямцевский овраг и узкую плотину. Арьергард остался совершенно цел: по коннице Уварова, когда она отходила на новые позиции, французы пустили всего лишь две гранаты.
А старый фельдмаршал, утомленный всеми переживаниями этого великого дня, решившего судьбы России и Наполеона, уснул под открытым небом на бурке. Свист ядер и ружейчая трескотня, то и дело вспыхивавшие на линии, не мешали ему спать: Кутузов был спокоен – русская армия преградила Наполеону путь на юг.
Глава четырнадцатая
Наполеон бежит
IЧто иностранные писатели все почти единодушны приписывать истребление наполеоновской армии голоду и морозу, то это неудивительно. Все почти имели там своих представителей, и не сознаться же им пред целым светом и потомством, что истребили их действия русских армий.
Н. Митаревский «Воспоминания о войне 1812 г.»
Относительно ужасных бедствий, обрушившихся на французскую армию во время ее отступления, бедствий, которые Наполеон приписывает единственно морозу, Сен-Сир отвергает так, как и я: «Это заверение теперь все знают, говорит маршал, что когда большие морозы начались после переправы через Березину, то семи восьмых нашей армии уже не существовало».
Генерал Шамбре
Почти три четверти армии, которую Наполеон привел в Россию, было разрушено, а остальная, четвертая часть приведена в жалкий беспорядок еще до выпадения снега, которому Наполеон потом заблагорассудился приписать свою неудачу.
Вальтер Скотт
Было бы ошибкой думать, что зима в 1812 г. наступила рано: напротив, в Москве стояла прекраснейшая погода. Когда мы выступали оттуда, 19 октября, было всего три градуса мороза и солнце ярко светило.
Стендаль
Армия погибла прежде, чем погода приняла суровый вид.
Капфиг
«Великая армия» отступала.
Не пробившись в южные губернии, Наполеон был вынужден повернуть на старую дорогу и идти через Боровск – Верею – Можайск в Смоленск.
Наполеоновской армии был хорошо знаком и памятен этот широкий тракт, с кое-где уцелевшими полосатыми верстовыми столбами. Еще с лета там и сям у обочины валялись остовы разбитых фургонов и повозок, ржавели пробитые пулями каски, белели конские черепа. А чуть подальше от дороги мрачно чернели трубы сожженных домов.
Наступать по этому пути было не сладко, но отступать под неусыпным конвоем казаков и партизан, которые нападали при всяком удобном случае, было во сто раз хуже.
Тогда шли, надеясь на победу, на мир, на Москву. А теперь все кончено: нет ни Москвы, ни победы, ни мира.
Многие увозили и уносили из Москвы золото, серебро и дорогие меха, но ценой скольких лишений и невзгод!
А что ждало каждого впереди? Ведь еще надо было прошагать так много лье до милого отеческого очага, если не сразит раньше пуля русского мстителя или казачья пика.
Уныние царило всюду. А если француз потерял последнюю опору в несчастье – веселость, ему чудятся одни бедствия.
Солдаты шли с опущенными головами, стыдясь смотреть в глаза друг другу: каждый понимал, что хоть это и называется «отступление», но на самом деле – постыдное бегство.
Сеял мелкий осенний дождь. Дорога сразу стала грязной и тяжелой. Измученные, вечно голодные кони падали десятками под непосильной кладью. И опять, как летом, в канаву полетели повозки и зарядные ящики, а у дороги стали присаживаться усталые, отставшие солдаты.
Число отставших увеличивалась с каждой верстой.
Под Малоярославцем дрались отчаянно, самозабвенно, как при Бородине, потому что хотели любыми средствами пробиться на юг, к теплу и хлебу, хотели увезти и сохранить награбленное в Москве богатство. Но не смогли сломить стойкость русских людей, преградивших им путь, пришлось возвращаться на опустошенную дорогу, и уныние овладело армией.
Теперь у всех – от барабанщика до маршала – заветной мечтой стал древний Смоленск. Император, главный штаб, генералы – все только и твердили о том, что в Смоленске армию ждут богатые провиантские магазины, полные разных продуктов, гурты скота, склады обуви и зимней одежды, теплые казармы.
Хлеб и тепло. Какие увлекательные, волнующие слова! Хотелось верить, что где-то существует все это. Но когда говорили о Смоленске, в памяти вставали высокие каменные стены, море огня и дыма над городом, заваленные трупами улицы и испепеленные дома.
Наполеон позорно отступал, но хотел обмануть Европу, убедить ее в том, что он уходит на запад не под давлением русской армии и партизан, а лишь затем, чтобы занять удобные зимние квартиры и сблизиться со своими флангами. С пути он отправил комендантам Могилева и Витебска приказ заготовить побольше провианта и писал успокоительные слова:
«Движение армии добровольное, это только маневр для приближения на четыреста верст к армиям, действующим на флангах; с тех пор как мы оставили окрестности Москвы, нам попадаются только казаки».
Наполеон разделил армию на отдельные эшелоны, которые следовали в полупереходе друг от друга. На этот раз Наполеон предоставил войска маршалам, а сам отступал не как полководец, а как император. Он думал только о себе, а не об армии. Он готов был жертвовать всем, лишь бы самому унести ноги. Наполеон со своей главной квартирой не помещался, как обычно на походе, в центре армии, а шел с гвардией в авангарде. Он чувствовал себя увереннее и безопаснее среди этих закаленных в боях, хорошо обмундированных, сытых, сохранивших выправку и бодрость французских батальонов – недаром он берег их и не пустил в бой во время Бородинской битвы.
Наполеон не думал разделять труды и лишения с войсками, не спал, как Суворов в Альпах, вместе с солдатами на снегу у бивачного костра, а отгораживался от всех гвардией, которая становилась в каре вокруг домов, где располагался со своими фургонами, со своими лакеями и свитой император.
Кроме того, в авангарде не было голодных, завистливых глаз, ревниво следящих за тем, как на привале в императорскую палатку вносят стол, покрытый чистой накрахмаленной скатертью, ставят серебряную посуду. Император и его свита не чувствовали голода. У Наполеона всегда был белый хлеб, говядина или баранина, хорошее прованское масло, рис, любимые с детства бобы и не менее любимые вина – шамбертен и кловужо.
Императорский обоз, перевозивший провиант, мебель, палатки, канцелярию, был в порядке. За ним следовало семьдесят фургонов, двадцать карет и колясок и сорок вьючных мулов со столовыми принадлежностями. Никто не смотрел жадными, голодными глазами на мешки с белой мукой, на окорока ветчины, на бараньи туши, потому что за гвардией тянулся громадный обоз, какого, вероятно, не было ни у одной боевой части с тех пор, как ведутся войны.
Когда солдаты Мюрата, жившие впроголодь у Винкова, увидали сытую старую гвардию и богатство ее обоза, зависть и обида вкрались в их сердца. Голодные, они просили у гвардии продать хлеба и вина, но надменные гвардейцы не хотели даже разговаривать с ними. Они жестокосердно-грубо отказывали – денег и дорогих вещей у гвардии было вдосталь.
Вся остальная армия питалась только тем, что каждый вез в фурах или нес за плечами в ранце.
Выступая из Москвы, Наполеон приказал раздать войскам продовольственные запасы, собранные в разных складах на случай отступления. Но уходили внезапно и поспешно, и правильной раздачи быть не могло. Кто оказался поближе к складам, расторопнее и нахальнее, тот захватил больше. Частям, стоявшим вне Москвы, как авангарду Мюрата, вовсе не досталось ничего. Они принуждены были идти в поход без запасов, надеясь только на то, что найдут по дороге. А дорога была опустошена и разграблена на много верст вокруг, и все, кто пытался добыть еду или фураж подальше от тракта, подвергались риску быть захваченными казаками или партизанами.
При таком беспорядочном распределении запасов нищета и голод уживались в одном и том же полку с изобилием и довольством. В первой роте было всего вдоволь, а во второй – полное оскудение. Случалось и так, что одному батальону доставалось много вина, но ни горсти муки, а у другого была мука, но ни капли вина.
В Симоновском монастыре жгли запасы, которые не успели увезти, а многие полки уходили из Москвы с полупустыми фургонами, имея лишь по нескольку горстей муки на человека.
На пути от Боровска к Верее Наполеон два раза смотрел проходившие корпуса с бесконечными тысячами повозок. Зрелище было неавантажное. Из фургонов, повозок, карет выглядывали дети, старики, женщины – жены и подружки солдат и офицеров, семьи московских французов, пожелавших уехать с армией на родину. Это походило больше на кочевников, ищущих, где бы остановиться, или на орды варваров, возвращающихся с удачного набега, чем на регулярную первоклассную армию Европы.
Каждому капралу было ясно, что маневрировать с таким табором невозможно. Но приказать бросить все награбленное Наполеон не мог – он боялся открытого возмущения. И так уже корпуса, увидев его, не кричали, как бывало: «Да здравствует император!» Он ловил на себе безразличные, а иногда и косые взгляды некоторых солдат, особенно немцев, слышал их нелестные реплики по своему адресу.
Солдаты были злы и недовольны. Они добились того, о чем мечтали, – увозили и уносили несметные богатства древней русской столицы, но никогда не предполагали, что им придется тащить все это на себе.
Наполеон понимал их самочувствие.
Он поехал к себе в авангард, под защиту довольных собой, своей жизнью и своим императором солдат старой гвардии.
Император презрительно думал: «Наплевать, у меня хватит еще пушечного мяса!»
Он торопил авангард, боялся, как бы Кутузов не встретил его в Вязьме, куда мог прийти раньше французов.
Армия спешила поскорее пройти разграбленную, сожженную местность, которую полчища Наполеона окончательно опустошали теперь.
Не сумев ни разбить русскую армию, ни поставить русский народ на колени, Наполеон в бессильной злобе предавал все огню и мечу.
– Так как господа варвары считают полезным сжигать свои города, то надо им помочь в этом! – сказал он.
И весь путь отступления «великой армии» обозначался сплошными пожарами. Все города и села, через которые проходила армия, безжалостно сжигались. А немногочисленные русские пленные расстреливались по дороге.
Привалы были короткими и случайными. Кто имел какую-либо муку, тот пек в золе лепешки или варил похлебку, приправляя ее вместо недостающей соли порохом. На углях костров жарили конину, ее было достаточно: голодные, истощенные кавалерийские, артиллерийские и обозные кони падали каждый день сотнями. Маршалы советовали императору бросить часть артиллерии, а освободившихся лошадей передать истомленной, почти уничтоженной кавалерии, необходимой для охранения и разведок. Но Наполеон упрямо не соглашался: в нем, во-первых, заговорила честь старого артиллериста, а во-вторых, он боялся показать, что бежит от русских. Он старался все увезти, а в результате все терял.
Вообще он не хотел признавать бедственного положения своей армии. Наполеон расписывал солдатам, какие блага ожидают в Смоленске, и повторял нелепую легенду о том, что скоро к армии прибудут какие-то «польские казаки», которые заменят обессиленную кавалерию.
Еще выходя из Москвы, Наполеон видел расстройство армии, падение дисциплины, но не хотел ни с кем говорить об этом, понимая, что уже ничем поправить дело нельзя.
Войск по количеству было достаточно, но мало хлеба и еще меньше дисциплины.
Он полагался на обаяние своего имени: армия еще продолжала верить в него и его счастливую звезду.
Спешенные кавалеристы первые внесли беспорядок в ряды армии, придали ей вид толпы, а не организованного войска. Очутившись без лошадей, они побросали ставшие обременительными и ненужными палаши и сабли. Спешенным кавалеристам роздали ружья, но бывшие кавалеристы не привыкли к длительным переходам и предпочитали опираться на простую легкую палку, а не тащить тяжелое, неудобное ружье. Их догадливостью быстро воспользовались пехотинцы – они понемногу освобождались от амуниции и вооружения. Лучше бросить подсумок с патронами, чем расстаться с ковром или столовым серебром, заполнившими заплечный мешок.
Эти безоружные унылые толпы брели, как стадо за вожаком.
Постепенно с каждым днем разваливалась не только дисциплина – падал воинский дух, рушилось товарищество: каждый думал лишь о себе. Было потеряно доверие. Каждый смотрел на другого как на врага, который при первом удобном случае украдет у соседа ранец с награбленным в Москве добром, последнюю горсть муки или кусок конины.
Командиры приказывали солдатам делиться с товарищами своими запасами съестного, но никто не делал этого.
Вообще с каждым днем все меньше и меньше слушались начальников.
Солдаты армейских корпусов были озлоблены и угрюмы. Не слышалось ни шуток, ни смеха. «Великая армия» шла в великом унынии. Солдаты роптали:
– Завели на край света!
– Погибнем все в этой Татарии!
На мрачное состояние духа сильно повлияла ужасная, бедственная участь раненых. Раненых и больных везли из Москвы, из Тарутина, раненых захватили после боя у Малоярославца, раненых встречали здесь же, на Смоленской дороге, в Колоцком монастыре, в Гжатске.
Всюду были раненые.
Когда 17 октября, пройдя через страшное бородинское поле, увидали сотни живых мертвецов в Колоцком монастыре, Наполеон приказал: рассадить их по всем каретам, повозкам, фургонам.
– Римляне награждали лавровым венком тех, кто спасал своих сограждан! – изрек он.
Что руководило им: обычное позерство, игра в «отца и благодетеля» или просто расчет – может быть, из этих людей, раз они не погибли до сего времени, еще получатся солдаты? Ведь это старые, опытные вояки!
Наполеон даже постоял и посмотрел, как размещали этих несчастных, искалеченных людей.
Их сажали в генеральские кареты, в фургоны, нагруженные московской мебелью, в дормезы, набитые до отказа какими-то молодыми особами в атласных и бархатных салопах и кокетливых шелковых чепчиках, на грязные мешки, на торчащие углами ящики, на тесные, неуютные передки и задки телег, на высокие козлы, на скользкие крыши армейских повозок, на откидной верх фургонов.
Владельцев всего этого разнообразного транспорта не прельщали почетные римские лавры. Они встречали непрошеных гостей сдержанно, сухо и не внимали преждевременной, но искренней благодарности несчастных, поверивших в свое неожиданное чудесное спасение. Раненые готовы были мириться со всей необычностью путешествия, лишь бы не оставаться заживо умирать в сырых стенах Колоцкого монастыря.
Но их надеждам не суждено было исполниться.
Грубые кучера, гордые камердинеры и наглые денщики, бессердечные, жадные маркитанты, возгордившиеся жены и подружки солдат и нахальные возлюбленные генералов только и думали о том, как бы поскорее избавиться от этого лишнего, неопрятного, неприятного седока.
«Страх погибнуть от голода, потерять свои слишком перегруженные повозки, погубить своих лошадей, изнуренных усталостью и голодом, закрывал чувству жалости доступ в людские сердца. Я и сейчас содрогаюсь, когда рассказываю, как кучера нарочно направляли свои повозки по рытвинам и ухабам, чтобы избавиться от несчастных, полученных в качестве дополнительного груза, и радовались „удаче“, когда какой-нибудь толчок освобождал их от того или иного из этих злополучных людей, хотя они наверняка знали, что упавших раздавят колеса или изувечат лошадиные копыта», – писал об этом впоследствии не бесстрастный, но беспристрастный Коленкур.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.