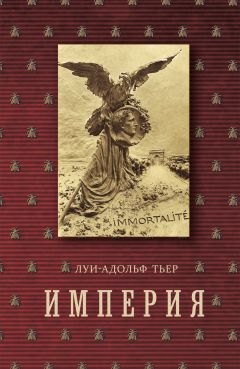
Автор книги: Луи-Адольф Тьер
Жанр: История, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 54 страниц) [доступный отрывок для чтения: 18 страниц]
Так же поступили в отношении кавалерии, обойдясь с ней чуть менее строго. Оставили 56 кавалерийских полков, по четыре эскадрона в каждом, в том числе 14 полков тяжелой, 21 полк средней и 21 полк легкой кавалерии, с действительным составом в 36 тысяч конников. Сохранили 12 артиллерийских полков, в том числе 8 пеших и 4 конных, включавших 15 тысяч артиллеристов и 3 полка инженерных войск, общей численностью 4 тысячи человек. В этих войсках, как и в пехоте, незанятым офицерам предоставили половинное жалованье с правом на две трети освобождавшихся мест.
Общая численность всех родов войск должна была дойти примерно до 206 тысяч человек, а вместе с Императорской гвардией – до 214 тысяч, и потребовать расходов, которые министр оценил в 200 миллионов. Однако, как вскоре выяснится, Дюпон, за отсутствием опыта, заблуждался и не мог сохранить под знаменами 150 тысяч человек подобной ценой. А потому не следовало восстанавливать Военный дом короля и создавать конный и пеший дворянские корпуса, которые обойдутся во столько же, во сколько 50 тысяч солдат. Но старым дворянам, преданным и несчастным, нужны были должности; пылкие молодые дворяне желали таким путем попасть в военное сословие; предполагалось, что несколько тысяч доблестных молодых дворян станут неодолимым щитом против будущих революций; наконец, таким образом всем дозволялось вернуться к званиям и чинам, которыми они некогда обладали. Поэтому решение о воссоздании Военного дома короля обсуждению не подлежало, оставалось только найти средства для его выполнения.
Организацию нового подразделения поручили генералу Бернонвилю, служившему и до и после Революции. Он справился с задачей, в точности скопировав прошлое. Были восстановлены старые красные роты [Maison rouge] под наименованием серых мушкетеров, черных мушкетеров, жандармов и легких всадников, в каждую из которых должно было войти по 300–400 дворян в офицерском звании для несения почетной службы в дни церемоний и под командованием самых знатных придворных вельмож. Затем восстановили роты телохранителей, которых теперь стало шесть. Четыре роты предназначались их прежним командирам, герцогам Авре, Грамону, Пуа и Люксембургскому, а еще две роты решили вверить новым маршалам: Бертье, по причине его высокого положения, и Мармону, которого хотели вознаградить за услуги.
Легко догадаться, какое раздражение основной части армии вызвал бы подобный корпус своей надменностью и роскошью. Нескольких случайных встреч офицеров Военного дома и офицеров армии было бы довольно, чтобы привести к злосчастным стычкам и непримиримой ненависти.
Сокращать, дабы соразмерить с территорией и финансами, требовалось не только армию, но и флот, и в этой части предстояли сокращения еще более значительные и ощутимые. Вместо ста линейных кораблей и двухсот фрегатов Наполеона мы могли, при состоянии наших финансов, сохранить на плаву в мирное время от силы два-три корабля и восемь – десять фрегатов; в соответствующей пропорции надлежало сократить снаряжение и персонал флота. Матросы и рабочие могли перейти в торговый флот, но морским офицерам и инженерам предстояло оказаться в трудном и даже мучительном положении. Для них, как и для сухопутных офицеров, установили режим половинного жалованья, с правом на две трети освобождавшихся мест. Кроме того, им предоставили возможность служить на торговых суднах без потери прав и чинов в королевском морском флоте. Но эти полумеры не способны были остановить обнищание обеих армий.
Оставалось принять решения по поводу одного из наиболее дорогих военным института – Почетного легиона. Хартия предусматривала его сохранение, и никто не осмелился бы предложить его упразднение. Но нужно было примирить существование ордена Почетного легиона с существованием других старых и новых орденов. Речь шла, в частности, о возрождении креста Святого Людовика, почетного ордена, учрежденного при Людовике XIV для особого вознаграждения за военные заслуги и в ту эпоху еще встречавшегося у старых офицеров, достойно служивших в войнах минувшего столетия. Было решено, что оба ордена будут существовать одновременно, а для омоложения креста Святого Людовика им наградят наиболее отличившихся офицеров императорской армии, которые получат тем самым два креста вместо одного.
Сохраняя Почетный легион, следовало изменить его наградной знак, ибо нельзя было вынуждать Людовика XVIII и принцев носить на груди изображение Наполеона. Договорились, что на одной стороне пластины, служившей знаком отличия, поместят изображение Генриха IV, а на другой – три лилии. Договорились также, что, как только изменения будут произведены, все Бурбоны станут носить этот крест на груди.
Различные меры, о которых мы рассказали, в большинстве своем продиктованные крайней необходимостью, жестоко обидели бы армию, даже если бы не доставили недоброжелателям прямых поводов. Но вкупе со всем тем, что добавили к этим мерам принцы ради угождения своим друзьям, вкупе с раздражением, царившим среди военных, и несправедливостью, к которой оно их побуждало, нововведения должны были получить весьма дурной прием, вызвать повсеместную злую критику, а нередко и опасное сопротивление. Это, к примеру, произошло с Императорской гвардией. Она всё еще оставалась в Фонтенбло и узнала о том, что будет сохранена, но лишена миссии охраны государя, а потому не останется в Париже, столь желанном для любых войск. Прошел даже слух, что расположение гвардии в Фонтенбло находят слишком близким к столице, а потому пехоту отправят в Лотарингию, а кавалерию – во Фландрию, Пикардию и Турень. Это известие вызвало горячее волнение, и часть солдат даже прошла по улицам Фонтенбло с криками «Да здравствует Император!».
Король, со своей стороны, продолжал выказывать армейским военачальникам самые лестные знаки внимания. Он принял маршала Массена, много хвалил его за подвиги и объявил о скорой его натурализации, предложенной палатам. Он принял также Карно в качестве главного инспектора инженерных войск и адмирала Верюэля в качестве морского офицера, оставшегося на службе Франции: король, казалось, забыл, что первый являлся цареубийцей, а второй оборонял до последней крайности Тексель. Между тем, похоже, Бурбонам, сделавшим над собой столько усилий, хотелось облегчить душу за счет одного из великих военных того времени. И такой жертвой, отданной на растерзание роялистам, сделался маршал Даву. Его оборона Гамбурга возмутила иностранных государей, на него сильно гневались и к тому же считали фаворитом Наполеона, что доказывает только неосведомленность роялистов, ибо Даву пребывал в опале с 1812 года. Он стал единственным из маршалов, которого король вовсе не пожелал принять. Военному министру было поручено объявить, что Даву следует объясниться по поводу своего поведения, прежде чем быть допущенным ко двору, поскольку он скомпрометировал имя француза за границей. Маршал весьма холодно встретил это сообщение и продолжил трудиться над своими мемуарами.
С этой минуты до той поры почитаемый, но не любимый военными Даву внезапно сделался их кумиром. У офицеров, покинувших корпуса и не спешивших вернуться, несмотря на повторные приказы военного министра, образовался на Итальянском бульваре и в Пале-Рояле своего рода форум. Они собирались, на свой лад истолковывали действия правительства, высмеивали немощного короля, сравнивая его неповоротливость с резвой повадкой человека, чью дьявольскую активность еще недавно проклинали, смеялись над Военным домом короля, а особенно над старыми эмигрантами, депутации которых ежедневно являлись в Тюильри и нередко выставляли себя в смешном свете.
Мы уже говорили о тысячах служащих всякого рода – таможенниках, сборщиках податей, офицерах полиции, – последовавших за армией на ее пути назад, разделивших с ней все опасности и теперь умиравших от голода в Париже с женами и детьми. Они присоединялись к группам недовольных офицеров и добавляли к их веселью сокрушительное зрелище собственной нищеты. Напрасно барон Луи, пекшийся более о финансах, нежели об облегчении их бедствий, отказал им в помощи, которая не сильно обременила бы бюджет, но положила бы конец незаслуженным страданиям: многие из несчастных сводили счеты с жизнью. Подобные душераздирающие сцены производили на парижан удручающее впечатление и начинали их сильно тревожить.
Одним из задуманных средств восстановления военной дисциплины было наделение высокими постами маршалов, не получивших придворных должностей, и перевод под их командование, с расширенными полномочиями и высокими окладами, главных военных округов. Во-первых, находили весьма выгодным разбросать маршалов по стране; во-вторых, хорошо знали, что хотя они и не всегда довольны двором, при котором чувствуют себя чужаками, пусть и обласканными, но не желают возвращения Наполеона и при переводе в провинции постараются воздействовать на войска своим авторитетом и вернуть их к исполнению долга. Парижский округ находился слишком близко к верховной власти, чтобы командование в нем имело большое значение, однако и тут требовался твердый человек. Выбор пал на генерала Мезона, который выказал в Лилле редкостную энергию и никогда не слыл другом Наполеона. Журдана оставили прямо там, где он водрузил белое знамя, то есть в Руане; Мортье – во Фландрии, Удино – в Лотарингии, Нея – во Франш-Конте (троих последних – в их родных краях); Келлермана отправили в Эльзас, где он всегда занимался сборными пунктами; Ожеро – в Лион, где он командовал недавно; Массена – в Прованс, где застала его Реставрация; Макдональда – в Турень; Сульта – в Бретань. Скоро мы увидим, насколько успешны были эти блестящие назначения, на которые в ту минуту возлагались счастливые надежды.
Еще меньшего успеха добились с другими классами общества, которые следовало поберечь, дабы не превращать их в союзников военных. Тотчас по возвращении королевская семья пожелала почтить поминальной службой память Людовика XVI, Марии-Антуанетты и других августейших жертв, чьи головы пали на эшафоте. Ни одно из революционных событий не навевало, разумеется, столь мучительных чувств, как смерть несчастного Людовика XVI, заплатившего за благородные намерения самым несправедливым приговором, и желание воздать ему посмертные почести было естественным. Шестнадцатого мая, в день смерти Генриха IV, в церквях Парижа отслужили поминальную службу и зачитали завещание Людовика XVI, в котором он накануне казни в трогательных выражениях прощал своих врагов.
В провинции, последовав примеру в отношении самой церемонии, поступили иначе в отношении способа ее проведения. Духовенство произносило надгробные речи, и по этому случаю прозвучало немало подстрекательских слов. Революция представлялась одним нескончаемым преступлением: преступными были названы и люди, и события, всё подлежало осуждению, даже принципы справедливости, во имя которых Революция совершалась и которые только что получили закрепление в хартии. Роялистская пресса обострила ссору, ответив тем, кто призывал к обещанному хартией забвению, что оно обещано авторам революционных злодеяний, которых не станут подвергать судебному преследованию, но никто не обещал заткнуть рот общественной совести; эти люди должны почитать за счастье свою бесстыдную безнаказанность, но никто не гарантирует им ни уважения, ни молчания честных людей. Легко догадаться, какое впечатление производили такие речи и на непосредственно упомянутых людей, и на тех, кто был с ними связан не общими делами, но общими принципами.
Вступив на путь несвоевременных воспоминаний, и не думали останавливаться. После Людовика XVI и Марии-Антуанетты настал черед принцессы Элизабет, герцога Энгиенского, Моро, Пишегрю и даже Жоржа Кадудаля, признавшего в суде намерение напасть на Первого консула по дороге из Мальмезона. Отыскали священника, бывшего при Жорже в последние минуты, поручили ему совершить поминальную службу и неосторожно объявили, что расходы на церемонию оплатит король. Таким образом, без всяких оснований скомпрометировали Людовика XVIII в глазах умеренных либералов, которым нравилось считать короля более благоразумным, чем его семья и его партия. Церемония произвела особенно сильное впечатление на военных, которые выказали такое негодование, что встревоженная полиция сочла должным предупредить короля.
Вести дела таким способом значило соединять тесными узами революционеров, даже самых умеренных, с военными и всеми сторонниками Империи. Не больше берегли и приобретателей государственного имущества и присягнувших священников.
Священники в провинциях, еще более неосторожные, чем эмигранты, начали вести с кафедр самые опасные речи. Они открыто проповедовали против Конкордата, против продаж церковного имущества и имущества эмигрантов, и доходили до того, что отказывали в исповеди и причастии приобретателям, которые умирали, не осуществив возврата, согласно популярному тогда выражению.
Священники не ограничились нападками на приобретателей государственного имущества, распространив их и на умеренное духовенство, учрежденное Конкордатом, и вновь разожгли внутрицерковные раздоры. К несчастью, Сенат в проекте конституции не упомянул о закреплении Конкордата. И теперь речь шла не меньше, чем об упразднении всех перемен, произведенных Революцией в Церкви и освященных временем, законами и голосами просвещенных людей.
После того как Наполеон по своей вине уступил трон Бурбонам, его самое разумное начинание оказалось под угрозой такого же уничтожения, как и самые безрассудные дела. Бурбоны, связанные конституцией Сената, обязались уважать определенные принципы в политике и в управлении, но, будучи вольны в религиозной сфере, желали безоговорочного восстановления прошлого. Следует добавить, что они ненавидели не только Конкордат, но и самого папу. Они не простили ему симпатии к Наполеону и относились к нему как к своего рода присягнувшему священнику, которого нужно, конечно, помиловать, поскольку он легитимен, но при этом отменить по возможности всё, что им сделано. Однако можно ли было помыслить, чтобы папа уничтожил нынешние округа и восстановил прежние, вновь потребовал отставки прелатов и заменил их теми, кого некогда сам сместил, вернулся к прежнему различению присягнувших и не присягнувших священников и привел Церковь к расколу, церковников – к войне, а верующих – в смятение? Нужно было настолько не понимать Францию, как не понимали ее эмигранты, чтобы затеять дело, которое на каждом шагу грозило непреодолимыми трудностями и огромными опасностями.
Однако, вольные попытаться, Бурбоны решились и начали с того, что не признали некоторых прелатов и отказались от всяких отношений с ними. Кардинал Мори был изгнан, потому что граф д’Артуа в день вступления в Париж не пожелал, чтобы тот встречал его в соборе Нотр-Дам. Такое же решение было принято и в отношении многих других, кого утвердил папа. Не ушедшим в отставку епископам сообщили о планах отменить Конкордат, и они поспешили вернуться из Лондона в Париж, не замедлив оповестить об этом всё духовенство. Тотчас на кафедрах, где наличествовали два номинальных епископа, возобновились распри. Раскол быстро разрастался в обеих Шарантах, в Дордони, Вандее, Дё-Севре, Нижней Луаре, Луар-и-Шере, Сарте, Майенне, и никто уже не понимал, какой религиозной власти следует повиноваться.
Хотя французское духовенство в своем опрометчивом поведении было только сообщником правительства, оно уже приводило в замешательство и само правительство, стесняя его сверх всякой меры. Ведь невозможно было отменить Конкордат без папы, и тот, кто из усердия восставал против актов Церкви из желания защитить ее, не мог, между тем, не признавать ее до такой степени, чтобы действовать наперекор ей. И потому, пока от Пия VII не добьются отзыва Конкордата, необходимо было признавать существовавшие религиозные власти, дабы не впасть в настоящую анархию.
Между тем было принято решение начать в Риме переговоры. Король выбрал для этой цели Куртуа де Пресиньи, бывшего епископа Сен-Мало, и облек его достоинством чрезвычайного посла при Святом престоле. Посол должен был дать понять Пию VII, что тот выказал перед узурпатором чрезмерную слабость; об этом готовы забыть из почтения к его сану и невзгодам, но ему следует уничтожить все следы слабости и объявить недействительным всё, что было сделано и чему он содействовал после вступления французов в Италию. Папу просили восстановить 135 прежних кафедр и вернуть на них отказавшихся подать в отставку в 1802 году прелатов, ибо они на протяжении двадцати пяти лет подвергались гонениям за дело истинной веры и имеют такое же право вернуться в свои епархии, как Людовик XVIII в Париж, а папа – в Рим. Тем самым его второй раз за двенадцать лет просили сделать то, что он сам объявлял беззаконным.
Но пока готовилось посольство, в Риме внимали голосу разума не более, чем в Париже, и Пий VII, желая изменить Конкордат в некоторых пунктах, затрагивавших римскую Церковь, обратился к Людовику XVIII с посланием, которое прибыло в ту самую минуту, когда отбыло в Италию посольство. Поздравляя главу дома Бурбонов с возвращением на французский трон, папа выказывал уверенность в религиозных чувствах короля, советовал не принимать сенатской конституции (в Риме еще не знали об обнародовании хартии), умолял отвергнуть свободу культов и вернуть французской Церкви ее земельные владения. Кроме того, он желал добиться возвращения Святому престолу Папской области, Понтекорво и Беневенто (княжество Беневенто принадлежало Талейрану, который и получил это послание). Наконец, папа требовал возвратить принадлежавший теперь Франции Авиньон, который Людовик XVIII, старший сын Церкви, как говорил Пий VII, не мог отказаться вернуть Святому престолу!
Революции, устремленные в будущее и не считающиеся с настоящим, зачастую весьма сумасбродны, но не менее сумасбродны и контрреволюции, когда стремятся вернуть невозможное прошлое: Людовик XVIII требует отказа от Конкордата у папы, который требует у него отказа от Авиньона!
Итак, не прошло и трех месяцев после возвращения Бурбонов во Францию, как они, без дурных намерений, просто не сумев сдержать себя и своих друзей, уже обидели почти все классы общества. К счастью, все их действия подлежали рассмотрению весьма высокого суда, благоразумного и несклонного подпадать под придворные влияния, суда двух палат, учрежденных хартией. Король, как мы помним, собрал их 4 июня, огласил хартию и позволил приступить к работе. С той поры палаты не прекращали заседаний и для начала выработали регламент, который должен был предшествовать любой работе. После недолгих дебатов законодатели приняли систему, признанную наиболее удобной для спокойного и серьезного изучения вопросов. Поскольку любая ассамблея должна подразделяться на отдельные собрания, палаты разделились на бюро по 20–30 членов, обновлявшихся ежемесячно с помощью жеребьевки. Бюро суммарно рассматривали представляемые им дела и назначали комиссию для их углубленного изучения; комиссия, изучив дело, представляла доклад на общем заседании.
Покончив с регламентом, обе палаты уведомили короля. Палата депутатов, бывший Законодательный корпус, представила пять кандидатов, из которых король, согласно хартии, должен был выбрать председателя. Король выбрал Ленэ, собравшего наибольшее количество голосов благодаря высокому таланту, серьезному нраву и той роли, которую он сыграл в декабре, когда в качестве докладчика Законодательного корпуса возбудил сильнейший гнев Наполеона. Палата депутатов незамедлительно приступила к работе.
Узнав, что с регламентом покончено, и чувствуя, что многие их необдуманные действия найдут в палатах суровых критиков, министры задумалось о том, какой линии поведения следует придерживаться. Монтескью посоветовал соблюдать крайнюю сдержанность, предлагать на рассмотрение немногое, по возможности уклоняться от инициатив законодателей, а после одобрения бюджета и системы финансов отпустить их, дабы предоставить отдых им и отдохнуть самим. Он основывался на ложном, но весьма распространенном мнении, что за неимением средств патронажа, как, например, в Англии, невозможно управлять палатами с легкостью, а потому при недостаточной силе следует соблюдать осторожность.
Палатам предстояло проявить себя весьма живо. Едва начала работать палата депутатов, как предложения посыпались одно за другим. Депутат из Эльзаса Дюрбах, человек, лишенный личных амбиций, но воодушевленный весьма пылкими чувствами и много общавшийся с деятелями Революции, выступил против королевского ордонанса, помещавшего деятельность прессы под имперский регламент, как противоречившего духу хартии. Он заявил, что, поскольку хартия обещала свободу прессы, оставление ежедневной прессы под властью цензоров не соответствует ни ее букве, ни духу. И действительно, газеты и брошюры подлежали предварительной проверке, которая, правда, осуществлялась весьма бережно, ибо возглавлял департамент печати знаменитый Ройе-Коллар, профессор философии, призванный стать одним из выдающихся деятелей того времени, решительный сторонник Бурбонов, но гордый и независимый человек с либеральными взглядами. Он не стал бы, разумеется, прикрывать своим именем тираническую цензуру. Однако она существовала: директор полиции вызывал к себе главных редакторов газет и давал им рекомендации, призывая соблюдать меру, что, впрочем, не мешало вести самые разнузданные речи роялистским листкам. Дюрбах изобличил ордонанс о прессе в непривычно грубых выражениях, в результате чего его предложения были отвергнуты. Но несколько дней спустя депутат Фор по желанию значительной части палаты представил новое предложение о прессе: он просил короля подготовить закон об осуществлении права печати. Это значило достаточно ясно показать, что ордонанс, вновь помещавший прессу под надзор цензуры, сочтен палатами незаконным. Предложение Фора было вотировано единогласно.
Быстрота, с какой депутаты занялись вопросами, занимавшими внимание общества, доказала вскоре, как заблуждалось правительство, полагая, что будет легко отмерить палатам участие в делах, и довольно, к примеру, некоторой сдержанности, чтобы держать их на расстоянии. Стало очевидно, что предложение о новом законе будет возобновляться бесконечно, будет принято палатой пэров и неумолимо дойдет до подножия трона.
Король созвал по этому случаю совет и заявил на заседании: «Первое предложение было отвергнуто, потому что Дюрбах рвал и метал, но второе предложение, изложенное в умеренных тонах, было принято единогласно. И потому мы должны сдаться добровольно, если не хотим, чтобы нас заставили». К весьма разумному мнению короля прислушались. К тому же имелся весьма подходящий способ решить дело: узаконить существующий режим. Режим этот был режимом Империи: он подвергал книги цензуре, а газеты отдавал под надзор полиции, которая в правление Наполеона не терзала прессу за ее незначительностью. Между тем, когда после падения Империи страсти пробудились и газеты, бывшие их ежедневным выражением, обрели былую значимость, полиции приходилось уделять им куда больше внимания. Она безуспешно старалась усмирить роялистскую прессу, снисходительно обращалась с еще робкой либеральной прессой, но в обоих случаях ей приходилось часто вмешиваться, и эта необходимость постоянного вмешательства стала неудобной и почти невыносимой.
Монтескью, составлявший проект закона, взял за основу имперские постановления. Он установил разделение между книгами, с одной стороны, и газетами и брошюрами – с другой. В качестве разделителя он прибег к объему сочинений и принял за предел, их разделявший, объем в 30 печатных листов (480 страниц в 1/8 долю листа). Сочинение такого объема считалось книгой и освобождалось от предварительной проверки по причине наличия более серьезных и менее многочисленных читателей, которым адресовалось. Остальные сочинения, периодические и непериодические, подлежали предварительной проверке цензурой и задерживались, если выявлялось, что их немедленное обнародование несвоевременно. Дабы смягчить строгость предварительной проверки, обозначили, что запрет на публикацию будет временным и по открытии каждой сессии комиссия из трех пэров и трех депутатов будет изучать правильность такой проверки. Такое смягчение ничего не стоило, ибо для газет и брошюр отсрочка в несколько месяцев была равнозначна полному запрету. Типографы подвергались административному надзору и в случае выявления нарушений лишались патента, что их самих превращало в предварительных цензоров.
Закон не столкнулся бы с серьезными трудностями, если бы был объявлен временным и необходимым в силу обстоятельств, одновременно новых и сложных. Но желание учредить цензуру в качестве фундаментального закона становилось дерзким притязанием, о каком мог помыслить только самонадеянный аббат Монтескью. Он возомнил, что преуспеет, и получил разрешение представить проект закона.
Монтескью отнес проект в палату депутатов, которая тотчас отослала его на комиссию. Комиссия изучила закон и не проявила к нему благосклонности. Был в комиссии человек преклонного возраста, живой, остроумный, добросовестный, смелый и пользовавшийся блестящей литературной славой, то был Ренуар[5]5
Франсуа Жюст Мари Ренуар (1761–1836) – французский драматург и филолог, член Академии. – Прим. ред.
[Закрыть]. Он имел на комиссию большое влияние и предложил отвергнуть проект закона. Несколько членов комиссии, признав его правоту, но опасаясь нанести правительству слишком тяжкое поражение, предложили сделать то, что министерство должно было сделать само, то есть признать, что свобода прессы в принципе хартией гарантируется, но в силу обстоятельств принимается решение о временной ее приостановке. Ренуар не удовлетворился подобной уступкой, настоял на своем предложении, добился полного непринятия закона перевесом в один голос и был назначен докладчиком по этому решению. Меньшинство, в свою очередь, предложило принять закон с тремя следующими поправками: 1) для освобождения от предварительной проверки достаточно, чтобы сочинение имело объем в 20, а не в 30 листов; 2) цензура будет существовать только до конца 1816 года; 3) мнения членов обеих палат не подлежат цензуре.
В тот день, когда Ренуар представлял свой доклад, во дворце, где заседали палаты, собралась многочисленная публика. Никогда еще к заседаниям Законодательного корпуса не испытывали подобного интереса. Доклад Ренуара выслушали с огромным вниманием, и вечером в Париже не было другой темы для разговоров.
Примирительное по своей природе большинство палаты, не желая опровергать большинство комиссии, но и не решаясь наносить монархии поражение при обсуждении первого же закона, видимым образом склонялось к мнению меньшинства комиссии.
Об этом и объявили все друзья правительства министрам, которые осведомили об этом короля. Два года цензуры были, в конце концов, довольно большим ресурсом и представляли в наш бурный век довольно длительный промежуток времени. Кроме того, это была своего рода сделка, избавлявшая правительство от поражения. Король проявил умеренность и принял предложенные меньшинством комиссии поправки. После пятидневной дискуссии Монтескью взял слово и начал с того, что объявил о согласии короля на поправки, затем заявил, что правительство хочет свободы, но просит некоторой осторожности в способе наделения ею, и закончил тем, что привел достаточно благовидные доводы в пользу введения временной цензуры. Проект с поправками был принят 137 голосами против 80 при 217 голосовавших и тем самым получил большинство с перевесом в 57 голосов.
Результат удовлетворил всех. Свободу прессы удалось спасти: ее приостановление было временным и оправдывалось обстоятельствами. Независимое большинство, не желавшее ни ослаблять власть, ни жертвовать свободой, заявило о себе. Власть сдержали, но не унизили. Партии отвели взгляд от своих кровоточащих ран, перенесли его на всеобщие интересы, и сразу начало зарождаться доверие к справедливому, твердому и независимому арбитру, который станет служить посредником и приводить споры к сделкам, а не к сражениям.
За вотированием по закону о прессе последовали несколько других, в том же духе, что вызвало некоторое успокоение в обществе, к сожалению, недолгое.
Два известных члена адвокатской коллегии, Дар и Фальконе, преданные делу эмиграции, выступили против сохранения так называемых национальных торгов. В своих сочинениях, составленных с крайней резкостью выражений и юридической изворотливостью, они утверждали, что король может объявить бесповоротными только законные продажи, но почти ни одна из продаж не была осуществлена с соблюдением закона. Обе брошюры раскрывали уловку эмиграции: они принуждали новых владельцев отчужденного имущества к индивидуальным сделкам, заставляя их из страха вернуть его за бесценок прежним владельцам. Эмиграция встретила эти сочинения с восторгом, основная масса публики – с тревогой, а заинтересованные лица – с гневом, и в палаты посыпались многочисленные петиции. Палата депутатов, призванная высказаться первой, объявила все посягательства на нерушимость государственных продаж ничтожными и недействительными и единогласно принятой резолюцией выказала полную решимость и дальше внушать почтение к соответствующей статье хартии. О многочисленных запросах по этому важному предмету доложили министрам, и директору полиции пришлось арестовать Дара и Фальконе и отдать их под суд по обвинению в нарушении общественного спокойствия и в возбуждении вражды между различными классами граждан.
Почти тотчас после этого дела палате депутатов для рассмотрения были предложены финансовые вопросы, что представило ей новый случай проявить твердость, справедливость и компетентность.
Королевский совет непрестанно требовал, чтобы барон Луи представил бюджет и сообщил о комбинациях, посредством которых он надеялся покрыть государственные расходы. Бесстрашный министр представил бюджет и свою систему, как только его коллеги вручили ему таблицу нужд. Прежде всего он отказался увеличить бюджет двух наиболее дорогостоящих министерств и ограничил расходы военного управления 200 миллионами, а военно-морского управления – 51 миллионом. Только в этом пункте он и был неправ, и лучше уж было столкнуться с сопротивлением парламента, чем принуждать себя к заведомо недостаточной цифре, ибо это значило скомпрометировать и могущество государства, и популярность династии в армии. Речь шла, правда, только о бюджете 1815 года, в то время как бюджет текущего 1814 года оставался открытым для всех непредвиденных нужд. Как бы то ни было, министр финансов выказал непреклонность и сохранил предельные суммы расходов двух больших министерств. Он снизил жалованье дипломатов; сократил расходы министерства внутренних дел до уровня, строго необходимого для содержания дорог; но выделил чрезмерную сумму в 33 миллиона на цивильный лист, объясняя ее расходами на Военный дом и благотворительностью принцев в отношении их старых товарищей по несчастью. Весь бюджет 1815 года определялся цифрой в 618 миллионов, без учета расходов на сбор налогов. В эти 618 миллионов входили 70 миллионов задолженности, то есть невыплаченная часть государственных расходов 1813 и 1814 годов, включавшая солдатское жалованье и продовольствие и обмундирование для войск, которые могло быть оплачено только наличными деньгами.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































