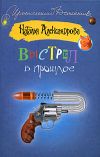Текст книги "Время несбывшихся надежд"
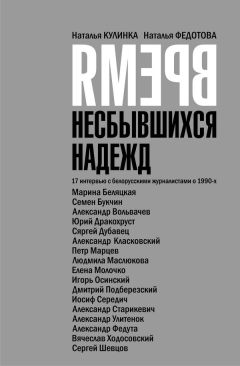
Автор книги: Людмила Рублевская
Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Што ў беларускай журналістыцы прыйшло на зьмену савецкай школе?
С. Д.: Сёньня ў Беларусі дзьве журналістыкі – дзяржаўная і недзяржаўная. Дзяржаўная мае негалосны сьпіс тэм, фактаў і асобаў, пра якія пісаць або нельга, або можна толькі ў пэўным ацэначным ключы. Напрыклад, нельга крытычна пісаць пра прэзыдэнта. Хаця няма ніводнага прэцэдэнту, затое ёсьць шмат прыкладаў, калі толькі за намёк на крытыку сыстэмы (пра прэзыдэнта няма й гаворкі) папулярныя журналісты мусілі пакінуць месца працы. Узяць хоць бы такіх тэлезорак, як Павал Шарамет ці Сяргей Дарафееў. Па сутнасьці гэта тая ж савецкая журналістыка, толькі пазбаўленая эзопавай мовы і прыпудраная пад сучасныя модныя павевы. У ёй начыста адсутнічае грамадзянская пазыцыя. За савецкім часам журналістыка прываблівала менавіта тым, што можна прачытаць між радкоў. У Беларусі ў гэтым сэнсе вылучалася газэта «Літаратура і Мастацтва». Асабліва цаніла публіка аўтараў – майстроў эзопавай мовы. Сёньня «ЛіМ» нібыта і не зьмяніўся, але зьнікла эзопава мова. Яна трансфармавалася ў адкрытыя тэксты недзяржаўных мэдыяў. А «ЛіМ» цяпер выглядае кандовым выданьнем з абсалютным узроўнем самацэнзуры. Тое самае тычыцца і іншых дзяржаўных СМІ, аўтары якіх не выклікаюць даверу. Плюс трэба сказаць пра існаваньне галосных ці негалосных чорных сьпісаў «аўтараў і выканаўцаў» – журналістаў, літаратараў, мастакоў, музыкаў і цэлых творчых калектываў, якіх дзяржаўным выданьням забаронена нават упамінаць. Скажам, калі ў дзяржаўным выдавецтве «Мастацкая літаратура» выходзіў том выбраных твораў Альбэра Камю з маёй прадмовай, я мусіў падпісаць прадмову псэўданімам, інакш бы яна ня выйшла. У канцы 1970-х гадоў мне давялося праходзіць тэрміновую службу ў дывізійных газэтах у Вільні і ў Менску. Наша рэдакцыя атрымлівала такія самыя дывізійныя газэты з Сыктыўкару і яшчэ нейкіх моцна аддаленых вайсковых акругаў. Мы бралі адтуль занатоўкі, партрэтныя нарысы, перадавіцы да зьездаў КПСС, ішлі ў казармы і шукалі там сытуацыі, факты і людзей, якія адпавядалі тым, пра якіх пісала сыктыўкарская газэта, замянялі зьвесткі, рабілі свае фатаграфіі і такім чынам ляпілі свой нумар. Тэкставая «маса» выкарыстоўвалася як трафарэт. Калі артыкул прысьвячаўся дружбе народаў, было зусім нескладана падставіць прозьвішчы сваіх узьбека, грузіна і эстонца на месца сыктыўкарскіх. Тое самае рабілі ў Сыктыўкары і па ўсім Саюзе. Ніякіх адхіленьняў ад савецкага канцылярыту, ніякіх намёкаў не дапускалася. Такая была журналістыка. Я часта згадваю яе, калі чытаю сёньняшнія дзяржаўныя газэты, зробленыя нібы пад капірку. Недзяржаўныя мэдыі імкнуцца адпавядаць павевам часу і выжываць сярод іншых. Асабліва гэта відаць у інтэрнэце, бо ў жыцьці рэальнага рынку СМІ ў Беларусі не існуе. Дзяржава-манапаліст праз сваю сыстэму распаўсюду рэгулюе наклады недзяржаўнае прэсы. Скажам, большая колькасьць папросту не бярэцца ў продаж. Таму свае рэйтынгі недзяржаўныя мэдыі набіраюць у інтэрнэце, дзе дзяржаўныя сайты ніколі не складалі ім канкурэнцыі. Барацьбу за рэйтынг у сеціве выйграюць яркія загалоўкі, вострыя тэмы, добрыя ілюстрацыі і папулярныя аўтары. На маю думку, гэта і ёсьць сучасная беларуская журналістыка.
У 1990-я ў краіну прыяжджалі заходнія журналісты праводзіць трэнінгі зь мясцовымі калегамі, вучыць іх заходнім прыёмам працы зь інфармацыяй. Ці былі Вы на такіх трэнінгах? Як Вы думаеце, далі яны штосьці беларускім журналістам і журналістыцы?
С. Д.: Мне думаецца, тут можа быць толькі «тэхнічная» падтрымка. Скажам, прынцыпы падачы кантэнту сайтаў, праца з камэнтарамі, праца з новым абсталяваньнем і праграмамі. Што да журналісцкае «клясыкі» – выбар тэмы, стылістыка тэксту, усялякія балянсы – тут ніхто з Захаду нас не навучыць лепш за нашых настаўнікаў. Тым больш што цяпер кантэнт заходніх мэдыяў цалкам даступны ў інтэрнэце. Спробы такіх трэнінгаў часта выглядаюць сьмешна. Я згадваю, як швэдзкая журналістка рабіла агляд адной беларускай газэты. Асноўны закід быў такі – у газэце ня вытрыманы гендарны балянс: на здымках ува ўсім нумары яна налічыла 12 мужчын і толькі 7 жанчын. Раззлаваны рэдактар у наступны нумар паставіў фота Сыльвіё Бэрлюсконі ў атачэньні 8-мі прастытутак. Каму карысьць ад такіх трэнінгаў? Цяпер мы шмат чытаем заходняе прэсы, натуральна, нешта пераймаючы адтуль. Дык што тычыцца ўласна пісьма, гэта, на маю думку, і ёсьць найлепшы трэнінг.
А каго з нашых настаўнікаў Вы маглі б згадаць?
С. Д.: Магу казаць толькі пра сваіх уласных настаўнікаў рамяства. Гэта былі Генадзь Бубнаў і Ала Сямёнава ў часопісе «Нёман». На практыцы я засвоіў два простыя, на першы погляд, пастулаты. Як аўтар, ты мусіш дбаць, каб тое, што ты сказаў, успрымалася іншымі так, як ты пра гэта падумаў. Абсалютна дакладна і менавіта так. Ніякіх «пашыральных» сэнсаў і тлумачэньняў быць не павінна. Як рэдактар, ты мусіш усе праўкі чыйгосьці тэксту рабіць са згоды таго кагосьці. Пераканай аўтара. Ня можаш? Ня праў.
У артыкуле «Навiны рэдакцыi» («Свабода», № 28, ліпень 1994) Вы пішаце пра адсутнасьць адзінства сярод беларускай інтэлігенцыі і Ваша мова мэтафарычная: «…наша Мова сёньня – гэта лiтаральнае адлюстраваньне таго блытанага дабразла, якое пануе ў галовах народу i творцаў. Гавораць i пiшуць наркомаўкай, тарашкевiцай, трасянкай, лацiнкай, богвед’якоўкай i кожны думае пра сваё…» Як Вы вучыліся валодаць моваю?
С. Д.: Журналістыка, прынамсі тая, дзе прысутнічае апісаньне, аналіз і аўтарская пазыцыя, мусіць усьведамляцца як жанр літаратуры. Без натхненьня нічога цікавага ў такім жанры не напішаш. У тэксьце абавязкова павінен прысутнічаць парадокс або інтрыга. Дапусьцім, я спрабую даказаць нейкую думку. І пачынаю я з абвяржэньня сябе самога, бо ня можа быць больш заўзятага праціўніка маёй думкі, чым я сам. Калі ж мне ўдаецца абвергнуць самога сябе, дык мая думка будзе гучаць пераканаўча. Трэба толькі яе сфармуляваць так, каб яна адразу даходзіла. А ўсё астатняе – справа тэхнікі. Найлепшы тэкст той, які пішацца ўвесь і адразу – фармулюецца думка. Затым можна шукаць інфармацыю, якой бракуе ці якую трэба ўдакладніць або спраўдзіць, цытаты… Хто вучыў пісаць? Так, бадай, і ня скажаш. Былі тыя, хто спрыяў. Бо тут напачатку важна заахвоціць, зрабіць разбор тэксту, пахваліць, параіць. Або так: на другім курсе журфаку я пайшоў у часопіс «Полымя» – прасіць заданьне. І Алесь Масарэнка сказаў: ідзі зрабі вялікае інтэрвію з Быкавым. Уяўляеце? Першы раз бачыць хлопца-студэнта і адпраўляе да сьвежасьпечанага ляўрэата Ленінскай прэміі, які быў на самым топе ў СССР, па канцэптуальнае інтэрвію… І я зрабіў. Дзеля Быкава інтэрвію шмат дзе перадрукавалі. Але я пытаўся ў Быкава пра тое, што хвалявала мяне самога. І гэта ёсьць выбар тэм: чаму гэта цікава, або чаму гэта важна, або ці хвалюе гэта цябе самога?
У артыкуле, які ўжо згадваўся («Сацыяльная арыентацыя»), ёсьць такія словы: «Між тым час спакваля ставіць усё на свае мейсцы, патрабуе беларускай нацыянальнай партыі сярэдняе клясы». Гэта значыць, што дэмакратыя, за якую змагаліся, – клясавы праект? Як Вы прыйшлі да гэтай высновы ў 1994-м годзе і што Вы думаеце пра гэта цяпер?
С. Д.: Дэмакратыя магчымая толькі на каштоўнасьцях ідэнтычнасьці. Я кажу: «Хачу свабоды». А хто я такі? Хто хоча свабоды? Гэта вельмі спэцыфічная справа. Бо мая свабода – гэта мая адказнасьць. Калі я адчуваю адказнасьць за сваю ідэнтычнасьць, за сваю краіну, нацыю, культуру, мову, значыць, зразумела, якая свабода (якое вызваленьне, вызваленьне чаго менавіта) патрэбная мне. Калі я ня маю ідэнтычнасьці, я ня маю і адказнасьці, і свабода ў маім разуменьні – толькі усёдазволенасьць. У сярэдняй клясы ёсьць каштоўнасьці – матэрыяльныя і маральныя. Менавіта яна на працягу вякоў зьберагала гэтыя маральныя каштоўнасьці – мову, культуру, краіну. Гэта самая адказная кляса ў грамадзтве. Але цяпер, паўтаруся, грамадзтва няма.
А як у гэты дэмакратычны праект сярэдняй клясы ўваходзяць ці не ўваходзяць рабочыя? І як гэты праект суадносіцца з сацыяльнаю справядлівасьцю?
С. Д.: Рабочых, у сэньсе пралетарыяту, сёньня як клясы, мабыць, і няма ўжо. Цяперашнім рабочым, «апроч ланцугоў», ёсьць што губляць. Гэта іх кваліфікацыя, гэта іх стандарты жыцьця, іх старонкі ў фэйсбуку, бабуліна кватэра, якую яны здаюць у арэнду, дачны ўчастак, дзе яны любяць корпацца ў зямлі… На рэальнай вытворчасьці проста не засталося такіх Паўлаў Уласавых з «адмарожанымі ў Сібіры мазгамі». Далейшы тэхнічны прагрэс менавіта рабочых найперш ператворыць у сярэднюю клясу (калі іх будзе ўсё менш, а іх кваліфікацыя будзе ўсё вышэйшая). Прынамсі ў Беларусі гэта выглядае на аб’ектыўную хаду разьвіцьця падзеяў. Іншая рэч – патэрналісцкая палітыка ўладаў усяляк стрымлівае рабочых ад таго, каб яны пачалі ўсьведамляць сябе сярэдняй клясай. Сацыяльная справядлівасьць, на маю думку, – ня прынцып, а працэс. Працэс збалянсоўваньня інтарэсаў. Нездарма на іншых мовах справядлівасьць гучыць як юстыцыя, а ў шмат якіх краінах існуюць міністэрствы юстыцыі, якія адказваюць за гэты самы балянс інтарэсаў. У сучасным сьвеце сацыяльная юстыцыя мусіць кіравацца законамі, якія і прымаюцца з улікам розных грамадзкіх інтарэсаў. Як правіла, у прававых дзяржавах так і адбываецца. Беларусь, на жаль, выпала з гэтага клюбу, страціўшы саму аснову справядлівасьці – прынцып падзелу ўлады. Тут, як у кепскай журналістыцы, няма «двух бакоў» па вызначэньні. І парлямэнт, і судзьдзяў, і кіраўніцтва СМІ фактычна прызначае і здымае з пасадаў прэзыдэнт.
Як Вы бачыце будучыню беларускай журналістыкі?
С. Д.: Будучыня журналістыкі зьвязаная з будучыняй краіны. Пры вяртаньні свабоднага рынку СМІ, перакананы, гэта будзе вельмі запатрабаваная журналістыка. Сотні журналістаў вернуцца з эміграцыі і створаць найлепшыя праекты на ТБ, на радыё, у друку. Адродзяцца ў розных выглядах закрытыя пры прэзыдэнце газэты «Свабода», «БДГ», «Имя»… У Беларусі зноў зьявяцца мэдыйныя пэрсанажы. Акажацца, што ў краіне жыве мноства цікавых і нават вялікіх людзей. Намалююцца прывабныя пэрспэктывы беларускай эканомікі, палітыкі, культуры… Пра ўсё гэта людзям раскажуць СМІ, у доўгім сьпісе якіх дзяржаўныя прайграюць канкурэнцыю і перастануць існаваць. А адказаў на пытаньні «Якім будзе беларускае грамадзтва?» і «Якое месца ў ім будзе займаць беларуская мова?» няма дагэтуль. Горш за тое, у параўнаньні з 1994-м годам мы ад гэтых адказаў толькі аддаліліся. У Беларусі сёньня няма грамадзтва як сацыяльнага арганізму. Людзі абсалютна атамізаваныя. Гэта сьвядомая палітыка кіраўніцтва на застрашваньне насельніцтва ад саміх тэмаў нефармальнай кансалідацыі, салідарнасьці, супольнага волевыяўленьня. На дварэ 1970-я гады. Няма сацыялёгіі, якая была б вартая даверу. Няма палітыкі па-за афіцыёзам, яна ператварылася ў дысэнт. У 1994-м стаяла пытаньне, якім шляхам ісьці незалежнаму беларускаму грамадзтву, якое паўставала на нашых вачах і на базе нефармальных рухаў позьнесавецкага часу. Цяпер стаіць пытаньне ўзьнікненьня саміх гэтых рухаў – ужо ў новых пакаленьнях. Я прапанаваў усім, хто тут жывы, перайсьці на беларускую мову. Па-першае, гэта магутны сродак кансалідацыі; па-другое, гэта рэальная праца; па-трэцяе, гэта адрозьніць парасткі грамадзтва ад правінцыйнага насельніцтва; па-чацьвёртае, гэта аддзеліць дэмакратычна арыентаваных ад тых, хто падтрымвае аўтарытарную ўладу, і ад самой гэтай улады. Пытаньне сацыяльнай арыентацыі адкладаецца да новага 1994-га году.
Александр Класковский
В годы перестройки Александр Класковский редактировал всесоюзный журнал «Парус» с тиражом миллион экземпляров. Позже возглавлял белорусскую газету «Знамя юности», которая на пике популярности расходилась сотнями тысяч по всей территории Советского Союза. Он гордится тем, что в начале 2000-х помогал «раскручивать» сайт газеты «Наша Ніва» и проработал четыре года блогером. В 2008-м в числе блогеров из стран, политический режим в которых принято называть «диктаторским», он был приглашен в Белый дом на встречу с Джорджем Бушем.
Журналистику Класковский определяет как ремесло нервное, многотрудное и неблагодарное, как профессию повышенного риска. Чтобы сделать материал «в десятку», нужно работать 24 часа в сутки. К его мнению принято прислушиваться – Александр Владимирович один из авторитетных медиаэкспертов в Беларуси.
Свой приход в журналистскую профессию Класковский объясняет «тягой к литературному самовыражению». Говорит, когда был студентом, на него сильнейшее впечатление произвела книга Норы Галь «Слово живое и мертвое». Пересмотрел все свои материалы – сплошные штампы и канцеляризмы, и понял: «надо писать по-другому, нормальным языком». Годы работы в профессии позволили осознать еще одну истину: кроме литературного умения писать тексты, журналистика неизбежно связана с ситуацией морального выбора. По словам Александра Класковского, «если ты хочешь писать так, как думаешь, неизбежно придется делать моральный выбор».
В советские годы этот выбор был связан с тем, рассуждает Класковский, что карьерный рост, как правило, был возможен только в направлении редакции партийного издания. Журналисты проходили определенный профессинальный путь и к годам 40–45-ти попадали в партийные издания. Одновременно происходило символическое изменение статуса журналиста. Работая в партийной газете, он переходил в разряд номенклатурных работников, которым полагался набор соответствующих благ – место в лечкомиссии, например. Попасть в систему льгот, которую дает политическая власть, для журналиста страшно. Потому что тогда ему уже не хочется рисковать, не хочется потерять уютное гнездо – появляется соглашательство, человек изменяет себе и принципам своей профессии. «Когда-то вначале были романтические представления о профессии, – вспоминает Александр Класковский. – Мы сидели, пили вино и мечтали, как будем сеять разумное, доброе, вечное. А потом этот же хороший парень, когда ему «сверху» сказали, печатает на меня грубый пасквиль. При встрече он будет шептать: «Старик, ну ты же понимаешь, у меня семья, дети…» Как будто у меня нет детей! Это жалкое зрелище».
Размышляя о журналистике, Александр Класковский соглашается с Альбером Камю, который как-то сказал, что негосударственная пресса может быть плохой или хорошей, но государственная пресса может быть только плохой. Не потому, что в государственных изданиях работают никудышные журналисты. Дело в другом – в том, что СМИ, которые подчинены чиновникам, все равно будут в прокрустовом ложе. «Про выставку рододендронов в Ботаническом саду можно написать так, что никто не придерется. Но если речь идет о политике, априори суждения возможны только «в русле генеральной линии», если говорить терминологией советских времен», – объясняет Александр Класковский и добавляет, что его главная идеология – быть профессионалом, поэтому он стремится быть равноудаленным от всех политических сил.
Александр Владимирович, с какими событиями связано для Вас начало 1990-х? Какие решения власти могли благоприятствовать развитию журналистики?
Александр Класковский: Сейчас в официальном дискурсе этот период связан с «разгулом националистов», но это не так. Потому что реальная власть принадлежала в основном премьеру Кебичу. Это был такой мягкий авторитаризм. Шушкевич был спикером и скорее фигурой символической. Верховный Совет тогда не являлся демократическим – там было лишь около 25 депутатов от оппозиции БНФ. Но поскольку они были активными, умелыми и действительно занимались политикой, то ставили на уши неповоротливое, инертное, консервативное большинство и могли проводить прогрессивные решения. Что касается журналистики, то в те годы сохранялась относительная постперестроечная свобода, сказывалось влияние демократов-романтиков, которые пробились во власть, но у них не было владения технологиями массовой коммуникации, они не понимали, что такое пиар, что такое СМИ. У них тоже было такое представление, что газета должна быть ведомственным органом. Это сидело где-то в подкорке. Кебич создал газету «Рэспубліка» специально как орган Совета Министров. Как опытный номенклатурный товарищ, он, а еще больше его окружение, действовали в плане контроля над прессой осознанно. Что касается Шушкевича и всех демократов, то из-за своего романтизма они просто упускали многие практические вещи. Будь они прагматичнее, вопрос демонополизации и разгосударствления СМИ был бы решен уже тогда. Я думаю, определенная неопытность и безалаберность демократической части политической элиты в начале 1990-х сыграла роковую роль. Прессу не отпустили на вольные хлеба просто потому, что это казалось вопросом второстепенным. Зачем, если «Народной газетой» и так рулит стихийный демократ Иосиф Середич? Если туда Зянон Пазьняк ногой открывает дверь и печатает там все, что хочет? Тогда казалось, пошла такая демократическая волна, что эти формальности – в чьем подчинении издание – не имеют значения. Но они стали значимыми, когда к власти пришел Лукашенко. Через какое-то время у него дошли руки до прессы, и он методично снял всех редакторов, потому что формально газеты оставались государственными. И он мог просто росчерком пера этих редакторов освободить от должности. История с белыми пятнами, когда в декабре 1994-го года президентскому окружению пришлось хирургическим методом убирать из номеров антикоррупционный доклад депутата Антончика, стала засечкой для руководства страны, что нужно назначать таких людей руководить прессой, которые в принципе не будут ставить в номер никаких крамольных, несогласованных материалов. Это было одной из промашек демократов в начале 1990-х в отношении прессы – то, что ее не выпустили из государственной конюшни.
Вы были главным редактором газеты «Знамя юности» в перестроечные годы, когда ее тираж превышал 700 тысяч экземпляров. Некоторые объясняют это тем, что издание позволяло себе «смелые и интересные вещи». По Вашему мнению, что обусловило такую фантастическую популярность газеты?
А. К.: В частности, тогда была всесоюзная подписка, и нас довольно много выписывали за пределами Беларуси. Но это был не главный фактор. Хотя мы считались второй по силе молодежной газетой в Союзе. Первая – это «Московский комсомолец», вторая – «Знамя юности», третья – латвийская «Советская молодежь». Эти три газеты гремели на весь Советский Союз. И подписывались на них независимо от географии. Но самыми главными, на мой взгляд, были другие два фактора. Первое – это молодой креативный коллектив, который тогда удалось создать. Второе – я бы сказал, доля гражданской смелости. В те перестроечные годы мы брали свободу де-факто. Никто ее не даровал. Не приходили из ЦК комсомола со словами: «Пишите, что хотите». Напротив, было сопротивление бюрократического материала. Но у нас был азарт его преодолевать. Хотя «Знамя юности» – это была комсомольская газета, но директивный элемент в подписке не использовался. Тогда никаких разнарядок не было. Просто газета была реально интересной, да и стоила дешево – три копейки, как стакан газировки. По утрам выстраивались очереди в киоски. Люди стоят, как за дефицитом, ругаются, что не хватит, и каждый набирает охапку газет. И среди них непременно «Знамя юности». Тогда за 20 копеек можно было купить охапку прессы, и люди читали запоем. Такой был уникальный перестроечный период. Вот такие слагаемые тиража…
Расскажите, как создавался молодой креативный коллектив газеты?
А. К.: Это молодежная газета, поэтому там всегда была сильная ротация. Ну а я просто сознательно набрал целую плеяду абсолютно молодых людей. В основном это были студенты, которые сами приходили в редакцию. Если они приносили сильные материалы, я тут же предлагал штатную работу, оклад, должность. Скажем, студента Алеся Липая [нынешний генеральный директор БелаПАН] я почти сразу назначил заведующим отделом информации. Плюс, поскольку он был молодым поэтом, дал ему вести тематическую страницу «Родны склон», которую мы учредили в русскоязычной «Знаменке». Именно на белорусском языке. Это был тоже фурор. Комсомол поворчал, но съел это хулиганство. Ныне известные журналисты Виталь Цыганков, Олег Груздилович – тоже из тех молодых людей, которых я взял в газету. Так постепенно складывался мощный молодой коллектив, нацеленный на творческое дерзание.
Как по-Вашему, дала ли атмосфера 1990-х иное представление о возможностях журналистики?
А. К.: За три-четыре года перестройки был колоссальный прогресс в развитии свободы слова, шла мощная динамика. В «Знамени юности» я начал работать в 1988-м, но ощутил это еще раньше, когда в 1986–1988-х годах был главным редактором журнала «Парус». В перестройку пошел тренд на децентрализацию, в том числе в области СМИ. Горбачев требовал нестандартных решений и делал ставку на молодые кадры. Так в 27 лет я стал редактором всесоюзного журнала «Парус», который издавался в Минске. У меня, конечно, был такой драйв – нужно было себя зарекомендовать, показать, поэтому идеи фонтанировали. Получился кумулятивный заряд креатива. Вся перестроечная атмосфера задавала такой пьянящий драйв. Журналисты почувствовали – можно делать то, что вчера было под запретом. Столько лет нас учили, как проводить в жизнь политику партии, а тут оказалось, что можно практически обо всем писать.
А как Вы как редактор ощущали границы дозволенного, чтобы не выходить за флажки?
А. К.: Мы сами расширяли границы дозволенного, в каждом новом номере де-факто отвоевывали новые тематические плацдармы. Продолжалась перестройка, Горбачев бросал все новые лозунги. Это страшно помогало, потому что Беларусь тогда, как ее назвал Алесь Адамович, была «Вандеей перестройки». То есть, местное республиканское руководство было очень консервативным. Секретари ЦК КПБ Соколов, Малофеев были ретроградами, они даже пытались в Москве на каких-то пленумах с критикой перестройки выступать… Но когда меня периодически вызывали «на ковер» в отдел пропаганды ЦК КПБ, где был такой грозный Савелий Павлов, с ним, представьте себе, можно было дискутировать! Я и другие редакторы говорили: «Вот Михаил Сергеевич сказал, свежий ветер перестройки, гласность! Нам надо смелее критиковать недостатки».
Мы словами Горбачева прикрывались, как щитом. У местной партийно-комсомольской бюрократии в связи с этим был когнитивный диссонанс и паралич воли. С одной стороны, они чувствовали: что-то не то, пахнет крамолой, так не должно быть, эта пресса выбивается из очерченных рамок. А с другой стороны, это ж Москва так говорит. Субординация перед Москвой тогда работала, и они не знали, как действовать. Паралич политической воли тем журналистам, кто хотел, у кого была смелость, позволял де-факто отвоевывать новые плацдармы гласности. В «Знамени юности» мы стали так цинично планировать. На этой неделе, допустим, пишем о проституции, на следующей – о дедовщине в армии, потом – про сталинские репрессии. То есть, мы постепенно приучали и читателя, и в какой-то степени номенклатуру, что на эти темы уже можно писать. Правда, доходило до анекдотических случаев. Когда газета писала о проблемах в армии, мне стали раз за разом приносить повестки на сборы. Причем в военкомате не скрывали, мол, раз такой умный, месяц в сапогах походи, поползай на пузе по полигону. Так я в запасе дослужился до капитана. Да, по мелочам отыгрывались, но по большому счету номенклатура побаивалась наезжать на газету. С точки зрения журналистов, кто хотел, тот брал себе свободу. Другое дело, что большинство редакций, из-за инертности самих журналистов, остались в привычном стойле. Но в «Знамени юности» был молодой коллектив. Хотелось еще дерзать.
Насколько сильным было вмешательство ЦК комсомола в информационную политику «Знамени юности»?
А. К.: Периодически и ЦК комсомола, и Главлит пытались, в их разумении, ставить на место. Правда, во время перестройки даже Главлит присмирел. Они, грубо говоря, поджали хвост. Когда газеты стали писать про зажим гласности, чиновники боялись засветиться. Я помню, была дама, начальница Главлита, которая звонила и начинала распекать скорее как сварливая мамаша: «Что вы себе думаете?! Распустились! Пишете такие вещи про Чернобыль!» Но она понимала: сними Главлит материал про последствия Чернобыля – назавтра депутаты от оппозиции БНФ будут с три буны кричать: «Ганьба! Бюракраты! Стагнаты! Партакраты! Зноў зацісканне галоснасці!» Поэтому я пропускал эти увещевания дамы мимо ушей, и мате риал выходил. И вообще гласность тогда творила страшные вещи. Чиновники были парализованы. Мы это чувствовали и про сто пользовались ситуацией, выжимая для себя максимум как журналисты.
Какие последствия для журналистики дала ситуация гласности?
А. К.: Мы вошли во вкус настоящей журналистики и поверили, что она действительно четвертая власть. Это немного кружило голову и бросало в патетичность, в субъективность. Крайностью того времени стало то, что журналистика была очень эмоциональной. В тот период мы почувствовали, что можем влиять, делать политику, даже делать депутатов, если хотите. В 1989-м году была крупная политическая кампания – выборы на Съезд народных депутатов СССР. Впервые шла реальная политическая борьба. От Беларуси баллотировался, в частности, молодой Александр Добровольский – и победил. И мы его пиарили в «Знамени юности». Тогда же стали депутатами Станислав Шушкевич, Василь Быков, с которыми редакция также контактировала. Эти имена придавали газете мощи, авторитета. Потом поддерживали Анатолия Лебедько, который весной 1990-го года шел от комсомола в Верховный Совет Беларуси, других молодых кандидатов. Тогда публикация в «Знамени юности» почти гарантировала депутатский мандат. При таком тираже – более 700 тысяч – не надо было никаких листовок, газета почти в каждый почтовый ящик попадала. То есть, журналисты делали политиков в то время. Депутата Грибанова мы так сделали. Он преподавал в военном училище, заелся с начальством, мы написали материал «Майор Грибанов не сдается». Думаю, отчасти, а может, и в первую очередь именно созданный газетой имидж помог ему получить депутатский мандат. Мы почувствовали, что газета может переворачивать умы людей, вообще менять ситуацию в стране. Понимали, что другого шанса исторического не будет. Сейчас делается история. Это было такое ощущение, что мороз по коже. Была такая махина-стра на. Мы видели, как подкашиваются ноги у этого колосса, как бы стро он рухнул. И мы ясно понимали, что можем сделать другую страну. Или сегодня, или никогда. Вот это еще придавало драйва.
Можно ли сказать, что опыт 1990-х мог стать основой для возникновения аналитической журналистики?
А. К.: Традиций аналитической журналистики не было в советское время, там была пропаганда. И потом, им неоткуда было взяться по той причине, что в перестроечное время доминировала авторская, очень эмоциональная журналистика. Такая мешанина журналистики, политики и пиара, которой надо было переболеть. Поскольку у нас не было политического класса, многие журналисты, особенно когда попадали в ореол известности, ощущали себя политиками, оракулами, трибунами. Помню, в «Знамени юности» пришлось ввести табу на новые авторские рубрики. На каком-то этапе газета превратилась, говоря современным языком, в набор блогов. Информационные жанры ушли на второй план, стали непрестижными. И вообще народ не умел писать объективную информацию. Понемногу я стал этот перекос исправлять, когда понял, что газета не может быть набором мнений политизированных людей. Она должна давать поток всесторонней информации, объективного анализа с разных точек зрения. Редакторство – это режиссура. Но режиссура умелая, по цивилизованным канонам журналистики. Не нужно изобретать велосипед, достаточно посмотреть на западный опыт, который культивируется столетиями. Там факты – это святое, и есть четкое разделение между фактом и комментарием. У нас этого не было тогда, почти нет и сейчас. Даже в заметке видна политическая линия издания.
Журналисту нужно выполнять свою миссию – информировать, анализировать и представлять весь спектр мнений. При этом никто не отнимает права на гражданскую позицию, но она должна проявляться в определенных жанрах. Не может быть объективного памфлета, например. Но заметка должна строиться по канонам информационного материала. В плане стандартов я – сторонник вестернизации журналистики, хотя американская журналистика, например, мне кажется слишком примитивной с точки зрения стиля. На мой взгляд, нам нельзя терять хорошую литературную школу, которая осталась с советских времен. Я против пластмассовой, компьютерной журналистики, где по готовому шаблону пишут материалы.
В 1992-м году Вы поехали в Париж и посетили редакции ведущих газет. С какими открытиями о журналистской профессии это связано для Вас?
А. К.: Поездка была для меня культурным потрясением, потому что приехал, скажем так, вчерашний «совок»… Помню, в одной из редакций я попросил французских коллег показать их государственную прессу. Они долго копались, искали и положили передо мной формата А4 бюллетень «La Lettre de Matignon». Такой сборничек постановлений правительства. И все. Конечно, теоретически я знал, что во Франции вся пресса негосударственная. Но для человека, который захватил такой приличный кусок советской эпохи и работал в советских СМИ, это было сильным профессиональным шоком. Второй шок был связан с тем, что там по сути нет корректуры, нет редакторского чтения, как у нас. В нашей системе было так: если ты рядовой журналист, над тобой есть корректура, редактор отдела, ответственный секретарь, замредактора, редактор. Такая многослойная, многоступенчатая система сложилась еще со сталинских времен, когда за ошибку могли расстрелять. На одного пишущего – десяток зорких глаз и проверяющих, которые должны вылизать текст, причем не столько грамматически и стилистически, сколько с точки зрения идеологии, чтобы не дай бог не закралась политическая ошибка.
Сегодня, насколько я знаю, по такому принципу продолжает работать государственная пресса. С одной стороны, это своеобразная идеологическая цензура, чтобы не проскочило чего-то крамольного с точки зрения властей. Но, с другой стороны, это размывание ответственности. Журналист зачастую пишет «левой ногой», мол, корректор вычитает, если что не так – вычеркнет. Он не отвечает за конечный продукт даже в смысле элементарной грамотности.
Александр Владимирович, расскажите, какие события спровоцировали Вашу отставку с редакторского поста?
А. К.: Весной 1991-го года нас, можно сказать, сбили на самом взлете. Когда мы раскрепостились, когда казалось, что точка невозврата пройдена в смысле журналистской свободы. Что комсомол уже не тот и не может нас удержать. Формально мы, однако, оставались изданием ЦК комсомола, и до поры до времени нам казалось, что это уже пустая вывеска. Но на излете Советского Союза пошло обострение конфликта между перестроечной частью элиты и ретроградами, которые хотели открутить ситуацию назад. Потом, как известно, это вылилось в путч, в ГКЧП. Но уже весной 1991-го номенклатура почувствовала, что дело пахнет керосином. Это было после павловского (по фамилии союзного премьера Павлова) повышения цен, 2 апреля 1991-го года, когда примерно в два раза подняли все цены. Рабочие пришли в столовую, раньше за рубль можно было пообедать, а теперь и в два не уложишься. И они повалили на улицы. Я попал в центр этого потока. На всю жизнь запоминаются такие эпизоды. Как только мы услышали, что на заводах начались волнения, поехали в район тракторного. А навстречу идет поток: угрюмые лица, промасленные робы, тяжелые башмаки. Мы попадаем в этот водоворот людской на редакционной машине, и мне становится не по себе. Я представил: сейчас, как жестянку, сплющат машину. Тем более что белая «Волга» была символом номенклатуры.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?