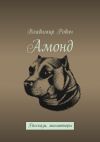Текст книги "Эпоха вечного лета"

Автор книги: Максим Савельев
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 11 страниц)
Позитивные негативы
Присаживаясь на перевёрнутое ведро, стряхивая с себя пыль и откашливаясь, я смотрю на улицу в небольшое замызганное оконце полуподвального помещения. Вижу ноги прохожих, идущих куда-то по своим делам. Среди строго наглаженных брюк и джинсов то и дело мелькают похожие на солнечных зайчиков белоснежные гольфики в изящных туфельках. Это шагают по улице школьницы, чей искренний восторг объясняется волнующим явлением природы: ВЕСНА! Многим, наверное, известно то головокружительное ощущение счастья, которое зарождается где-то внутри с первой мартовской капелью, затем просыпается, сладко потягиваясь, в апреле и, наконец, в мае – под запах грозы – вырывается наружу, взрываясь и искрясь на солнце каплями игристого, пьянящего чувства.
Я радуюсь за них и радуюсь вместе с ними, сидя в сыром подвале, собирая в мусорные пакеты ценное барахло, в течение долгих лет накапливаемое моими недалёкими предками. И если бы не это объявление, составленное в строгой, почти угрожающей форме, где «до 27 мая жильцам убедительно предлагается очистить подвальные помещения во избежание конфликтов между жильцами в связи с модернизацией подвальных помещений» (бред какой-то), я бы ни за какие коврижки не стал бы в эти весенние дни вдыхать пыль веков, перебирая полуистлевшие тряпочки и бумажечки. Но чего не сделаешь во имя модернизации и во избежание конфликтов!
Старые лыжи, пробитые кастрюли, кипы газет, прожжённые штаны, клюшки, поломанные утюги, швабры, фотоувеличители и десятки килограммов когда-то, наверное, приобретённых по блату, но уже испортившихся фотореактивов теперь носят характерное и смешное название – тряхомудия.
Уже почти четыре часа ощущая себя археологом, я рассуждаю сам с собой, злюсь и не могу найти ответ на таинственную загадку – почему сразу нельзя было всё это вынести на помойку, ё-моё?! Обливаясь потом, кряхтя и упираясь ногой в полочную стойку, я пытаюсь вытянуть остатки ламповой радиолы, но слышу треск и, чихая от пыли, уже лежу, заваленный коробками, мешками и старыми чемоданами.
Нелестно отзываясь о модернизации подвальных помещений, разгребая узлы и тюки, я пытаюсь присесть на чемодан, который трещит подо мной и разваливается, рассыпая вокруг меня всё содержимое. В треснутом шифоньерном зеркале я вижу своё отражение – взлохмаченного мужчину с физиономией только что закончившего смену шахтёра. Он улыбается мне, а я ему.
Желание поскорей уйти домой и принять душ куда-то пропадает, когда я вдруг обнаруживаю свои школьные тетрадки, дневники и альбомы для рисования, которые разбросал вокруг меня внезапно треснувший чемодан.
Не знаю, практикуется ли это сейчас в современных школах, но в моём дневнике среди прочих дисциплин отмечались оценками прилежание и поведение ученика – и даже выставлялись годовые отчёты.
Казалось бы, поведение и прилежание должны оцениваться как общие качества, ан нет. В моём, например, случае по поведению стояла тройка, а прилежание оценивалось аж на четыре балла. И мне всегда смешно представлялся школьник, ПОВЕДЕНИЕ которого просто ужасает – он вспыльчив, драчлив, подкладывает учителям кнопки на стул, отбирает у первоклашек булочки и кефир, он курит и нецензурно красноречив. Однако ПРИЛЕЖАНИЕ его оценивается на пятёрку – он идеально чист, выглажен, причёсан, опрятен. Его ботиночки блестят, воротничок светится белизной, а его маникюрные пальчики аккуратно раскладывают на парте школьные принадлежности, он любит учиться, он отличник!
Или напротив – всклокоченный, помятый, с вечно грязными руками ученик, у которого пахнет из ушей, который то и дело грызёт карандаши и подрисовывает ими же в учебниках усы, рога и фингалы великим деятелям науки и культуры. Он двоечник и лентяй. Но его идеальное ПОВЕДЕНИЕ приводит в неописуемый восторг всех окружающих – он вежлив, учтив, переводит через дорогу бабушек, он обходителен и уравновешен.
Мне даже страшно было себе представить такие противоречия в одном человеке. Однако строгая советская школа почему-то чётко разделяла эти две дисциплины. Вероятно, для того, чтобы заранее как-то определять будущих шизофреников и параноиков. Наверное, так!
Рассматривая свои дневники и тетрадки, я вспоминаю, как в третьем классе мне посчастливилось быть свидетелем истинного проявления высочайшего прилежания девочки, которая сидела со мной за одной партой… Таня… вся такая ухоженная, беленькая. С бантиками в косичках и рюшечками на запястьях. Два или три раза в течение учебного года все ученики начальных классов были обязаны проходить медосмотр, который в школе, собственно, и устраивался. Необходимо было приносить анализы, которые в жидком виде приносили в маленьких баночках из-под майонеза, и в спичечных коробочках, если дело касалось анализов относительно твёрдых видов. На баночку и коробочку наклеивались ярлычки с указанием данных владельца, после чего всё это хозяйство тщательно заворачивалось в газету и на большой перемене, по команде классного руководителя, сдавалось в медпункт лично в руки лаборанту дяде Павлику.
Услышав свою фамилию, зайдя в кабинет и распаковывая газетный свёрток, я меланхолично взирал на невысокий столик, уставленный баночками, содержащими обильное разнообразие всех солнечных оттенков, и коробочками с надписью «120 штук».
И тут моё внимание привлекла одна баночка, обёрнутая в блестящую цветную бумагу с розовой, завязанной бантиком тесёмочкой, и такая же коробочка, оформленная словно новогодний подарок, с нарисованными сердечками и цветочками. На ней, написанная разноцветными фломастерами (каждая буква другим), красовалась фамилия моей соседки по парте. Объяснялось ли это избытком её прилежания или желанием быть очаровательно-загадочной, не знаю, но на меня это не произвело особого впечатления. Однако мой школьный друг Ваня Кошкин после уроков признался мне, что влюблён в эту девочку, как он выразился, «навсегда и БЕЗОТВРАТНО». Все мои доводы, что в блестящей коробочке лежит отнюдь не мармелад и не монпансье и что она просто дура, были напрасны и бессмысленны. Он любил и страдал!
А эта девочка стала основоположницей новой моды, потому как с тех пор все дети, даже включая самых неприлежных, начали усердно оформлять свои баночки и коробочки. С каким-то азартным ажиотажем проявлялось это народное творчество. Стали даже определяться стили и темы этого нового искусства, делая тем самым чуть прекраснее и веселее серые будни нашего лаборанта дяди Павлика.
Из-за всех этих воспоминаний мне делается весело и легко, и я даже не замечаю, как подвальное помещение постепенно принимает опрятный вид. Я распихиваю по мешкам почиканые молью предметы гардероба и присаживаюсь перекурить. Листаю свой школьный дневник, в котором красной пастой (с тремя восклицательными знаками в конце предложения) моим родителям срочно предлагается посетить кабинет директора по причине моего вопиющего вранья.
И вновь!.. Начало мая. Полная грудь весны. Я оканчиваю шестой класс. В накрахмаленной рубашечке и отутюженных брючках собираюсь в школу на экзамен, который принимает представитель районо. Я очень взволнован, ответственен и намерен назло врагам сдать этот экзамен – ведь впереди яркое, зелёное, пахнущее костром моё долгожданное лето.
Я несусь по лестничной клетке, впопыхах забыв зашнуровать ботинок. Выбегаю во двор, наступив на шнурок, спотыкаюсь и приземляюсь в огромную грязную лужу… По щекам текут слёзы досады, и, размазывая их, я поднимаюсь домой. Переодеть штаны не представляется возможным, потому как оставшиеся две пары, замоченные ещё со вчерашнего вечера, лежат в тазу.
– Не беда, – говорит дедушка. Уходит и возвращается через пять минут, держа в руках какое-то подобие штанов булыжно-оранжевого цвета.
– Одевай без разговоров! Экзамены – дело сурьёзное! – строго говорит дед.
– Да как же… они же… я же… – лепечу я в растерянности.
– Не рассуждать! – командует дед. – Отличные штаны! Не с голой ведь ж… Марш в школу!
Не имея времени дискутировать, я ныряю в эти штаны – и, о Боже! Это ведь кавалерийские галифе с кожаной вставкой, причём взрослые, но ушитые и подрубленные. Когда-то давно бабушка перешила их на моего дядю, который был тогда моего возраста. И вот теперь они достались мне.
По причине важности экзамена, уже опаздывая, бегу что есть сил, ловя на себе удивлённые взгляды прохожих. «Чихать! – повторяю я про себя. – Хорошие военные штаны. Я ж не с голой ж…»
В коридоре ни души. «Тихо, идёт экзамен!». Я робко стучу в дверь, захожу в класс. На доске мелом обозначена тема изложения: «Жизнь прекрасна!». За столом рядом с нашим учителем сидит пожилой строгий мужчина в огромных роговых очках, и по его сжатым в куриную гузку губам и маленьким глазкам сразу становится понятно, что жизнь представителей районо отнюдь не прекрасна.
Неловкая пауза, и… хохот. Истерический смех всего класса заставляет содрогнуться стены родной школы. Да что и говорить, я сам, наверное, помер бы со смеху, увидев такое чудище – в пиджачке, белой рубашечке, с пионерским галстуком и в нелепых по цвету и форме штанах-шарах, название которых к тому времени архаизмом изредка встречалось где-то в учебниках истории.
– Тихо! Тихо! – кричит представитель районо. – Это же… э-э-э…
– Савельев! – называю я свою фамилию.
– Вот именно! – говорит строгий мужчина. – Савельев. Что тут смешного? Человек обучается навыкам верховой езды. И, между прочим, они с моим внуком вместе посещают училище имени товарища Будённого. Просто у них сегодня тоже экзамен, и он не успел переодеться. Так ведь?
– Угу, – обалдело отвечаю я.
– Молодец, Савельев. Проходи на место.
«Вот это да-а-а… – думаю я, гордо шагая к своей парте. – Мировой мужик!»
Всё прошло как нельзя лучше – экзамен я сдал на четвёрку. Но с того дня стал иметь особый авторитет среди школьных товарищей, рассказывая им о породах лошадей, о различных видах конной езды, нагайках и шашках, черпая всю эту информацию в Большой советской энциклопедии. Да что говорить, я специально опаздывал на уроки, забегая перед этим в туалет и переодеваясь в галифе. А иногда вообще прогуливал школу, сообщая на следующий день классному руководителю: мол, извините, никак не мог, вчера весь день осваивали разновидность турецкого галопа, знаете ли. Короче, врал как сивый мерин. Сам товарищ Будённый Семен Михайлович моим выдумкам, наверное, позавидовал бы.
Не помню, как уж там меня потом разоблачили, отняв галифе, но почувствовать себя на коне мне удалось. И это было здорово. Обидно только, что меня уличили во лжи, а ведь не я затеял всё это вранье.
Вот так, предаваясь воспоминаниям, словно заново переживая моменты моего беззаботного времени, я незаметно подготовил своё подвальное помещение к достойной модернизации. Ненужное барахло собрал в мешки и вынес на помойку.
Тетради и прочий школьный архив я оставил и сложил в коробку. Пусть она хранит в себе негативы таких наивных и позитивных детских кадров, к которым подходит теперь только один, увы, фотоувеличитель – наша память.
Алгебра
Дни моего школьного отрочества протекали, как и подобало им по природе, сообразно времени, и лишь временно своеобразно переходили в период каникул. Но вновь наступал сентябрь, и опять длинной вереницей тянулись дни, облачённые в серые ризы обязательной школьной программы. Учился я неплохо и даже имел одну годовую пятёрку (по пению). Твёрдая четвёрка обозначалась у меня по истории, географии, анатомии, астрономии, литературе и русскому языку.
Однако были предметы, при упоминании которых я вздрагивал даже во сне… Геометрия, физика, а особенно алгебра травмировали мою детскую душу и, как тогда казалось, сводили меня в могилу. Самая страшная реальность, которую мне прочили эти проклятые дисциплины, – это перспектива остаться на второй год. На второй год! О боги Олимпа! Возможно ли вынести подобный позор?! Не знаю, что происходило со мной на этих уроках, но я смотрел на цифры, формулы и вычисления подобно барану. Я решительно не мог проникнуться полезностью и сутью всего этого «тифозного бреда» (да простят меня физики-математики). Вычислять я умел, знал таблицу умножения, делил и умножал, понимал процентное соотношение, но прочий гранит этих наук, мягко говоря, вызывал лёгкую изжогу. В один из вечеров, в аккурат перед зимними каникулами, в комнату, где я в раздумьях проводил унылый досуг, вошёл дед и решительным тоном сообщил, что все каникулы ежедневно я буду обязан посещать репетитора по математике, а ежели не исправлю колы и двойки, то, оставшись на второй год, обрушу неслыханный позор на наше благородное семейство, и уже не будет мне ни прощения, ни оправдания. На мою попытку что-либо возразить дед громогласно зарычал: «Не рассуждать!» – и, ударив о стол огромным кулачищем, вышел из комнаты. Картины, воображаемые мной, были настолько ярки и реалистичны, что слёзы досады и душевной муки поползли по моим прыщавым щекам. Мне представлялись мои родные, узнавшие позорную весть, рыдающими и рвущими на себе волосы. Почему-то мне отчётливо представлялся дед, одной рукой посыпающий пеплом свою седую голову, другой указывающий мне на дверь. Бр-р-р – жуткие картинки… Конечно, я догадывался, что это бабушка науськала деда в плане репетитора, а против деда никуда не попрёшь… Это вам не бабушка, которую можно вводить в заблуждение надуманными мигренями и поносами. Если дед сказал, то всё! Аминь!
Отгремели новогодние салюты, начались школьные ёлки… И вот они – долгожданные зимние каникулы. Благо что зловредный репетитор проживал в соседнем дворе, и к нему не надо было переть на автобусе или трамвае. В тот момент лишь это меня и радовало. Дед выдал мне бумажку с адресом, три рубля на оплату урока и, сообщив, что репетитора зовут Наталья Николаевна, «на подвиг меня вдохновил». Я тихо плёлся через шумный двор, в котором кипела жизнь. Мои ровесники строили крепости, играли в снежки. Парни постарше заливали коробку для игры в хоккей, и мне казалось, что ясный морозный день насмехается надо мной, переливаясь и играя на солнце блестящими колючими снежинками. Я шёл, представляя себе морщинистую старую грымзу в роговых очках, с нервным тиком левого глаза, которая теперь ежедневно, нудно и противно будет впихивать в меня эту проклятую математику, а я волей-неволей во имя семейной чести должен буду усваивать и переваривать весь этот маразм. Томимый такими мыслями, не заметив, как зашёл в подъезд, я отыскал нужную квартиру. Звонок в дверь отозвался весёлой трелью соловья и эхом в подъезде.
– Открыто, – услышал я женский голос. Я вошёл.
– Ты Максим? – спросил голос.
– Д-да… я вот тут насчёт математики.
– Да, бабушка мне звонила. Давай разувайся, обувай тапочки и проходи сюда, на кухню.
Весь какой-то удручённый, съёжившийся, я побрёл на голос. На кухне у духового шкафа спиной ко мне стояла женщина. Вдруг она резко обернулась. Улыбнулась и, увидев меня, приятным голосом защебетала:
– Привет. Садись за стол, не стесняйся. Я тут шарлотку поставила, боюсь, подгорит. Ф-ф-ф… Ай! – резко вскрикнула она и схватилась за мочку уха. Закрыв духовку, протерев полотенцем свои пальцы, она присела напротив.
– Ну, и какие у нас проблемы? – весело спросила она, поправляя упавший на лицо светло-каштановый локон.
– Да вот, знаете… – И я стал рассказывать ей о всех своих бедах в плане алгебры и геометрии. Помню, я говорил ей что-то, но это было словно под гипнозом. Я не мог оторвать от неё своего взгляда!
На вид Наталье Николаевне было лет двадцать пять – двадцать семь. Роста она оказалась чуть выше среднего, волосы чуть ниже плеч, заплетены в косу – но не просто, а начиная от макушки, похоже на колосок. Волнистые локоны с двух сторон подчёркивали приятный овал лица. Без всякого намёка на косметику её почти детские, огромные тёмно-карие глаза в обрамлении пышных ресниц выражали некое непосредственное любопытство и как будто смеялись. Аккуратные, чуть оттопыренные и слегка заострённые ушки украшали два маленьких зелёных камешка. Прямой, без изъянов носик. А губы, нижняя из которых чуть больше, давали намёк на шутливую капризность характера!
На ней был тёмно-синий китайский шёлковый халат с рукавами чуть ниже локтя, и его – вероятно, уже по привычке – она то и дело старалась поправить на груди. Но, как ни пыталась, я имел дерзость лицезреть эти две плотно прижатые друг к другу маленькие дыньки, между которыми в ложбинке лежал крохотный золотой крестик, элегантно спускавшийся на тоненькой цепочке с её нежной шеи. И руки… Почти детские руки! Безо всякого маникюра, эти как будто игрушечные ноготки на её миниатюрных пальцах были покрыты бесцветным лаком с едва видными блёстками.
Растолковывала она мне все математические премудрости быстро и отрывисто, даже с какой-то иронией, голосом уверенным, красивым и, самое главное, не писклявым. Ну и, конечно, запах! Когда, присаживаясь рядом и взяв карандаш, она поправляла мои загогулины, я порой чуть не терял сознание, слыша и чувствуя эту женщину. Нет, это даже не запах! Это что-то на уровне подсознания. Какое-то внутреннее осязание тепла, покоя, лёгкого безмятежного сна, уютного дома, чистых простыней и парного молока. Это очень сложно объяснить, и мне непросто было разобраться с этими новыми, накрывшими меня внезапно с головой чувствами.
Дома я долго не мог уснуть, снова и снова припоминая все мельчайшие детали моего визита. Как без малейшего напряжения, с лёгкостью и удовольствием я впитал, усвоил урок ненавистной мне алгебры, как потом она наливала мне чай, и мы ели божественную тёплую шарлотку, и как я случайно заметил краешек её белоснежного лифчика с тоненькой мелкой кружевной каёмкой… Мне хотелось понять, разобраться… «Что это? – спрашивал я себя. – Я, наверное, влюбился?!» Нет. У неё есть муж и двое детей. Как же так?! Почему мне приятна эта сладкая истома и почему я на всё готов ради неё? «Я готов целовать песок, по которому ты ходила…» Смысл слов этой дурацкой песенки в тот вечер стал как никогда мне понятен. Жениться и быть с ней навсегда было непозволительно по причине её семейного положения и моего возраста.
Так, размышляя почти до утра, всё же нашёл я выход! И обнаружить мне его помог великий Мигель де Сервантес… Моя настольная книга! Мне надлежит стать рыцарем её сердца! Никто не запретит мне любить и обожать её, совершая, если понадобится, подвиги во имя моей Дулъсинеи!
На следующий день, желая напитать своё утомлённое и горячее сердце, я уже бежал к ней… После урока, у входной двери, я обернулся и, собрав все силы, потупив взор, тихо спросил:
– Наталья Николаевна, позвольте, я буду рыцарем вашего сердца? – В моих висках что-то застучало, уши будто окатили кипятком, а на глазах выступили слёзы. Мои руки тряслись, когда она, приблизившись и подняв моё лицо за подбородок, ласково ответила:
– Конечно… Я всегда мечтала, чтобы у меня был такой рыцарь… Вот только настоящий рыцарь должен знать алгебру и геометрию на пятёрки… Я так хочу!
И что же?! Да, я был самым счастливым рыцарем на свете! Я осилил-таки эти науки и получил свои годовые заслуженные пятёрки! И это был подвиг! И ещё этот сюжет моей юности позволил мне усвоить один очень важный урок. Человек действительно способен на многое… И залезть на Джомолунгму, и выучить китайский язык и даже АЛГЕБРУ… ради чести своей семьи или во имя дамы своего сердца! Возможно практически всё, если любовь ведёт, питает и греет человека!
И вот теперь, спустя много лет, порой встречаясь на улице с моей Натальей Николаевной, я почтительно приветствую её, а она, как всегда, дарит мне свою очаровательную улыбку и всякий раз отвечает:
– Ну здравствуй… Славный рыцарь моего сердца!
Карбид
В городской поликлинике запах кварцевых ламп и хлорки уже располагает к состоянию несколько угнетённому. Осознание вынужденной пациентности однозначно указывает на экономическую импотентность. С агитационных плакатов и стенгазет взирают на страждущих граждан злорадственные вирусы и развесёлые бактерии, внизу одной газеты красуется непонятно кому адресованная надпись помадой: «Да будьте же вы прокляты!».
Именно в таком весьма общественном месте мне и пришлось, подпирая стену, выжидать свою очередь, дабы иметь счастье лицезреть участкового врача. Дело, казалось бы, пустячное – поставить печать и утвердить рецепт, но процесс этот, как оказалось, требует выдержки и даже гражданского самосознания. Моя попытка попросить стоящих и сидящих в очереди проникнуть на полминуточки за заветную дверь потерпела фекало… Да-да! Не фиаско, а именно «фекало». Боже! Сколько ядовитых взглядов, цоканий, шипений и бурчаний вмиг, резко и смачно, окунули меня в это самое фекало. Ничто так не обезоруживает обывателя, как мимолётное, но агрессивное внимание общества. Словно сговорившись, у самой двери в кабинет, на почётных сидячих местах в позах мурен, готовящихся к атаке, притаились завсегдатаи этого заведения. Ах, эти дамы почтенного возраста в ярких бородавкоподобных беретках с плюшевыми цветами и золотом во рту!.. Я просто уверен… Им нравится бывать тут! Общие интересы, сплетни и пересуды… Но какое, должно быть, разочарование испытывают они, просидев столько времени тут и так и не дождавшись возможности дать прочувствовать какому-нибудь интеллигентно дерзнувшему токаспросить его неоспоримое фиаско! Неуютно, тоскливо и мерзенько стоять в очереди, устыдившись своей собственной, так не к месту проявленной безобидной инициативы «токаспросить». На ехидные бактерии и бравые витамины смотреть противно, разглядывать общество неприлично, светских бесед никто вести не желает, и лишь кричащая надпись помадой подчёркивает всю действительность больничной атмосферы, злосмрадной и тошнотворной. Неожиданно распахнувшись, заветная дверь выплёвывает вдруг из кабинета мужчину в гипсе и на костылях, вслед которому слышится доброе пожелание доктора: «Шубин, не забывайте витамины». А после коротких выяснений, «кто за какой женщиной» и «кто занимал не по записи», всё опять застывает, обретая свою прежнюю кафельную пещерность.
Я присаживаюсь на освободившийся потресканный синий дерматин и закрываю глаза. В голове моей звучит: «Шубин, не забывайте витамины». Так-так… Шубин, шуба… костыли, гипс. Что-то до боли знакомое! Какие-то воспоминания детства рвутся наружу! Шубин, гипс… И вот оно! Смутной картиной из запылённого чулана памяти появляется, выползает и, яркой вспышкой озаряя, включается мой «фотоувеличитель»!
И я уже обозреваю свой двор с облезлыми серыми гаражами, мартовскими лужами и ещё голыми деревьями. Скрипучие ржавые качели, неподалёку от которых мы, человек шесть мальчишек, играем в «Сыр», втыкая отвёртку в нарисованный круг на мягкой влажной земле. И пахнет эта земля! И лица такие знакомые… Я всех помню по именам. На качелях, раскорячившись, сидит рыжий мальчишка лет двенадцати, украдкой потягивая не в затяг овальную сигарету. Левая нога его по колено в гипсе, рядом валяются деревянные старые костыли, разрисованные шариковой ручкой словами типа Rock, TURBO и USA. Хрипловатым, срывающимся голосом он даёт нам советы по игре. Ну конечно, я узнаю его! Это Миша Спицин! Парнем он был всегда, мягко говоря, подвижным. Он недавно сломал на ноге два пальца, неудачно приземлившись с турника, и теперь вот завистливо взирает на всю честную компанию, разделяющую «Сыр». Мишка одет, как и многие из нас, в синие спортивные штаны, кеды, серый растянутый свитер и красный петушок с надписью SPORT. Однако некоторые предметы и аксессуары его туалета способны слегка озадачить – это длинная, ниже колен, пёстрая, побитая молью заячья шуба с подрубленными рукавами и перешитыми пуговицами – вероятно, мамина. Его держащиеся на резинке от трусов и на одной дужке роговые очки перемотаны посредине синей изолентой. С правой же стороны линза очков заклеена белым пластырем – для корректировки зрения. Надо отметить, что у Мишки были и хорошее парадное пальто, и приличные очки, но по причине его чрезмерной пубертатной активности гулять выпускали его исключительно в этом безобразии.
– Пацаны! – кричит Мишка. – У меня есть два флакона из-под шампанского. Кончайте эти сопли в ножички! Давайте шарахнем?!
– А карбид? – вопрошает Димка – самый старший, четырнадцатилетний, бывалый пацан.
– Карбид… карбид на стройке стырим, я знаю где!
И вся шайка, прельщённая такой заманчивой перспективой, подхватывает инвалида-инициатора и с воплями одобрения, практически на руках, тащит героя дня за дом, на развалины, где неподалёку за забором зиждется такая притягательная стройка нового девятиэтажного дома.
О… это Клондайк для местной пацанвы! Столько интересных штук можно добыть на стройке. И каучук, и карбид, и жевательный гудрон, и цветную проволоку, а если повезёт, то и патроны для дюбельного пистолета. Но сейчас цель одна – карбид! Подобно пакостливым котам, то озираясь по сторонам, то замирая, вся компания тихо штурмует забор.
– Пацаны, – шепчет Мишка, – подбросьте меня, я зацеплюсь.
Мы подбрасываем его на забор, перекидываем его шубу и костыли, и все проникаем в Эльдорадо.
– Ну, где твой карбид? – шёпотом спрашивает кто-то.
– Там, возле мотороллера. «Муравей», видишь, стоит, вон же, вон, в мешке.
– Ты что, дурак?! Там же Огурец, сторож! (Почему-то пацаны дали ему такое прозвище.)
– Сам ты дурак, нет там никого!
– Ну тогда сам и ползи за ним!
– Не могу я, у меня…
– Что, насморк? – кто-то подкалывает Мишку, и мы все шёпотом, тихо повизгивая, долго ухохатываемся.
– Ладно, – решает Димка, – я полезу, а вы по углам на стрёме.
Напряжение невыносимое. Тишина. Димка уже добрался до мешка и уже распихивает куски карбида по карманам. И тут…
– Атас! Валим! Огурец!
– Подбросьте меня, пацаны! – орёт Мишка. На забор летит Мишка, следом – его костыли!
– Ловите… Ловите меня, пацаны! Шубу! Шубу порвали!
И вот она… Погоня! Как ни странно, но впереди всех, практически жонглируя костылями, улепётывает Мишка. В тот день я был свидетелем наглядного, а не иносказательного явления того, как заворачивается шуба. Захватывающая, щекочущая нервы и оправдывающая любую цель, наша погоня была недолгой благодаря обходившему свои владения и знавшему всех нас по именам пузатому участковому. Итог: семь понурых болванов (один на костылях), вся пиратская команда – в опорном пункте. Участковый, глядя на нас, улыбается в усы, но мы не видим этого, мы слушаем, как даёт показания слегка поддатый Огурец.
– Вам на работе, по совести говоря, не следовало бы употреблять, – распекает участковый Огурца. – Вот вам и халатность! Пьянство на рабочем месте!
– Да вы что, товарищ капитан, это я так, для храбрости, – оправдывается Огурец. – От них же спасу нет! Вам спасибо, что задержали. Их ведь хрен поймаешь! Вот этот рыжий, одноглазый, на костылях, в драной шубе, так рванул с места! Самый первый! Это он у них, наверное, главарь! Костыли по кругу как колёса, сопли пузырём! Чешет, аж шуба заворачивается! Ему, ля, в цирке выступать, а не по стройкам лазить!
Участковый, держась за пузо, глядя на Мишкину шубу, начинает неистово ржать, а вслед за ним смеёмся и мы, да и сам Огурец хрипло хихикает.
…Меня тихонько толкают в бок.
– Мужчина, мужчина, что с вами? – спрашивает меня чей-то надтреснутый женский тенор.
Я понимаю, что слегка задремал и мне привиделось то, что когда-то на самом деле происходило в моём детстве. Я осознаю, кто и где я, и, глядя на озабоченные физиономии, окружившие меня, мне делается ещё и ещё смешнее. Я смеюсь, вспоминая Мишкину шубу, и не могу остановиться!
– Давайте пропустим дяденьку, тут мужчине совсем как-то нехорошо, – слышу я сердобольное касательно меня предложение.
– Мерси-и-и-и, – еле выдавливаю я и, давясь от смеха, прохожу в кабинет. Доктор подозрительно смотрит на меня, потом на печать и, не задавая никаких вопросов, утверждает рецепт.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.