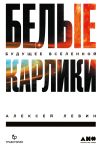Текст книги "Бедный маленький мир"

Автор книги: Марина Козлова
Жанр: Детективная фантастика, Фантастика
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 10 страниц)
– Значит, все продолжается, ходите по земле, – сказал он и погладил Иванну по плечу.
Она стояла перед ним, опустив голову. Он был выше ее, полный, с одышкой, с желтой бородой и волосами, стянутыми в хвост аптечной резинкой, – не то батюшка, не то старый художник из олдовых хиппи. Ромка с Егором рассказали ей, что всего несколько лет как он оставил байкерство, а так всю жизнь гонял на мотоциклах. Его рука дрожала.
– Ну так помоги нам, – попросил он.
Она обняла его и ушла. Он мог бы этого и не говорить.
Алексей
Вечером следующего дня зазвонил телефон.
– Добрый вечер, Алексей Николаевич, – сказал тихий мужской голос. – Меня зовут Александр Иванович Владимиров. Я – папа Ники.
Ну да. Конечно, у нее есть папа. Александр Иванович Владимиров. Что-то очень знакомое.
– Как вы узнали мой телефон? – спросил я первую глупость, которая пришла мне в голову.
– Телефон? – удивился Александр Иванович и немного помолчал. – Телефон… Да не проблема, адрес-то ваш я знаю… Мне Никуша сказала. Как вы помогли ей и все такое. Вы меня извините, Алексей Николаевич, вы, вероятно, занятой человек… Но я бы хотел с вами встретиться. Если можно.
Чувство неловкости, которое я при этом испытал, описанию не поддается. Я не выносил Нику из горящего дома и не отбивал у хулиганов в темной подворотне. Единственное сомнительно доброе дело, которое я сделал, – я не дал ей по шее. Мне не хочется встречаться с ее папой – зачем? И я действительно занят, у меня журналистка Маруська беременная, о чем вчера я еще не знал и даже не подозревал… Александр Иванович терпеливо ждал ответа.
– Зачем? – просто спросил я.
– У меня к вам просьба, – сказал он. – Которую вы можете отказаться выполнять, если она покажется вам неадекватной. Но подробности, если можно, не по телефону…
Я вспомнил, откуда я его знаю. Он был владельцем крупного промышленного холдинга, возможно, самого крупного в стране. Как теперь принято говорить – «вертикально интегрированного». Что-то там заводы, пароходы… Машиностроение и переработка сельхозпродукции. И химия полимеров. И что-то еще. Видит бог, еще до того, как я все это вспомнил, я согласился встретиться с ним, потому что просьба, она просьба и есть. Можно не ломаться и выслушать ее. Тем более что Маруська, утопая в соплях, только что решила делать аборт.
Ничто не сходит с рук – примерно так подумал я, засыпая. Олигарх Астахов материализовался в моей реальности под псевдонимом Владимиров и попросит меня завтра под страхом физической расправы не писать больше о нем всякие глупости и оставить его в покое навсегда.
Но все получилось с точностью до наоборот.
– Спасибо вам, – сказал он, – за Нику, – но я напрашивался на встречу по совершенно другому поводу. Хотите пива?
Охотно верю, что Владимирову не с кем выпить пиво. Верю. Хочу.
– Хочу, – сказал я.
Он ушел куда-то в боковую дверь и принес пак баночного «Будвайзера».
– Банки, – сказал он. – Говно, консерванты. Но все куда-то разбежались и за разливным некого послать. Чего вы смеетесь?
Я вспомнил Хармса – о том, что «без пива Пушкин не боялся остаться. Слава богу, были крепостные – было кого послать…»
– Да так, – сказал я, – у Хармса…
(Черт, о Хармсе – это я зря.)
– Ну да, – он придвинул ко мне запотевшую банку. – Еще не было случая, чтобы Тургенев вернулся. То петиции начнет подписывать, а то…
– …испугается чего-нибудь и уедет в Баден-Баден… – продолжил я и почувствовал себя как-то странно.
Александр Иванович Владимиров сидел передо мной в белой футболке и в джинсах, и его серые, продолговатые, как у Ники, глаза смотрели на меня как-то несерьезно.
– Алексей Николаевич, – сказал Владимиров и положил на стол длинные загорелые руки, на которых не было ни колец, ни часов, ни браслета, но был неровный белый шрам на предплечье левой руки. – Я вас как бы… идентифицировал. Я вашу книжку читал. – «Другие люди».
О да, «Другие люди». Хотел написать детектив, а получился какой-то триллер. Плохой к тому же. Мне за него было стыдно, хотя размер гонорара странным образом примирил меня с этим текстом. И в метро читали. Сам видел.
– Мне не был так уж интересен сюжет, но понравился язык, – сказал он и стал рассматривать мокрый круг от банки на столе. – Дело вот в чем… В моей жизни так складывается, что мне нужно в следующий Парламент. Не хочу, но нужно, просто необходимо. А для народа я – в силу большого бизнеса – фигура двусмысленная. Типа олигарх, значит, по сути, бандит. Деньги есть, карманная партия есть, а нужного имени – нет. Или имиджа, как сейчас говорят.
– Вам нужны хорошие политтехнологи, а я…
– У меня есть политтехнологи, – сказал он. – Бойкие до ужаса. Так вот они говорят, и эта идея мне кажется симпатичной, что мне нужна книга. То есть обо мне. Ну, вы понимаете. От первого лица, все такое. И эта книга должна стать бестселлером, и каждая домохозяйка должна читать ее и плакать… Или смеяться. Или плакать и смеяться одновременно. По всей, заметьте, стране. И для этого мне нужны вы.
– Нет, – сказал я. – Для этого вам нужен как минимум Том Клэнси. Лучше Сулицер. Или на худой конец Акунин, хотя это не его жанр.
– Нет, мне нужны вы. Потому что… сейчас…
Он сунул руку куда-то под стол и вытащил ненавистных мне «Других людей» и открыл их там, где они были заложены – не чем-нибудь, а тонким старым деревянным ножом для разрезания бумаги.
– Потому что «…двор зарос люпином и пастушьей сумкой, и еще там были розовые мальвы и маленькая зеленая скамеечка, «порепана» – как это сказать по-русски? – от всех дождей, которые пролились на нее со времен первых пятилеток. Скамеечка привечала стрекоз и бабочек и дожидалась вечера, когда дед Вася и дед Ося приходили с шахматной доской, а мы с Димкой нависали над ними и давали дурацкие советы. Деды не сердились и нас не прогоняли…»
Он читал хорошо, с уютной интонацией полузабытых радиопостановок, но эта ситуация, в которой гигант большого бизнеса Владимиров читает вслух автору фрагмент его произведения, была пугающе комфортной и немедленно требовала от меня хоть какой-то рефлексии.
– Алексей, – сказал Владимиров, на этот раз опустив отчество, – вы что, боитесь меня?
– А почему вы прочли этот кусок? – я попытался уйти от ответа. Очень неуклюже получилось.
– Вы меня боитесь? – повторил Владимиров и встал. – Думаете, я прикую вас наручниками к клавиатуре? Да у меня есть кого приковать, только бесполезно.
Как ему объяснить, что масштаб задачи заведомо не соответствует моим возможностям? Да так и объяснить. Извините, господин Владимиров, не справлюсь.
Господин Владимиров уже сидел на подоконнике, качал ногой и смотрел на меня своими длинными серыми глазами.
– Александр Иванович… – как-то неуверенно начал я развернутое признание о своей низкой самооценке.
– Нет, я понимаю, – перебил он. – Конечно. Негоже лилиям прясть. Вы писатель, а я вам предлагаю что-то неприличное. А этот кусок я прочел, потому что это мой двор. Мой двор, мой дед, мой сосед Димка. А моя мачеха Лилия Ивановна выносила нам по куску хлеба с маслом и сахаром. И сразу прилетали осы. У них где-то под крышей было гнездо. А гонорар ваш, – продолжал он без всякого перехода, – будет двести тысяч долларов, размер аванса – пятьдесят процентов. И прошу вас заметить – это гонорар за рукопись как за факт. Издавать книгу, пиарить ее, втюхивать ее самому читающему в мире электорату – это не ваша головная боль.
Спасибо хоть, что не надо ничего пиарить. Тем более что от самого слова я впадаю в уныние. У Надюхи есть подруга, она говорит «креативить». «Пойду, говорит, покреативлю…» Соглашайся, Виноградов. Двести тысяч – это очень и очень своевременная сумма. Да и Владимиров уже утомился тебя уламывать. Вот он уже лег на подоконник.
Александр Иванович лежал на подоконнике, подперев рукой голову, и всем своим видом выражал терпеливое ожидание.
– Вам там удобно? – спросил я его.
– Просто лежать лучше, чем сидеть, – сообщил он мне с невинным видом.
– Все, я согласен, – немедленно сказал я. – Хармс, Стругацкие и двести тысяч меня убедили.
Он улыбнулся. Улыбка у него была что надо. С такой улыбкой можно дурить конкурентов направо и налево или рекламировать что-нибудь совершенно бесполезное. Все будут понимать, что бесполезное, и все купят.
– Этот офис, – говорил он, – в задумчивости перемещаясь по диагонали, от окна к желтому кожаному дивану, – он неплохой, но совершенно формальный. Мы с вами здесь работать не будем. Мы будем работать у меня дома, там можно валяться на траве. И по ночам, потому что днем я работаю. Вообще-то при таком режиме… – он задумался и сунул длинный нос в вазон с альпийской фиалкой, – при таком режиме, – продолжал он, оторвавшись от фиалки и трогая кончик носа указательным пальцем, – вам лучше переехать на время ко мне.
– Или вам – ко мне, – предложил я ему достойную, на мой взгляд, альтернативу.
– А у вас можно валяться на траве? – озаботился он всерьез.
Серега Троицкий говорил мне, что не все умалишенные сходят с ума постепенно. Некоторые сходят сразу. Раз-два, спятил – и все. Разговор двух сумасшедших – вот что мне все это напоминает.
– Нет, – разочаровал я его, – у меня третий этаж девятиэтажного дома. У меня можно валяться на ковре.
– Хорошо, – удовлетворенно сказал он. – Тогда сегодня вечером я у вас. Только я буду приезжать с охраной, охрана будет меня провожать и встречать. Домой к вам моих сотрудников мы пускать не будем, не беспокойтесь.
– Александр Иванович, – осторожно сказал я, – учитывая характер вашей работы, вам все-таки, наверное, лучше возвращаться в привычную обстановку?
– Мне? – удивился он. – Нет. Мне все равно. Я могу жить в самолете, на корабле… Я вообще-то не очень люблю свой дом. Он у меня есть только потому, что где-то же надо жить, правда?
Наверное, только с мозгами, устроенными таким диким образом, и можно скирдовать миллионы и миллионы убитых енотов. Я попал. Я уже фактически поселил у себя хоть и взрослого, но какого-то не вполне нормального мужика, к тому же миллионера.
– Александр Иванович…
– Вообще-то меня зовут Саша. Я же ненамного старше тебя? Всего лет на пять – семь, правда?
И хоть переход на «ты» был совершен элегантно, а вопрос был задан с нейтральной, не интимной интонацией, у меня вдруг возникло ощущение, что меня самым банальным образом снимают. Мне тридцать один год, я замороченный очкарик с «наглой семитской рожей», как утверждает Троицкий, которому очень обидно, что я при всем желании не могу составить ему компанию по пятому пункту. Я сутулюсь и каждый год собираюсь записаться в тренажерный зал. Никогда бы не подумал, что я могу соответствовать сексуально-эстетическим критериям экстравагантных олигархов. Но хуже другое – я до такой степени гетеросексуал, что даже абстрактно не могу себе представить… Нет, вру. Абстрактно – могу.
Возникла какая-то тягостная пауза. И вдруг Александр Иванович Владимиров стал ржать. Он стоял, засунув руки в карманы, и, запрокинув голову, ржал самым неприличным образом.
– Ох, – сказал он спустя минуту и провел рукой по лицу. – Вот блин, знаешь, я же читаю мысли. Не все, конечно, только самые выдающиеся. Нет, Леша, дружище. Я не трахаю мальчиков. Я категорически трахаю только девочек. Совершеннолетних, конечно, не подумай чего плохого.
– Извини, – сказал я ему.
* * *
Я просыпаюсь ночью в камбузе, на диванчике, пью пиво, курю, массирую затекшую руку и снова проваливаюсь в плотный непрозрачный сон. В том, что я сплю, есть железный, совершенно бесспорный смысл. Но никакого смысла нет в том, что я просыпаюсь. Мне нужно идти к Троицкому, у меня клиническая депрессия, но я должен достроить яхту и уйти в Мировой океан, вокруг света, на хер, к черту на рога.
Иванна
Когда-то в очередной раз в школу приехал Дед и спросил их с Петькой:
– Как живете, светлячки?
Им было лет по тринадцать, и Петька возмутился:
– Дед, светлячок – это такой червяк.
– А мне, юноша, плевать, что он червяк, – сказал барон Эккерт, – мне важно, что он умеет светиться изнутри.
«Да, есть простое, непосредственное умозрение, – думала Иванна. – Для отца Арсения у меня все на лбу написано. Все мои цели. Светлячки, червячки… Я не чувствую себя светлячком. Я себя чувствую какой-то землеройкой, которая упорно и безостановочно прогрызает тоннель в почве. В принципе, она даже не обязана испытывать интерес к свету в конце тоннеля, ее должен бесконечно занимать сам процесс.
«И не светятся больше ночами два крыла у меня за плечами…»
В начале четвертого она поняла, что надо идти. Она положила в сумку фонарик, потому что знала, что будет возвращаться в темноте, а парк не освещается, сунула туда же маленькую подушечку, чтобы сидеть на земле. Когда-то давно, в Школе еще, она прочла «Культуру и мир детства» Маргарет Мид и хорошо запомнила, что каждый уважающий себя антрополог всегда возит с собой маленькую подушечку, потому что никогда заранее не знаешь, в каких условиях придется ночевать. Иванна не была антропологом, но спустя несколько лет сшила себе такую подушечку из плотной замши – сидеть на земле иногда приходилось долго, это была одна из особенностей разговоров по существу: короткими они не бывают. Она, со своим странным бесстрашием, любила ходить одна на большие расстояния, в том числе и по ночам, в кромешной тьме, на ощупь сокращая дорогу от Кайи до Белой Пристани, и, кстати, не однажды. И она точно знала, что ничего плохого не случится. Боялась она только раз – когда была объявлена пятиминутная готовность перед началом ее выпускного диспута. Тогда ее буквально тошнило от страха несоответствия ее и поставленной перед ней задачи. Это был очень специфический страх. Как у Стругацких: «Но какой это будет страх? Страх высоты? Страх пустоты? Страх страха?» Очевидно, это был тогда страх страха, еще более страшного, который наступит потом, когда кончатся объявленные пять минут. Но потом было все иначе. И не было никакого страха, и, как теперь она знает, не могло быть. Все последующие восемь часов было очень трудно, тяжело до боли в мышцах, очень весело и очень солнечно. Это солнце, льющееся в открытые окна восемь часов кряду, было вечной энергией. Уже десять лет прошло с тех пор, а она, по большому счету, не мерзнет до сих пор.
В парке был холм, заросший низким колючим кустарником, с плоской, как будто срезанной вершиной. Этот холм, наверное, не что иное, как искусственная насыпь, созданная вовсе не в стремлении разнообразить ландшафт – возможно, это могильник подземных коммуникаций. «Вместе они любили сидеть на вершине холма…» Сколько она ни наталкивалась на это стихотворение Бродского, столько же она думала о той необъяснимой аналогии, которая возникает сразу же с несколькими стихотворениями Лорки. Почему она нигде об этом не читала – это же очевидно. Лорка, Неруда, Сальваторе Квазимодо. Лорка… Все предметы в его стихах пребывают в состоянии левитации. «…я оставлю эхо дыханья в фотографиях и флюгерах…» Способность объединить фотографии и флюгера – это и есть дар управления пространством. Но если бы он сам умел летать, он конечно же улетел бы тогда. Она шла к этому холму по тропинке, уже плохо различимой в сумерках. «Я люблю, я люблю мое чудо. Я люблю тебя вечно и всюду. И на крыше, где детство мне снится, и когда ты поднимешь ресницы, – а за ними в серебряной стуже старой Венгрии звезды пастушьи, и ягнята, и лилии льда. Так возьми этот вальс, этот вальс «люблю навсегда»… Я с тобой танцевать буду в Вене, в карнавальном наряде реки, в домино из воды и тени – как темны мои тростники! А затем прощальною данью я оставлю эхо дыханья в фотографиях и флюгерах. Поцелуи сложу перед дверью, и волнам твоей поступи вверю ленту вальса, скрипку и прах».
«…и на крыше, где детство мне снится» – на горячей крыше асиенды, в Школе. Они уснули там однажды, голова к голове, на длинной узкой деревянной скамейке, которая крепилась одним краем к каменному борту террасы. Она проснулась первая и, подняв голову, смотрела на спутавшиеся во сне темно-русые Петькины волосы, потом легла щекой на руку и смотрела сквозь них на солнце. Солнце в Белой Пристани в июле оставалось мягким и рассветным несколько минут. Потом стремительно наступала жара. Петька открыл свои хитрющие глаза и сказал угасающим голосом: «Сестра! Пить!» У них руки были в фиолетовых пятнах, а их одежда была ни на что не похожа – ночью, пока они спали, их обильно засыпало спелыми шелковичными ягодами. Они уснули под единственным деревом, которое росло на крыше, под старой шелковицей. И утром ягоды продолжали падать. Еще полчаса они ели шелковицу, разглядывали свои убитые насмерть шорты и футболки и смеялись. Особенно смешным им казалось то, что во втором корпусе уже полчаса шел древнегреческий, к тому же в этот день у них был контрольный диктант – обхохочешься. Летом у них была сокращенная программа – только до одиннадцати и только языки. Однажды Петька заявил декану: «Во всем мире в школах каникулы. Мы что, не люди?» Молчаливый Александр Григорьевич, рассматривая в лупу какой-то переусложненный фамильный герб в старом каталоге, задумчиво пробормотал: «Ну, в каком-то смысле, конечно, люди…» Возмущенный Петька задом вышел из кабинета и помчался звонить Деду. Дед выслушал его и сказал:
– Пока я жив, я буду делать из вас других. И у вас все всегда будет не как у людей.
(Спустя двадцать лет Густав Эккерт, переживая острое чувство вины за то, что личные траектории «других» детей оказались избыточно сложными, действительно какими-то не вполне человеческими, сказал бы, наверное, что-то другое.)
– Дед, ты гестаповец, – ляпнул грубиян Петька, не подумав, конечно, о последствиях.
– Нет, лапушка, – нежно произнес Дед. – Я антифашист по определению. И вся наша фамилия принадлежала во время оно к антифашистской аристократии. Поэтому за гестаповца ты получишь так скоро, как только я смогу приехать. Поцелуй, пожалуйста, за меня хорошую девочку Ивон.
Хорошая девочка Ивон конечно же смирно сидела рядом и ждала, чем закончится справедливая борьба друга за летние каникулы.
Петька бросил трубку на рычаг и уныло сказал:
– Тебя велели поцеловать.
И поцеловал ее в обе щеки и в нос.
Когда они были уже полностью фиолетовыми от шелковицы, на крыше появилась Мама Ира и закричала издалека:
– Вы! Маленькие злобные мучители! Идите мыться немедленно!
И было видно, что она не сердится.
Через шесть лет, пятого декабря, барон Эккерт тряс ее за руки и бил по щекам.
– Ивон, – говорил он, – Ивон! Ты – моя внучка. Останься, не уходи.
Она еще слышала его, но проваливалась и удалялась – у нее останавливалось сердце. Без Петьки она не умела жить, а он уже превратился в дым и ветер и присоединился к летящим над перевалом облакам.
– Ты – моя внучка, – повторял дедушка Эккерт, как стремительно наваливается на нее предельное одиночество, и он хотел успеть встать между нею и тем миром, а она уже не видела и почти не слышала его. Зато она увидела что-то другое, но никогда бы не смогла проименовать увиденное. Наверное, поэтому она и стала профессионально заниматься философией (она никогда бы не смогла сказать: «Поэтому я и стала философом»), что философская практика стремится преодолеть границы языка. Правда, нельзя сказать, что увиденное было безымянным – просто любое из известных ей слов, эпитетов, описаний упростило и уничтожило бы то, что с тех пор живет в ней как второе сознание. При необходимости она может активировать его, смотреть сквозь него, посредством него давая собственно сознанию возможность проводить время в приятном картезианском полусне.
…Очень интересная, очень странная структурка, маленькая, растущая, легкая…(что значит – легкая? она была легкой). Иванна смотрела на нее (местоимение «она» требует объекта), но то, что видела Иванна, не было объектом. И Иванна поняла, откуда эта захватившая ее странность: то, что она видела, ни к пространству, ни к времени не имело никакого отношения. «Возьми себе», – сказал ей кто-то незнакомым и вполне обычным голосом.
Она открыла глаза и села. Нечто заменило в ней вырвавшуюся Петькину часть, и она уже могла сидеть и дышать.
Она увидела худое, родное, сердитое лицо Эккерта.
– Слабачка ты, Ивон, – сказал он ей с неожиданно Петькиной интонацией. И улыбнулся. И она попыталась улыбнуться в ответ. Она никогда и никому не улыбалась так, как Деду. Она обожала его – он был самым сильным, самым умным и, несмотря на жесткость, – самым добрым. Но улыбка в этот раз у нее не получилась. И тогда она погладила его по руке.
Сейчас Деду семьдесят пять. Когда она вернется домой, ее обязательно будет ждать е-mail от Эккерта. Они оба не любили электронную почту, но она все-таки создавала иллюзию близкого общения. Скорость была, вообще говоря, не так уж и важна, ничего срочного они друг другу не писали. В течение последних двух месяцев они только и делали, что методично обсуждали замысел ее книги о социальных сценариях конца – начала тысячелетия, и с каждым письмом Деда замысел казался ей все более дохлым. Дед уже давно не касался темы индивидуального пути, деятельности и миссии. Он, создавший в свое время миссионерскую школу, написал ей полгода назад, что, когда человеку исполняется тридцать лет, он уже сам хорошо знает, что ему делать и перед кем он отвечает.
Она положила свою подушечку на снег и села, скрестив ноги. Она сидела, опустив голову, и смотрела на свои руки. Если бы Виктор мог увидеть ее тогда, он бы, возможно, испытал тревогу. Это была какая-то незнакомая Иванна. Другая.
– …если это люди, – говорила Иванна. – Даже если много людей. Можно установить коммуникацию, связь.
– Только одно: восстановить смысл. Смысл. Жизнь может иметь любое содержание. Содержание для жизни вторично. Но жизнь должна обладать внутренним смыслом.
– Это понятно.
– Это не так просто, как тебе кажется. Тут мало понятного. Ты должна думать.
– Я думаю.
– Ты страдаешь, а не думаешь. Твои страдания…
– …человек, два человека, сто человек – с ними можно говорить. Но я не равна большим процессам. Происходят вещи, с которыми никто не справляется.
– Никто не пытается. А ты не веришь в себя. И города умирают.
– Потому что я не верю в себя?
– Города, случается, умирают. И миры умирают, не только города.
– У меня нет слов.
– Ну так ищи. Ты же воспитана в правильной схоластической традиции. Схоластика исходила из языковых интуиций, потому что ее интересовала реальность, стоящая за словом. Возможно, реальность, стоящая за словом, и есть, собственно, реальность.
– Язык порождает жизнь?
– Порождает, порождает. Только он и порождает, если, конечно, не жить в естественно-научной парадигме. Ты плачешь?
– И язык умирает.
– Он-то первый и умирает. А потом уже умирает все остальное. Почему ты плачешь?
– Я не плачу.
…И тонкое зубчатое колесико какого-то механизма, вращаясь против часовой стрелки, уходит в глубину.
Иванна плакала – первый раз за последние пять лет, и видела, как гаснут один за другим дрожащие и размытые источники света.
В принципе, можно было уходить. Фонарик помигал немного и погас – очень некстати перегорела лампочка. Иванна пошла вслепую, продираясь через какие-то кусты, вышла на дорогу и остановила машину.
В гостинице она легла на свою кровать, укрылась тонким шерстяным одеялом и наконец-то уснула – было около двенадцати ночи, и небо за окном наконец-то прояснилось.
Пиво они допили и рыбу доели.
– Так я не понял, – сказал Виктор. – Почему ты так довольна в результате? Потому что поняла, как ты говоришь «на материале», то, что знала и раньше?
Иванну от выпитого пива стало познабливать – или это не от пива? Заболела она, что ли, «сидя на вершине холма»?
– Ну что ты молчишь? – он ходил вдоль стены и рассеянно трогал рамки картин, как бы выравнивая их.
«Очень много таких городов, – думала Иванна. – И все так плохо на самом деле, хуже некуда. Кто, спрашивается, может преодолеть свои же собственные принципы? Никто. Даже… Никто. Поколение, ну, два поколения… И не из-за чьей-то злой воли, а потому, что так устроено».
– Да я и не довольна вовсе, – сказала Иванна. – Просто у меня глупое выражение лица. Пані трохи дурнувата. Ты обещал отвезти меня домой.
– Хочешь, я тебе спою? – вдруг неожиданно для самого себя сказал Виктор. – Правда, я уже лет десять как не пел, у меня, наверное, и гитара рассохлась.
– Ну так и не пой, – нисколько не заботясь о такте, сказала Иванна. – А просто отвези меня домой.
Но он уже нес из спальни гитару и дул на гриф.
Звучание было хорошим. И голос у него был хорошим – глубже и глуше его обычного тембра.
… он перед людьми назывался врачом,
поэзия ни при чем,
но ведал о нем проницательный свет:
мэтр Франсуа – поэт.
Над каждою строчкой проблему проблем
решал Франсуа Рабле:
Не как заработать посредством пера,
А как избежать костра…
Она смотрела на его неправильное и очень милое, с ее точки зрения, лицо – даже зимой загорелое, с большим носом и этой его ухмылочкой, которая, пожалуй, прорвется, даже если ему сообщат о приближающемся Апокалипсисе.
И вдруг Иванна поняла природу своего героического сопротивления. Не из-за Петьки, конечно, потому что прошло уже больше десяти лет, а она тоже человек, хоть и не очень похожа… Кто так говорил? Так говорил их декан в десятом классе Школы, представляя им Юрия Михайловича Лоу – преподавателя истории западноевропейской научной мысли:
– …вы слушайте его внимательно, вопросы задавайте, – он ведь тоже человек, хотя и не очень похож.
Ей с ним хорошо. Вон как он не хочет везти ее домой, и ее это развлекает и не раздражает. Но от его присутствия она не испытывает маленьких веселых электрических разрядов в крови. Когда-то дедушка Эккерт, только приехав, стал свидетелем шумной сцены: лохматая, мокрая вся с ног до головы, пятнадцатилетняя Иванна, перегнувшись через подоконник второго этажа, бросает на хохочущего Петьку сразу два связанных между собой и наполненных водой воздушных шарика и, что замечательно, попадает прямо ему под ноги. Эккерт посмотрел на Иванну, бессильно висящую поперек подоконника, на Петьку, который сидел в луже воды, тряс головой и скисал от смеха, и сказал:
– Ивон, милая, как я тебя понимаю: в этой жизни главное, чтобы было с кем поржать.
Она уже не ищет себе счастливого мира. В лучшем случае ее мир будет спокойным и безопасным, но скорее всего – напряженным, с плотно пригнанными днями и годами, но счастливым уже, наверное, никогда.
– Отвези меня домой.
Уже в машине он, не отрывая глаз от скользкой заснеженной дороги, произнес:
– Один наш общий знакомый, не важно кто, сказал, что ты – машина. «Машина, – сказал он. – Никакой лирики». Потому что ты поздоровалась с ним, но, по-видимому, не стала оживленно болтать. Я понимаю, ты больше ничего не делаешь из вежливости – тебе просто некогда. Поэтому, когда мы с тобой треплемся по три часа кряду, я думаю, этого требует твоя внутренняя суть. Она промолчала.
– Я тоже давно ничего не делаю из вежливости, – продолжал он, – экономлю время. В это сэкономленное время мы с тобой и разговариваем.
Дома она заварила зеленый чай с жасмином, долго сидела на кухне, с ногами на маленьком кожаном диванчике, смотрела прямо перед собой. Там, куда она смотрела, было свежее, очень солнечное утро, и на плитах балкона, на низком деревянном столе были разбросаны пятна света, прорвавшиеся сквозь ребра солнцезащиты. На столе лежал пучок укропа, половинки помидоров, редиска россыпью, а в центре стояла пол-литровая баночка густой розовой сметаны. Вечный берег. Вечная редиска под незаходящим солнцем. Сметана, которая никогда не скисает. Миражи одиночества.
Она подумала вдруг, что раньше никогда не задумывалась о природе естественного света. Не о физической природе, а о метафизической. Как человек связан со светом, что с ним делает солнце и почему утро вечера мудренее? Что мы видим, когда думаем о Боге? Безусловно, мы видим свет.
E-mail от Эккерта был недельной давности. Он писал о том, что вдруг впервые понял: он ничего не понимает про людей, про их пути, траектории, цели. Он даже не понимает, о чем они говорят. И ему все время темно.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.