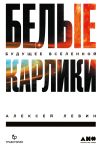Текст книги "Бедный маленький мир"

Автор книги: Марина Козлова
Жанр: Детективная фантастика, Фантастика
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 10 страниц)
Алексей
(рукопись)
«В городе Чернигове на своих огородах люди до сих пор откапывают керамику одиннадцатого века. Чернигов – тихая зеленая провинция, которая стоит на жирных культурных слоях, на Антониевых пещерах, на густом перегное языческой Руси, на границе между заговоренным украинским Полесьем и брянскими сосновыми лесами. Я родился там сорок лет назад в единственном на весь город трехэтажном роддоме, зимой. Тогда были снежные зимы, не то что сейчас, и я думаю, что мама лежала в чистой некрасивой палате, в которой пахло хлоркой и компотом из сухофруктов, смотрела, как идет снег, ждала папу и радовалась, когда меня приносили кормить.
Приходил папа, приносил молоко в стеклянных бутылках, сырки с изюмом, булочки, мед. Придерживая шапку, рассматривал меня в окне второго этажа, писал маме записку: «Назвал Санькой. Категорически. Никаких Валиков быть не может». Записку я видел своими глазами – мама хотела назвать меня Валентином. Когда мне было шесть лет, мама умерла. Глупая смерть, глупее не бывает. Она работала в лаборатории завода химволокна, всю их лабораторию услали «на картошку» за сто пятьдесят километров от города, почти на границу с Белоруссией. Там у нее случился острый аппендицит, перитонит. Сначала машину искали, потом до райцентра ехали. В райцентре больничка была, но хирург пил с обеда и был не при памяти – уже не мог принять вертикального положения, как ни пытался. А до города не довезли. Я хорошо помню, как папа сидел на кухне, молчал, не плакал и держал в руках мамин синий фланелевый халат. Я долго тулился к его плечу, пока он в конце концов не заметил меня. Он взял меня на руки и вместе с халатом прижимал к себе. От халата пахло мамой, от папы пахло водкой. По всем правилам он должен был спиться, но не спился, даже женился спустя несколько лет. Он преподавал историю в пединституте, а она – методику начальной школы. Лилия Ивановна – такая бездетная старая девушка в толстых очках, она коротко стриглась и ходила только в брюках. «Суфражистка», – говорил про нее папа. Детей у них больше не было, и про детей она, кажется, не понимала ничего, несмотря на свою методику начальной школы. Плохо готовила и не догадывалась об этом – мы с папой ей не говорили. В меню были бесконечные жареные кабачки, синеватая отварная картошка и докторская колбаса, которую папа привозил из Киева, куда ездил иногда в командировки – в Институт повышения квалификации или в Министерство образования – по-моему, тогда он уже был проректором по учебной работе.
Я был худой, угрюмый, обидчивый. Совершенно без чувства юмора. Мне все время казалось, что на меня нападают, смеются над моими очками, над моими ушами, над моими ластоподобными ботинками – у меня уже в двенадцать лет был тридцать девятый размер. На самом деле никто вобщем-то не смеялся, у многих были очки, прыщи, кривые зубы и хронически заложенные носы, но все равно каждое утро, прежде чем отправиться в школу, я как бы надевал доспехи и опускал забрало. И так – скрежеща, лязгая и громыхая, неуклюже брел через Марьину рощу на Вал, мимо Коллегиума и Борисоглебского собора – в нелюбимый желтый дом, бывшую женскую гимназию, бывшее реальное училище – с метровой толщины стенами, с арками и с большим подвальным коридором, уходящим куда-то в ретроспективную бесконечность или непосредственно к Антониевым пещерам.
Всем содержанием школьной жизни, начиная класса с четвертого, была пубертатная маета обоих полов, но девочкам непременно нравились старшеклассники, это по их поводу они переписывались на уроках, непрерывно шептались и наматывали круги по школе на большой перемене. Я уговаривал себя влюбиться в кого-нибудь, старательно и подробно думая то о Ленке Волковой, то о Наташе Ким, но чувство как-то срывалось, соскальзывало, когда я случайно забывал о том, что надо думать о ней (не важно о ком). То есть все мы как-то приноравливались к жизненным схемам, а учились как бы между прочим, по крайней мере я и по крайней мере до тех пор, пока вместо старенького и невнятного физика Георгия Петровича к нам не пришла Галя. И к тому же она стала нашей классной. Через год холодным декабрьским утром я провожал ее на киевский автобус, откуда начинался ее путь в Торонто к мужу. Я сжимал синей от холода рукой широкий кожаный ремень ее замечательного рыжего кофра и со всей своей шестнадцатилетней категоричностью думал, что лучше бы мне отрезали руку вместе с этим ремнем и этой невероятно стильной пряжкой, чем разжать пальцы и отпустить сумку и вместе с ней Галю. Вообще-то ее звали Галина Михайловна. Она была маленькой, носила брюки и разноцветные свитера, большие кожаные сумки и замшевые мокасины, за что на нее косились другие училки, и она была очкариком, как и я. Только у нее были какие-то эдакие очки в тонкой черной оправе, и они ей очень шли. Когда она впервые пришла к нам, мы все рассматривали ее, ее оранжевый свитер с выводком черных котят на груди и ее длинную каштановую челку, которая почти закрывала ее лицо, когда она смотрела в классный журнал. Потом она оторвалась от журнала и поверх очков посмотрела на наш 9-й «А». Глаза у нее были немного монгольские, растянутые к вискам, вот этими шаманскими глазами она медленно обвела класс.
– Чего вы такие мрачные? – спросила она. – Физику не любите?
– Не любим, – честно сказал Валерка Панченко.
– Ну, извините, – сказала она. – Тогда вам придется меня терпеть.
В нашей школе, может быть, из-за столетней ее истории или просто в силу традиционной замшелости провинциального образовательного департамента все было каким-то анахроничным. Начиная от мебели и сливных бачков в туалете и заканчивая учителями. Поэтому Галя выглядела как «Феррари» среди «Запорожцев». И не было бы ничего удивительного, если бы я немедленно влюбился в нее, как, наверное, поступило все мужское сообщество с седьмого по десятый. Я бы благополучно затерялся среди толпы ее поклонников и сохранил бы полную анонимность. Если бы она не влюбилась в меня.
Возможно, я бы умолчал об этом, но она была именно тем человеком, который изменил мою самооценку с минуса на плюс. Она смотрела на меня грустными шаманскими глазами, когда думала, что я не вижу этого, или не смотрела вовсе, когда вызывала меня отвечать. Я нес какую-то ахинею, и она ставила мне точки в журнал и просила подготовиться к следующему уроку. Я учил! Но отвечать не мог – у доски у меня случалось головокружение и тахикардия. Дома я стоял перед зеркалом и рассматривал свой нос, губы, подбородок – и впервые смотрел на свое лицо с интересом и без отвращения. Галя совершила чудо: из маленького и несчастного мальчика с тусклым детством я начал медленно и заинтригованно превращаться в мужчину. Я расправил плечи и засунул руки в карманы. Я понял, что у меня длинные ноги и независимая спина. Только я совершенно не знал, что мне делать. Долгое время (примерно месяца два) я думал, что мои одноклассники ничего не замечают. Наверное, потому, что практически не смотрел по сторонам. Я смотрел либо в себя, либо в пространство, либо на Галю. А она смотрела на меня. Думаю, для всех окружающих это был бесплатный цирк – они следили за нами, как за акробатами под куполом, и все ждали, когда оборвется музыка, вступит барабанная дробь и мы отстегнем лонжи.
Ей было двадцать шесть лет.
Я хотел ей позвонить на Новый год, ровно в двенадцать часов, и не смог. Всю ночь я бродил по замерзшему, еле-еле запорошенному сухим снегом Чернигову, набредая на веселые подогретые компании, проходя по диагонали дворы-колодцы и безмолвные неосвещенные скверы. Эта медитативная прогулка стоила мне двустороннего воспаления легких, уже второго января меня уложили в терапию областной больницы, а через три дня она пришла ко мне. К этому времени антибиотиками мне сбили температуру, и я чувствовал головокружение и невесомость. Я стоял у окна и смотрел на больничный парк. Больше всего мне нравились большие тополя. «Окно выходит в белые деревья, в большие и красивые деревья», – вертелось в голове. Я не помнил – откуда.
– Саша, – сказала она, – я принесла тебе яблоки.
Если бы я увидел привидение, я испугался бы меньше. Я вцепился в подоконник и мгновенно стал совершенно мокрым – футболка прилипла к спине и по лбу поползли капли пота. Она была в белом халате поверх красного свитера. Она смотрела на меня своими шаманскими глазами, и пауза становилась фантастически неприличной, отчаянно неприличной. Неприличнее ее стало только то, что случилось потом. А случилось вот что – она взяла меня за рукав пижамной куртки и молча потащила за собой. Она свернула за угол, за сестринский пост, подошла к белой двери – одной из многочисленных белых дверей, достала из кармана ключ и открыла ее. Потом она призналась мне, что в тот день дежурным врачом была ее подруга Ленка – единственный человек в мире, которому она, роняя слезы в рюмку коньяка, призналась, что преступно и лихорадочно влюбилась в своего ученика.
– Так сосредоточься на главном, – сказала Ленка. – И тебе немедленно полегчает.
– Это на чем же? – спросила несчастная Галя.
– Вот дура… – жалостливо вздохнула Ленка. – Прямо сил нет смотреть.
Закрыв за собой дверь, мы попали в параллельный мир. В нем был письменный стол, вешалка и кушетка. Галя сняла очки и положила их на стол. Я тоже снял очки и тоже положил их на стол, но чуть не уронил при этом ее очки, так тряслись мои руки. И мы стали целоваться. Для того чтобы понять, как нужно это делать, мне хватило секунды. Мы целовались, стремительно сходя с ума, хрипели, задыхались, кусали друг другу губы. Говоря сегодняшним языком, она трахнула меня. Но тогда так не говорили. Как тогда говорили – я почему-то не помню. Но это не важно. Кончилось все это тем, что мы в конце концов сломали кушетку.
Лежа на сломанной кушетке и рискуя соскользнуть с нее на пол, мы говорили друг другу совершенно безумные вещи. Совершенно безумные, волшебные и неприличные. Потом она замолчала. Потом сказала:
– Меня посадят в тюрьму.
– За что? – испугался я.
– За растление несовершеннолетнего.
– Меня?
– Тебя.
– Не бойся, – сказал я и прижал ее к кушетке своим телом. Я смотрел на нее сверху – на ее мокрую челку, глаза и губы. Не бойся, – повторил я и поцеловал ее в горячую пульсирующую шею, – никто ничего не узнает.
С этого дня я начал выздоравливать, я ел и спал за троих, слонялся по больничному коридору и пытался читать Грэма Грина. Галя приходила еще дважды, но без последствий – подруга Ленка слегла с банальной ангиной и рассчитывать на ее благословенное дежурство мы не могли. Тебе попало от Ленки за кушетку? – спросил я Галю, пытаясь незаметно установить с ней хоть какой-нибудь тактильный контакт: коснуться пальцами – запястья, губами – уха, коленом – ну и так далее…
– Нет, – сказала она, смеясь и отодвигаясь. – Не трогай меня, мы же практически в селе живем, здесь все друг друга знают… Ленка сказала, что за кушетку нам надо дать медаль, на которой бы было написано что-то вроде «за беспримерный героизм на линии огня» или «за мужество в борьбе с предрассудками».
– То есть она не считает, что ты растлила малолетнего?
– Она считает, – сказала Галя, глядя на меня снизу вверх своими дикими рысьими глазами, что я люблю очень хорошего мальчика. Умного и красивого. И я тоже так считаю.
– Выходи за меня замуж, – сказал я ей и почувствовал, как защипало под нижним веком.
– Я замужем, – сказала она.
Белые деревья за окном дрогнули и стали как-то стробоскопически распадаться на части. Внезапно и сильно заболело горло.
– Сашка! – сказала она.
– Ты его любишь? – спросил я глупо.
– Ну конечно, – сказала она.
Я ничего не понял. Это я сейчас понимаю, что она мне не врала ни в первом, ни во втором случае. Что любовь – загадочная штука и допускает еще и не такое. Я был убит. Я повернулся к ней своей независимой спиной и пошел в палату. Я накрылся одеялом с головой и разревелся так, как не плакал даже в раннем детстве. Вот как меня развезло.
Ее муж к тому времени второй год работал в Торонто, в каком-то продвинутом биофизическом исследовательском центре.
И, как выяснилось, она должна была уехать к нему. Я умирал, когда видел ее. И она это поняла. Она пошла к директрисе, положила ей на стол заявление об уходе «по собственному желанию» и выслушала от нее пламенную речь о безответственности молодых педагогов, которых и педагогами-то назвать нельзя, которые способны бросить класс в разгар учебного года и что она, Галя, недостойна гордого звания советского учителя.
– Так я и не учитель, – сказала она. – Я – физик-теоретик. Вы же в курсе.
Я увидел, как она шла через заснеженный школьный двор – в зеленой куртке с желтым шарфом, с большой рыжей кожаной сумкой на плече. Она остановилась, натянула перчатки, обернулась и помахала рукой.
– Что, Саня, – сказал подошедший сзади Димка Костин, – хреново?
Я внимательно посмотрел на него. В его глазах не было и тени иронии.
– Хреновей не бывает, – сказал я ему.
– Это – спорное утверждение, – задумчиво произнес Костин. – Где предел хреновости, не знает никто. И ты, Владимиров, этого тоже не знаешь…
Она пришла ко мне в три часа дня на следующий день. Она вошла в прихожую, мягко отодвинула ногой нашу приставучую кошку Дашку и холодными сильными пальцами сжала мои запястья.
– Ну уж нет, – сказала она. – Ты – мой мальчик. Мой любимый мальчик. Умный и красивый. И лучше тебя нет на целом свете. На каком, спрашивается, основании я должна об этом забыть?
– Ни на каком, – сказал я ей, проваливаясь куда-то в пространство солнечного зеленого луга с капустницами и пастушьей сумкой, одновременно думая о том, что на плите стоит недожаренная яичница, что родители придут только к семи и что Дашку надо бы запереть в ванной.
Галя была решительной девушкой, она была маленьким монголо-татарским нашествием, которое не останавливается ни перед чем. Она сняла половину дома в частном секторе, она встречала меня из школы и кормила какой-то невероятно вкусной едой, весенними вечерами мы жгли костер во дворе, заросшем смородиновыми кустами, и жарили сардельки на шампурах. Галя лежала на лавочке, глядя в небо и раскачивая джинсовой ногой, рассказывала мне, почему Декарт поссорился с Ньютоном, а Ньютон, в свою очередь, поссорился с Лондонским королевским обществом, а я чувствовал, что в моей жизни запоздало наступило странное, но, безусловно, счастливое детство.
– Я скоро уеду, – сказала она вдруг, – прервав свою лекцию об истории формирования естественных наук.
– Нескоро, – беспомощно сказал я. – В декабре только!
Она промолчала.
Нам не хватало дня, а вечером я должен был возвращаться домой. Я раздваивался. Одна моя часть, как казалось мне, все равно оставалась в доме со старым комодом, жестким диваном и хозяйскими подшивками журнала «Огонек» за последние десять лет. В конце концов я позвонил домой и соврал Лилии Ивановне, что переночую у одноклассника.
– Ну, смотри… – неопределенно, но совершенно миролюбиво сказала моя мачеха.
Стоя перед распахнутым в апрельскую ночь окном, Галя варила глинтвейн на маленькой электрической плитке, а я не хотел глинтвейна, я хотел только, чтобы она вернулась ко мне на диван. Она возвращалась ко мне с двумя кружками глинтвейна, в комнате плавали запахи корицы и гвоздики, она целовала меня в нос, глинтвейн проливался на постель…»
Иванна
В десять утра она уже сидела в салоне «Люфтганзы». Три часа назад ее разбудил звонок. Иванна схватила трубку, но спросонья нажала на «отбой». Она встала, подошла к зеркалу. Не только глаза, все лицо отекло – все вчерашнее пиво. Нет, нельзя ей пива, от любого его количества к утру она превращается в больную лягушку. Позвонили еще раз. Какой-то незнакомый человек, отдаленно русскоязычный, сообщил ей, что барон Эккерт умер.
Дедушка Эккерт умер, а она в это время спала и видела во сне беспризорных детей – много, целую толпу. Они долго передавали из рук в руки комок горящей бумаги – и не боялись огня.
Она так плакала, что не смогла объяснить Виктору Александровичу по телефону, что же, собственно, случилось. Он приехал, понял все, собрал ее и отвез в аэропорт.
И вот теперь «Боинг» «Люфтганзы» выруливал на взлетную полосу, а Виктор стоял за унылой шершавой рабицей с баночкой пива в левой руке и с тлеющей сигаретой в правой. «Совсем осиротела, – думал он. – В три года – родители, в пятнадцать – бабушка, потом – этот ее Петька, а теперь – названый дед, который, основав Школу в Белой Пристани, настолько предопределил ее жизнь, что она теперь не может не осознать, кого же на самом деле она сейчас потеряла…»
Вот если бы время можно было свернуть как пространство. Хотя пространство сворачивается тоже чисто теоретически – его можно свернуть в рулончик, а потом проколоть булавкой. Но для времени нужен иной принцип. Для того чтобы попасть туда, куда ты хочешь, нужно сжаться в комок в самолетном кресле, крепко прижав к коленям опухшее, горячее, мокрое от слез лицо – так, как будто вы уже падаете, – и самолет, влажно оплавляясь по мере проникновения в горячий августовский полдень, влетает в пространство и время вечного берега.
…Они на берегу вчетвером – Петька, Иванна, и Хесле с Павликом. Полдень. Везде стоит вечнозеленая тишина, берег качается на волнах, и Иванна медленно засыпает, положив голову на сгиб локтя и вдыхая запах теплой гальки – галька пахнет кипарисовой смолой, солью и водорослями. Петька сидит в мокрых плавках, скрестив худые загорелые ноги, и поедает недозрелую алычу. У Иванны солнце везде – под кожей, в груди, в животе, в коленных чашечках. Она чувствует в полусне, что ничего не весит и состоит из миллионов атомов морского воздуха.
– Смотри, какое небо, – вдруг говорит Петька и показывает куда-то вверх, на седловину яйлы. Оттуда стремительно вылетают рваные серые клочки, будто там работает невидимая катапульта. – Вероятно, будет буря, – серьезно говорит он.
– Необязательно, потому что… – просыпается Иванна, – потому что… – смотрит на Хесле и Павлика в поисках поддержки. Маленькая, похожая на цыганку Хесле, эстонка с острова Сааремаа, и толстый рыжий москвич Павлик сидят рядышком с ногами на большом красном полотенце и согласно кивают: конечно, какая буря, когда такая жара.
– …и поэтому вечером надо идти воровать розы, – неожиданно заканчивает мысль Петька и пристально смотрит на Иванну. Она уже дважды струсила, и поход за розами в престижный кабминовский санаторий уже дважды сорвался по ее вине.
– Точно! – соглашаются Хесле с Павликом.
Но Петька смотрит на них с сомнением и говорит:
– Нет. Вас не возьму. Вы шумные.
– Мы будем тихо-тихо, – шепотом говорит Хесле, но Петька повторяет:
– Нет. Сидите, ждите. Если нас не словит охрана, мы тоже принесем вам розы. А если кому-то скажете, убью, – добавляет он без смены интонации.
Иванна молчит – Петька морально сильнее ее, и в этом вопросе он ее в любом случае сломает. Ему принципиально важно в конце концов ободрать эти розы и идти за ними в бурю, это, конечно, логично. Иванне просто нечего сказать против. Она садится, подтягивает колени к подбородку и смотрит на серую морщинистую скалу, прохладную даже на вид. Из ее расщелин торчат стебли больших бордовых львиных зевов. И дались ему эти розы. Полдень сразу утрачивает свою невесомость и наваливается нехорошее ожидание вечера. Остается надеяться, что Петька ничего не понимает в погоде и никакой бури не будет.
И был вечер, и буря была. И было утро после бури, когда Иванна проснулась среди мокрых роз на просторном балконе, наглухо затянутым полосатым тентом – сквозь дырочки в ткани тянулись нити света. Она лежала на желтом матрасе под салатовым пледом, а рядом, на расстоянии вытянутой руки, под таким же пледом спал Петька. Весь пол балкона был завален розами. Она лежала и смотрела на розы – они были на уровне ее глаз – крепкие, кофейные, алые и белые, мокрые и очень красивые.
– Алё, – сказал тихо кто-то взрослый.
Она повернула голову к балконному проему, где стоял ухмыляющийся лысый дядька в джинсовых шортах и с махровым полотенцем на плече, и сразу все вспомнила. Они с Петькой подготовились хорошо – взяли ножницы и большие пакеты, чтобы засовывать в них срезанные розы цветками вниз. Петька еще взял термос с чаем. Вобщем, это была военная операция. Но что-то они не учли. Возможно, то, что охрана работает и в дождь, а собакам никакая буря нюх не отобьет. В одной части парка они почти все розы ободрали и должны были быстрой рысью пересечь широкую центральную аллею. И вдруг они услышали собачий лай. Лай приближался, а с ним и голоса. Иванна посмотрела на растерявшегося Петьку и поняла, что сейчас потеряет сознание от страха. Их, детей из странной, но, несомненно, респектабельной школы, сейчас поймают – и все. Что значит «все», Иванна от ужаса не могла себе представить ясно. Но это будет сплошной, абсолютный позор. Иванна хотела бросить в траву охапку роз, которую держала в руках. Петька стоял столбом, прижимая к груди два пакета с цветами, и ужасно круглыми глазами смотрел на нее.
– Алё, – послышалось сзади. Они обреченно оглянулись и поняли, что в трех метрах находится санаторный корпус, невидимый из-за сплошного дождя.
– Быстро сюда, – сказал этот же голос, – бегом!
Кто-то протянул с балкона руки и сначала забрал у них розы, а потом втащил их по очереди – Иванну, а за ней Петьку – на балкон и втолкнул их в комнату. В большой комнате было тепло, пахло кофе, и двое – мужчина и женщина – их пристально разглядывали. Женщина сидела в большом кожаном кресле, закинув ногу на ногу, ела виноград, раскачивала блестящую босоножку на большом пальце ноги и улыбалась. Хмурый лысый дядька смотрел на них сверху вниз и что-то жевал. Пауза продолжалась примерно с минуту, и за это время с Иванны и Петьки натекло по луже воды, и Иванна, опустив голову, смотрела, как вода растекается по блестящему паркету. Им было, кстати сказать, по четырнадцать лет, они могли цитировать Эсхила и Софокла по-древнегречески, а однажды на спор целый день проговорили друг с другом на классической латыни.
– Юра, – сказала женщина. – Они заболеют.
– Хрена они заболеют! – отозвался лысый Юра, после чего принес откуда-то две больших махровых простыни и, разогнав их в разные углы, Иванну – в другую комнату, а Петьку – в ванную, велел им все с себя снять и укутаться с ног до головы.
Переодеваясь, Иванна слышала, как женщина сказала:
– Юра, их вещи надо в сушилку повесить – как раз до утра высохнут.
– Ну да, – сказал Юра. – До утра уж точно высохнут.
– Ну вот, – удовлетворенно покивал он, увидев в дверях два сиреневых кокона. – Уже веселее. Теперь идите пить алкоголь.
– Юра! – укоризненно сказала женщина. Она доела виноград и принялась за яблоко.
– Дура! – убежденно произнес Юра. – По пятьдесят граммов «Хеннеси» им надо тяпнуть. А то и по сто. Меня Юрий Иванович зовут. А эта тетя, которая жалеет для вас коньяк, это Станислава Николаевна, моя жена. Для вас – тетя Стася.
– Юра! – снова сказала женщина и извиняющимся тоном добавила: – Мы бы вас в другой комнате уложили, но там обычно спит моя сестра. Только она придет очень поздно.
– Если вообще придет, – хмыкнул Юра.
Наутро все казалось каким-то полуреальным. Но дядя Юра стоял в проеме балконной двери и улыбался.
– Завтрак принесли, – сказал он. – Вставайте завтракать.
И он положил на стул их одежду – мятую, но сухую.
Стол был накрыт на четыре прибора. Тетя Стася села за стол в длинном синем халате и белой шелковой косынке. Для того чтобы рассмотреть салат, она надела очки.
– А ваша сестра? – спросила Иванна.
– А? – тетя Стася рассеянно оторвалась от созерцания салата. – А-а, сестра… Она проснется к обеду.
– Если вообще проснется, – пробормотал Юрий Иванович.
– Юра! – дежурно воскликнула тетя Стася. – Дети могут подумать бог знает что.
На столе был загадочный разноцветный салат, жареное мясо, кофе и молоко и гора маленьких булочек.
Дядя Юра извлек из холодильника банку черной икры и соорудил им по безразмерному бутерброду – Иванна разрезала свой на четыре части, а единственный наследник барона Эккерта бессовестно разевал пасть и заглатывал сразу по большому куску.
Дядя Юра внимательно посмотрел на них, подумал и сказал:
– Ну ладно. Я вас через проходную проведу. Скажу, что ко мне приезжали… ну, скажем, племянники. Племянники – это нормально? Стася! Нормально это – племянники? Поверят мне?
– Что характерно, – вздохнула тетя Стася и подняла очки на лоб, – мой муж боится не только дежурных на проходной, продавщиц он тоже боится. И телефонисток… И…
– Врет, – твердо сказал дядя Юра.
Впрочем, ближе к проходной он стал шумно вздыхать и тереть переносицу. И напрасно. Дежурный в камуфляже вскочил из-за своего столика и, издалека отдав честь, прокричал радостно:
– Доброе утро, товарищ генерал-майор!
– Доброе утро, – пробормотал дядя Юра. – Вот, племянники гостили у меня. Ну, ведите себя хорошо, дети, – сказал он, передавая им предельно конспиративно запакованные пакеты со злосчастными розами. – Маму не огорчайте.
Иванна с Петькой, обалдев, вывалились за проходную и со скоростью света преодолели набережную и горбатый мостик через бурную после дождя горную речку.
– Да, – восхищенно сказал Петька. – Генерал-майор! Что доказывает, – он поднял указательный палец и стал махать им перед носом у Иванны, – что и в армии есть нормальные люди.
– Ну да, уши тебе не надрал, может, кстати, и зря, – пробормотала Иванна.
– И тебе не надрал! – обиделся Петька. – Легко быть принципиальной post factum. Каждый может…
В Школу ее привезла бабушка Надя. Иванне было тогда восемь лет. Ее родители были вирусологами и однажды, в две тысячи первый раз, спустились в свой родной до боли вонючий виварий, чтобы покормить подопытных крыс. Виварий в свое время был вынесен за пределы лабораторного корпуса и оборудован в парке, в старом винном погребе. Что говорить, погреба закладывались в восемнадцатом веке. Перекрытие, деревянный свод погреба, прогнило и рухнуло именно в то утро, когда они спустились туда. Они погибли под тяжестью балок и двухметрового слоя земли. Крысы были заражены штаммом тяжелого легочного вируса, нетрудно было себе представить, что стеклянные боксы, в которых они содержались, разбились, и руководство института, справедливо боясь эпидемии, запретило извлечение тел сотрудников. На место провала самосвалами возили известь, и известковый курган, на котором ничего не растет, стал им чем-то вроде памятника. Впрочем, панихиду отслужили и даже установили небольшую мраморную плиту с именами погибших. Иванна не запомнила этого, ей было тогда три с половиной года.
Стюардесса принесла ей сок.
– А водку можно? – спросила Иванна. Стюардесса принесла сто граммов водки и плед. Рюмку она дала Иванне, а пледом укрыла ее по грудь, постояла немножко рядом и ушла.
Пятнадцать лет назад, пятого декабря, в свой день рождения Дед должен был прилететь где-то к полудню, и Петька с Иванной с вечера запланировали, что они возьмут машину и приедут в аэропорт, сделают Деду сюрприз. Дед, вообще говоря, был решительным противником встречаний-провожаний, часто появлялся без предупреждения, но сегодня ему исполнялось шестьдесят лет, а из родных людей в этом мире у него был только шестнадцатилетний внук Петька и, по сопричастности, «хорошая девочка Ивон». Петька с Иванной целый месяц готовили ему подарок: в углу парка они по всем правилам сделали для него Сад Камней – он был скрыт от внешних взглядов ягодным тисом и кустами самшита, там, внутри, был какой-то особый микроклимат, – в общем, это место должно было стать собственным, приватным Садом Камней барона Эккерта.
С утра пятого декабря у Иванны заболело горло и резко поднялась температура. У них с Петькой на этой почве произошел маленький, но интенсивный конфликт, он орал: «Ты все, не едешь ни в какой аэропорт больная, я тебя не беру, дура!» – а Иванна, поскольку орать в ответ не могла (но очень хотела), говорила злым шепотом, что «ладно, ради бога, я тебя ненавижу, езжай куда хочешь…», на что он орал: «Я же о тебе беспокоюсь, ненормальная, с температурой 38, иди ты…»
В аэропорту Фрейбурга ее ждала машина, водитель Эккертов помог ей устроиться на переднем сиденье и заботливо укутал ей ноги точно таким же пледом…
…Машину Петька тогда поймал на трассе и отправился встречать Деда в гордом одиночестве. Начало декабря в том году было сырым и холодным. Накануне ночью на Перевале прошел дождь, к утру похолодало, и трассу затянула тонкая пленка льда, еще и не льда даже, способная мгновенно растаять в том случае, если среди серых туч над Перевалом хотя бы на минуту появится солнце…
«Рено», на котором ехал Петька, и встречный «Опель» сплющились друг от друга и были отброшены к опорной стене. От удара о стену «Рено», в который десять минут назад залили полный бак, взорвался, и силой взрыва со стены была стерта надпись «высота над уровнем моря – 654 метра».
Спустя пятнадцать лет Иванна стояла в фамильном склепе Эккертов. Провожающих было немного: дворецкий Семен Иванович, Генрик Морано – управляющий и друг Эккерта, и два старика – они были соседями Деда, владельцами сопредельных земельных угодий и бессменными его партнерами по преферансу. Все смотрели, как темный дубовый гроб заезжает в мраморную нишу. Дед занял место рядом со своей русской женой Еленой (слева) и со своим сыном Эриком (справа) и его женой Петрой – Петькиными родителями, которые в одну ночь умерли от передозировки героина в 1972 году на рок-фестивале в Дублине, куда они уехали автостопом, оставив двухмесячного Петьку на попечение Деда и няньки. Когда внуку исполнилось семь лет, барон Эккерт, ординарный профессор философии Фрейбургского университета, придумал для него школу и, преодолев немыслимые бюрократические процедуры министерств и ведомств, открыл ее в поселке Белая Пристань, на родине своей Елены, в старом ландшафтном парке, рядом с маленькой бухтой, в которой море было всегда немного теплее, чем в других местах на берегу. Для внешнего мира это была «экспериментальная специализированная гуманитарная школа-интернат для одаренных детей». На таком названии настаивало Министерство образования. Эккерт махнул рукой и сказал что-то вроде «хоть горшком назовите». Министр был приятно удивлен размером вознаграждения и обещал поддержку.
Через два часа она сидела в кабинете Деда перед его адвокатом. Он доставал из кожаной папки и последовательно передавал ей гербовые бумаги. Первый документ, который был ей передан, свидетельствовал об удочерении ее бароном Эккертом с правом наследования титула, замка, земельных угодий, распоряжения активами, ценными бумагами и денежными вкладами. Последующие документы подтверждали ее настоящее право на землю, деньги, движимое и недвижимое имущество восьмисотлетнего рода Эккертов. Она молчала, смотрела на бумаги, разложенные перед ней на массивном письменном столе, и понятия не имела, зачем ей это и что она с этим будет делать. В этот момент она не могла думать о будущем, осознавать, что теперь она – баронесса Эккерт, она понимала только, что волю Деда, равно как и эту судьбу, она должна принять – получается, что он попросил ее об этом. Через три дня она вернулась домой.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.