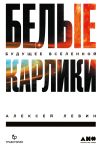Текст книги "Бедный маленький мир"

Автор книги: Марина Козлова
Жанр: Детективная фантастика, Фантастика
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 10 страниц)
Алексей
– И больше ты не видел ее? Я имею в виде, после того как она уехала?
– Нет, – сказал он, – это было бы вторжение, смятение, ничего хорошего из этого не вышло бы. К тому же спустя двадцать с лишним лет… Теперь это совершенно другая женщина. А так – то была волшебная сказка. С эльфами и лилиями, с заколдованным озером. Что-то в этом роде. И ничего подобного со мной больше не было никогда.
– Ты уверен, эта история должна появиться в книге? – спросил я его. – Учитывая твои цели…
– Пишите, Шура, пишите, – лениво сказал он, вытянулся на ковре во всю свою двухметровую длину и заложил руки за голову. – А там… Должна, не должна. Это не твоя печаль. Это печаль моего имиджмейкера Данилы, не к ночи будет помянут. Видит бог, как же я их ненавижу. Умники, блин. Криейторы, блин. Это, блин, какие-то интеллектуальные мутанты. Но без них нельзя. Они, видите ли, структурируют реальность. Превращают реальность в действительность. Тебе, Леха, надо сколько водки выпить, чтобы въехать, чем реальность отличается от действительности?
– Ведро, – неуверенно сказал я.
– Мне – два, – уверенно сказал он, перевернулся на живот и стал меланхолично рассматривать синий ковровый ворс.
– Саша, зачем тебе в Парламент? – спросил я его.
– Чтобы внести свой скромный вклад в строительство нашего независимого государства.
– Иди ты.
– Лешка, ну ты же умный мальчик, писатель все-таки. Ответь себе сам.
– Чтобы лоббировать интересы своей коксохимической монополии и стелить соломку своим бразильцам или какие у тебя там еще есть партнеры…
– Вот умница, – удовлетворенно сказал он, сел, прислонившись спиной к стене, согнув ноги в коленях, и, подняв брови, принялся рассматривать меня в упор.
– Ты чего? – спросил я его. – Прикидываешь, сколько бабла заплатишь киллеру за мой скальп?
– За твой скальп, за твою наглую рожу и за твои коренные зубы… – без улыбки сказал он. – Что бы я без тебя делал?
– Что? Что бы ты – что?
– С кем бы я тогда разговаривал?
Пугающая способность к прямоте и откровенности, не раз поражавшая меня и после, – это и была его сила? Мы совершенно по-разному понимали элегантный тезис Витгенштейна о том, что «все, что может быть сказано, должно быть сказано, об остальном следует молчать». Я считал, что Витгенштейн, собственно, утверждал, что иногда лучше жевать, чем говорить, а он считал, что Витгенштейн утверждал прямо обратное. В любом случае он, Сашка, был отчаянней меня.
– Ты бы разговаривал с Данилой, – сказал я ему, чтобы что-то сказать.
Он нашарил левой рукой кофейную чашку и метнул мне в голову.
Я увернулся, чашка попала в диванную подушку.
– Не разбилась, – с сожалением констатировал он. – Счастья не будет…
Счастья не будет, оставь ожиданья подросткам, нынешний возраст подобен гаданию с воском… что-то там тра-ля-ля… пахнет весной, мое солнышко, счастья не будет… Есть такой поэт Дима Быков, это он написал.
– Есть такой Дима Быков, – машинально согласился я. Может, мы много выпили?
Нет, мы немного выпили. Мы граммов по пятьдесят виски выпили.
– Не бросай меня, – сказал он, прицельно и бесстрашно глядя мне в глаза. – Ты мне как бы… Это называют по-разному. В основном это называют дружбой. Суть дела от этого не меняется. Я подумал: вдруг меня убьют и я не успею тебе этого сказать…
– Как же я брошу тебя, такого придурка, – с непередаваемо сложным чувством сказал я ему. – Я буду тебя лечить от раннего маразма. У меня есть знакомый психиатр.
– Вот и хорошо, – сказал он, улегся на ковер и стянул плед с дивана, – я тут посплю чуть-чуть…
…счастья не будет, винить никого не пристало, влажная глина застыла и формою стала, стебель твердеет, стволом становясь лучевидным. Нам ли с тобой ужасаться вещам очевидным?
Лучше бы мы много выпили.
* * *
Приходит Надежда, открывает холодильник, выбрасывает из него протухшие котлеты и выливает за борт скисший борщ. Достает из сумки и кладет в холодильник лоток с отбивными, блинчики и копченое сало.
– Ты собираешься жить дальше? – спрашивает она меня, делая интонационное ударение на слове «собираешься».
– Нет, – говорю я ей.
– Зачем ты спустил яхту на воду?
– А куда я должен был ее спустить?
– Я приведу Троицкого, – говорит она.
– Уходи, – прошу я ее.
И она уходит.
* * *
«Галя навсегда уехала в Торонто, а через два месяца, вопреки всем моим размышлениям о беспредельной хреновости, пришла весна. На остановках и возле рынка бабушки продавали вербу, они говорили – «котики», – дело шло к Восьмому марта. Я тупо прогуливал школу – уходил на лодочную станцию, садился на шершавую перевернутую лодку, курил и читал. На Десне медленно таял лед, и жизнь, в осмысленности которой еще несколько дней назад я был не уверен ни на копейку, постепенно насыщалась теплым ветром и нежными перламутровыми сумерками. И я наконец понял, чего я хочу. Я понял, что хочу построить яхту и уйти на ней по Десне – на Днепр, по Днепру – в Черное море, а оттуда можно попасть в Мировой океан, который не имеет ни конца, ни края, только отдаляющийся горизонт. Но для того, чтобы построить яхту, нужны были деньги…»
– Ну чего ты смеешься, падла? – огорченно спросил он. – Иди ты к черту, не буду я тебе ничего рассказывать.
– Яхту построить… Так это и был основной мотив?
– Мотив чего?
– Ну, ты впервые понял, для чего тебе нужны деньги. Чтобы яхту…
– Мне деньги не нужны были, блин, – непоследовательно сказал он. – Мне хотелось яхту построить. Ты, Лешенька, какой-то тупой.
Он теперь флотилию может купить себе, не только яхту.
– Ну и что? – осторожно спросил я.
– Ничего. Деньги есть. Есть деньги, заводы, даже один водоплавающий танкер.
Только для яхты деньги – не главное, как выяснилось.
– А что главное?
– А не с кем было. Не с кем разговаривать, не с кем яхту строить, решительно не с кем поржать, напиться и главное – «Понедельник начинается в субботу» почитать некому. Вслух.
– Кончились твои страдания, – сообщил я ему и, не глядя, взял с полки любимое измочаленное худлитовское издание. – Фрисби!
Он, естественно, поймал.
– Неужели? – сказал он, счастливо глядя на меня поверх очков своим слегка расфокусированым взглядом.
– Читай, Санька, – сказал я севшим голосом. – В многомиллионной стране ты наконец нашел кретина, который способен отдать душу за возможность всю ночь слушать «Понедельник» в твоем исполнении. Сначала мы читаем «Понедельник», в перерывах жарим мясо, а потом будем строить твою яхту.
То есть я сам ему предложил. Потому что в этот момент я окончательно понял, что мне уже все равно – отчаянная придурковатость всей ситуации заключалась в том, что шутки шутками, но без него я сдохну от тоски и скуки, потому что во всем белом свете, во всем необозримом пространстве Мирового океана мне не с кем, решительно не с кем будет поржать.
Часть 2
Проснувшись в очередной раз и в очередной раз потерявшись в днях недели и времени суток, я собрался выползти наверх и вымыть палубу – всю ночь был ливень с ураганом и настоящий шторм на Днепре, и всю ночь меня рвало в гальюне, но не от морской болезни, а от того, что я накануне смешал виски с пивом, вероятно, потеряв последние остатки мозгов. А палуба, наверное, вся в иле и в песке. Только одно живое существо меня интересовало – наша яхта, о ней надо было заботиться, она должна была быть в порядке, в конечном счете все мои планы были связаны только с ней.
На корме сидела незнакомая барышня и читала книгу. Она сидела почти спиной ко мне, а на берегу работала помпа, и свист и чавканье, конечно, заглушили короткий вакуумный хлопок открывающейся двери. Так что она не оглянулась. Читала как у себя дома – на моей яхте! Я стоял в двух метрах и тупо смотрел на ее спину в белой ветровке.
– Доброе утро, – сказала она, и только после этого обернулась. Значит, слышала.
– Доброе утро, – сказал я ей. – Вообще-то это моя яхта.
Она пристально и совершенно открыто рассматривала меня – сонного, небритого, всклокоченного урода, и я, слава богу, не увидел в ее лице не удивления, ни сочувствия.
– Извините, – сказала она, – но ваш телефон не отвечает, вот я тут и сижу. Не хотела вас будить.
– Я в основном сплю, – зачем-то сообщил я ей, – вы могли просидеть тут до следующего утра.
– Ну, не беда, – сказала она.
– А зачем вы сидите? – наконец-то мне пришел в голову вопрос по существу.
– Вас жду.
– А-а.
Редкий по красоте диалог.
Он повертела на пальце серебряное кольцо.
– А почему вы не спрашиваете – «зачем»?
– Я спрошу, – пообещал я ей. – Если вы еще немного посидите, я почищу зубы и спрошу у вас – зачем.
Я спустился в гальюн и посмотрел на себя в зеркало. Ну, так и есть – небритый, помятый урод с сизыми синяками под глазами. Зачем я с ней разговариваю? Чего она приперлась? Меня нет, я умер вместе с Санькой тридцатого августа, в четверг, в три часа дня, и теперь бесконечно вижу одно и то же – как он выходит из машины, машет мне обеими руками у себя над головой, берет с заднего сиденья рюкзак, забрасывает его на плечо и я, стоя на другой стороне дороги, слышу, как звенят его пуговицы его ливайсовской куртки. Я хочу перейти дорогу.
– Леха, стой там, – кричит он мне, – я сам перейду.
Он делает шаг и вдруг останавливается, стоит и смотрит на меня.
– Ты чего, Сань? – говорю я.
Он делает еще шаг и падает лицом вниз, молча, не успев выбросить вперед руки.
Откуда они знали, что он выйдет именно здесь? Значит, знали. Мы обсуждали это по телефону – о том, что, прежде чем поедем на верфь, надо пойти пожрать в «Алкионе» – какую-нибудь курицу по-македонски, каких-нибудь дерунов со сметаной. И попить пива.
Когда я подбежал и понял, что произошло, я одновременно перестал видеть и дышать и, наверное, потерял сознание, а очнулся от того, что какая-то женщина кричала: тут два трупа, не знаю, стреляли, наверное, со стройки… В центре шла великая бесконечная стройка, строили новую Бессарабку, строили торговый центр, чего только не строили этим летом. Я открыл глаза и увидел Санькину руку ладонью вверх, увидел полоску незагорелой кожи под ремешком часов и длинную линию жизни. Потом увидел перепуганную девушку-гаишницу, это она кричала в рацию.
– Ты живой? – севшим голосом спросила она меня.
И я честно ответил ей:
– Нет.
– В каких отношениях вы состояли с потерпевшим? – спросил меня майор милиции в отчаянно-депрессивной минималистской комнате – в ней был только стол, стулья и сейф. Все грязно-желтое. И желтые стены. В этой комнате были созданы все условия, чтобы окончательно и бесповоротно свихнуться от отчаяния и тоски.
– Он мой друг, – сказал я ему.
– В смысле?
– В смысле – друг.
Вы в курсе, кто такой Владимиров?
– В курсе, – успокоил я его.
– А вы кто?
Я пожал плечами. Перед ним лежали все мои данные – паспорт, место работы, место жительства и имена родственников до седьмого колена.
– Какого хуя он ездил без охраны? – с чувством сказал майор, и я промолчал – вопрос был скорее риторическим.
Как я мог не заплакать – в этой желтой комнате, глядя на кофейные круги на этом поганом желтом столе? Такого со мной не было лет сто. Я, тридцатилетний взрослый мужик, плакал на глазах у майора милиции, молча, тяжело, безнадежно, глядя прямо перед собой.
– Вы свободны, – со вздохом сказал он мне. – Можете идти домой.
Идти домой я не мог. Дома был его спортивный костюм, его ноутбук, его синий свитер и мой диктофон с его голосом внутри. Диктофона я боялся больше всего. И поэтому я поехал на яхту, а спустя двое суток беспробудного одинокого пьянства я увидел Надежду, которая привезла мне жратву и какие-то шмотки. Носки там, трусы…
– Лешка, – говорила Надежда, – Лешка… Она сидела на корточках возле меня, валяющегося на койке, и пыталась гладить меня по голове. У нее получалось плохо, неловко, моя обостренная тактильность заставляла меня сжаться от трудноопределимого чувства – что-то между раздражением и стыдом от того, что она так переживает.
– Не смотри на меня, – попросил я ее. – Иди домой.
С тех пор она приходит с регулярностью курьерского поезда – раз в два дня, пытается меня кормить, но это полбеды, хуже, что она пытается со мной разговаривать. В последний раз, правда, вылив борщ в реку, она сквозь зубы сказала: «Да пошел ты…» – я услышал. «Бедная», – вдруг подумал я и впервые за много дней почувствовал что-то. Жалость, нежность. Это же моя Надюха, я ее люблю, у нее работа, ребенок, бывший муж, который убивает ее своим вялотекущим занудством, и я – в неопределенном агрегатном состоянии. Она ездит ко мне через весь город. В каком же напряжении она должна находиться все это время. Бедная… И эта девушка на корме – она готова была сидеть и ждать, пока я проснусь… И эта футболка на мне – в каких-то пятнах на груди. И руки… Пусть еще посидит, я должен привести в порядок руки. С такими руками нельзя подходить к людям, в конце концов это аморально.
* * *
Она никогда не обратила бы внимания на этот случай, если бы не одно странное обстоятельство. Александр Иванович Владимиров сказал перед смертью два слова, их отчетливо слышала юная гаишница, которая случайно оказалась непосредственно рядом с ним. Он сказал: «Белые мотыльки». И умер. В протоколе допроса этой девушки слова эти были зафиксированы, но в ходе следствия внимания на них не обратили, вероятно, сочли бредом умирающего. Следствие отрабатывало версию заказного убийства на экономической почве и реконструировало бизнес-среду Владимирова, структуру его связей и взаимоотношения с конкурентами. Появились даже подозреваемые, о чем моментально сообщили СМИ. Иванна и не узнала бы об этих словах никогда, если бы гаишница эта, единственная на весь город женщина в патрульно-постовой службе ГАИ, которую, кстати, звали Оксана Павленко, не оказалась соседкой Валика. Они по-соседски курили на лестнице, и Оксана пересказывала ему в деталях историю, которая так ее напугала. Белые мотыльки. Когда в офисе Валик произнес эти два слова, Иванна сама не заметила, как задела чашку и пролила кофе на стол и клавиатуру. Когда-то давно, в Школе, точнее, не в самой Школе, а в монастырском парке, Иванна и ее приятельница – сестра Валерия, в недавнем прошлом выпускница мехмата МГУ, ходили собирать каперсы. Сестра Валерия, в миру Маша Булатова, приняла постриг год назад, работала в монастырской библиотеке младшим библиотекарем и осваивала высокое искусство библиотечной каталогизации. Еще она преподавала математику в Школе и с Иванной они, несмотря на восьмилетнюю разницу в возрасте, как-то психоэмоционально совпали, стали общаться в свободное время, обсуждая в основном фантастику, а из фантастики – в основном Стругацких и Урсулу Ле Гуин. Свое интеллектуальное общение они периодически разбавляли исключительно дамской болтовней, содержание которой Иванна, спустя годы, уже плохо помнила. Еще Маша Булатова отлично рисовала карандашные миниатюры и писала сказки для детей.
Был июнь, вторая его половина, когда каперсы вот-вот зацветут, но дать цвести им нельзя, потому что самое ценное в каперсах – это их почки. Эти почки маринуют в растворе уксуса со специями и подают к мясу. Дедушка Эккерт всегда увозил с собой пару баночек и говорил: «Однозначно лучше, чем испанские».
Они собирали почки каперсов и ссыпали их в белое пластиковое ведерко. Иванна прошла немного вперед, к поляне за двумя большими круглыми кустами самшита и уже хотела было опуститься на колени перед стелющимся, как плющ, буквально распластанном по земле кустике каперсов, как почувствовала сзади звук и движение.
Она обернулась и увидела, что сестра Валерия, как-то неудобно поджав ноги, сидит на земле, держится за затылок и смотрит прямо перед собой.
– Ты что? – спросила Иванна.
– Белые мотыльки, – сказала она.
Иванна посмотрела туда, куда смотрела Маша покрасневшими расширившимися глазами. Никаких мотыльков не было, только нагретый воздух дрожал.
– Где? – спросила Иванна. – Машка, ты что?
– Мне плохо, – сказала она, закрыла глаза и упала на бок.
Она умерла через час в монастырском госпитале, от обширного инфаркта, в возрасте двадцати трех лет. Надо сказать, что сестра Валерия, еще будучи Машей Булатовой, получила звание мастера спорта по плаванию, плавала как торпеда, ходила в горы, занималась тайдзи-цюань в этом самом парке ежедневно после заутреней, и никогда не жаловалась на здоровье.
– И такое бывает, – утомленно сказал доктор Рат, хирург-кардиолог. – Молодые мужики мрут, здоровые, крепкие. Вот позавчера буквально. Водитель поселковой автобазы, тридцать лет. Дома вышел из душа, прилег на диван и привет. Ведь что такое инфаркт…
– А если ее убили? – спросила Иванна.
– Как? – поднял брови доктор Рат. – Кто? Я был на вскрытии. Обширный инфаркт миокарда, все как в учебнике, классика жанра, можно студентов приглашать.
– Ее убили, – сказала Иванна. – Надо поискать след инъекции.
– Да уж искали, – вздохнул Рат. – Мы с патологоанатомом, знаешь ли, большие поклонники Рекса Стаута. Поэтому искали. Но не нашли.
Иванна закрыла глаза и увидела сидящую на земле Машу.
– Она держалась за голову, – сказала она Рату. – За затылок. След может быть под волосами.
Он нахмурился, снял очки, потер глаза. – Волосы у нее красивые, – пробормотал он. – Длинные. Жалко.
И пошел куда-то по коридору, а Иванна осталась стоять в просторном, пустом солнечном холле кардиологического отделения госпиталя, в котором лечились все жители района Белой Пристани, а это ни много ни мало тысяч сто населения, не считая отдыхающих.
Бедной Маше обрили голову, но ничего не нашли. Взяли повторный биохимический анализ крови, который ничего не дал. То есть ничего не было в крови у Маши – здоровая кровь молодой здоровой женщины. Сестру Валерию отпевали на следующее утро и даже на отпевании Иванна слышала шорох листьев и какой-то звук за спиной и постоянно оглядывалась, так что в конце концов Петька протиснулся к ней, крепко сжал ее руку и свирепо прошептал ей в самое ухо:
– Стой спокойно! Чего ты вертишься?
«Белые мотыльки, – говорила она про себя. – Белые мотыльки».
Что это за мотыльки, прости господи? Что она увидела? Или услышала? Или вспомнила? Что-то настолько важное, что именно эти два слова ей нужно было сказать. Предположим, вспомнила. Или – поняла.
– Ты путаешь воображение с интуицией, – сказал ей Петька тем же вечером – они сидели на камнях в тени скалы, было сыро и прохладно, и Иванна куталась в полотенце, но идти в корпус не хотелось, не хотелось видеть никого, кроме Петьки. У Иванны была маета. Ей не давала покоя эта история.
– Ты напридумывала себе какой-то злой умысел и всякую мистику вокруг этого и считаешь, что прозреваешь суть, – развивал свою мысль Петька, – а у нее был глюк – вполне, наверное, объяснимый с медицинской точки зрения. Резкий скачок давления, например. Сужение сосудов, что-то в этом роде.
Почему-то ей расхотелось обсуждать что-либо с Петькой. Вполне возможно, что он прав, а у нее – паранойя.
– Если бы я прозревала суть, – сказала Иванна, – то я бы понимала, что произошло. А так я строю всякие версии – одну глупее другой.
Монастырь ордена урсулинок был построен при прямом участии Деда. С этим монашеским орденом барон Эккерт нашел общий язык довольно давно, когда еще была жива его Елена. После смерти сына и невестки Эккерты стали осуществлять систематические пожертвования в возрождение католичества и гуманитарной сферы в Украине, а урсулинки как никто были озабочены развитием католических образовательных программ, и за это постоянно терпели обвинения в прозелитизме со всех сторон: во многих вопросах непримиримые противники – Киевский и Московский патриархаты проявляли в этом вопросе трогательное единодушие. Ситуацию несколько гармонизировал визит Иоанна Павла, за здоровье которого Иванна в последнее время молилась ежедневно и против воли всегда плакала, когда видела его по телевизору, – такой он уже старенький и слабый. Монастырь и школа – да, это было очень логично. Монастырь в представлении Эккертов должен был быть интеллектуальным ресурсом, школа – прямой реализацией этого ресурса: возможностью, шансом, точкой роста. Это был приятный и красивый во всех отношениях проект, и женский монашеский орден Святой Урсулы его поддержал. Была объявлена перспектива разворачивания целого корпуса гуманитарных исследований – логико-философских, теологических, психолого-педагогических, а также по истории, логике и методологии науки. Были объявлены две программы – программа разработки методов современной гуманитарной экспертизы и программа проектирования миссий… И через несколько лет монастырь урсулинок по количеству профессуры на душу населения района Белой Пристани мог дать фору любому университетскому городку Европы. Это был правильный проект, очень католический и религиозный в строгом смысле этого слова. Иванна, правда, пыталась как-то упрекнуть Деда в излишней «умственности», в избыточной расчетливости, как бы даже искусственности всего этого дела, путаясь, говорила ему что-то о естественных процессах, об истории и о том, что дух дышит, где хочет… Дед ответил ей тогда, что, с его точки зрения, создание оплотов веры, особенно в этом, новом мире, это и есть создание мест концентрации сил и ресурсов. И он, Эккерт, для этого ни средств не пожалеет, ни души. «Мое личное время жизни мне неизвестно, но оно не бесконечно, Ивон. Моложе я не становлюсь. Вот пока у меня время есть – я и делаю это…»
Иванна когда-то спросила Машу, зачем, собственно, точнее, почему она, вундеркинд, выпускница мехмата с красным дипломом, вместо того чтобы ехать работать в Силиконовую долину, куда ее заманивали начиная с четвертого курса, вдруг приехала сюда, на украинский юг, в монастырь урсулинок.
– Ну, – сказала сестра Валерия, – у такого выбора всегда есть интимная сторона. В вере есть интимная сторона. То, с чем плохо справляется язык. Так что извини.
То есть, если бы она начала рассказывать о каких-то жизненных обстоятельствах или даже об обстоятельствах интеллектуального выбора (именно на это в глубине души рассчитывала Иванна, задавая свой вопрос), ответ забылся бы со временем в силу субъективности самих обстоятельств, а так – запомнился. Иванна поняла тогда, что она получила что-то большее, чем ответ. Что-то вроде знания о том, что на такие вопросы человек может отвечать только сам себе, пользуясь внутренней речью и не нуждаясь в собеседнике.
* * *
Я старательно вымыл руки, умылся, натянул свитер и поднялся наверх. Во время моих водно-рефлексивных процедур в послегрозовом небе появилась аккуратная круглая брешь, и туда ровнехонько, край в край, вошло солнце. Оно было не очень ярким, но все равно после ровного полумрака каюты я сощурился и так смотрел на нее, на эту деликатную и терпеливую барышню, которая хоть и приперлась без приглашения, но зато никуда не торопилась и, самое главное, не торопила меня. Потом я часто буду смотреть на нее так и видеть ее как бы в расфокусе или зажмуриваться на секунду и снова смотреть, самостоятельно производя визуальный эффект, который кинематографисты называют flash – вспышка. Это благоприобретенный за время общения с нею рефлекс, который, наверное, срабатывает во мне затем, чтобы сгладить внутреннюю неловкость в тот момент, когда она что-то говорит мне, а я понимаю, что уже давно не слушаю ее – только смотрю. Она же, я думаю, объясняет это моей близорукостью или же моим идиотизмом. Возможно, и тем и другим сразу. Но в силу своей деликатности она, конечно, ни разу не сообщила мне всех своих соображений.
* * *
– Меня зовут Иванна, – сказала она. Он молчал и щурился, и Иванна подумала, что он, вероятно, носит очки. Он действительно как-то вяло похлопал себя по карманам, но ничего не обнаружил или забыл в какой-то момент, что же он ищет. И опустил руки.
– Леша, – сказала Иванна, – я тут замерзла уже совсем. Сделайте мне чаю.
«Он как грустная птица с грустным носом», – сочувственно подумала она, наблюдая, как друг Александра Владимирова возится с заварочным чайником.
– Ну, говорите уже, – пробормотал он, – зачем я вам нужен. Не томите.
После чего надел все-таки очки, сел напротив и стал смотреть на нее, подпирая ладонью щеку, еще больше усиливая сходство с грустной птицей. С дроздом, например. «Грустные носы при необходимости легко превращаются в носы надменные», – продолжала Иванна свои антропометрические наблюдения. Она уже знала, что вокруг них с Владимировым ходили слухи определенного свойства. «Жалко, если… – подумала Иванна и удивилась этой своей мысли. – Он мне нравится, что ли? Просто хорошее лицо.
Глазастый, губастый, носатый семитский тип, который при ближайшем рассмотрении вполне может оказаться потомком какой-нибудь старой казачьей фамилии из какого-нибудь Гуляй-Поля или Гайворона Запорожской области».
Пока Иванна пребывала в состоянии невнятного внутреннего бормотания, сидящий напротив друг Александра Владимирова трижды переменил позу, закурил, поменял местами чайник и сахарницу и наконец глубоко вздохнул, давая понять, что пауза уже раздражает.
– Я работаю экспертом МЧС, – сказала она. – Наш отдел занимается ситуациями, которые попадают под определение чрезвычайных, но имеют такую степень сложности, что оперативно-спасательные мероприятия не помогают в их решении. В министерстве такие ситуации называются социогенными, но это неточно. Плохое название. А другого нет. В общем, спасатели работают с тем, что «после». Или с тем, что «во время». А мы работаем с тем, что «до». С причинами, с намеками, с первыми звоночками.
– И с запахом серы? – спросил он и улыбнулся.
– И с запахом серы, – кивнула Иванна. – Со всяким таким… Мы пытаемся иметь дело с реальностью, которая, как правило, не дается. Плохо работаем, провально. Но иногда получается.
«Чего это я стала рассказывать ему о наших методологических трудностях?» – удивилась себе Иванна.
– А чем реальность отличается от действительности? – как-то напряженно спросил он.
– Всем.
– Всем?
– Абсолютно. Я вам потом расскажу. А пришла я спросить, не рассказывал ли вам Владимиров что-нибудь о белых мотыльках.
– О мотыльках? – он озадаченно посмотрел на нее. – О белых? В принципе, он о многом мне рассказывал. Обо всей своей жизни. Я же книгу писал. Но о белых мотыльках… Не знаю. Мне кажется, нет. Или когда много выпили. Но в этом случае я не помню.
– Ясно, – кивнула Иванна. – Спасибо вам. Спасибо за развернутый ответ.
– Развернутый и совершенно бесполезный, – сказал он и кончиками пальцев погладил круглый бок заварочного чайника. – А зачем вам белые мотыльки?
«Не врет, – подумала он, – не знает. Не знает и тогда не слышал. Девочка Оксана, наблюдательная гаишница, сказала, что он был в шоке тогда. И сознание терял. Не мудрено».
* * *
Главная странность этого нашего разговора была, собственно, в том, что я вообще почему-то с ней разговаривал. Как ни в чем не бывало и даже не без удовольствия. Разговаривал, чаем поил, отвечал на вопросы. Впервые через две недели после Сашкиных похорон. Почему, не понимаю. Может быть, потому, что она заинтриговала меня обещанным рассказом о том, чем реальность отличается от действительности. А может быть, потому, что Сашка, умирая, сказал «белые мотыльки». Какая-то девушка, монахиня, пятнадцать лет назад произнесла точно такие же слова. И тоже – перед смертью. «Я хочу понять, – сказала мне Иванна, – мне это все сильно не нравится. Все эти мотыльки. Может, это не моя территория. Но я хочу разобраться. Вы можете присоединиться. Если хотите».
Да, я думаю, что как специалист по первым звоночкам с запахом серы она должна была сделать стойку. Даже обязана.
После того как она ушла, я забрался в холодильник и съел все, что в нем было – котлеты, увядший огурец, сырок с изюмом и краковскую колбасу. После чего позвонил Надежде и сказал, что она может больше не приезжать.
– Почему? – испуганно крикнула она, и связь оборвалась.
Я набрал номер снова и сказал:
– Я тебя люблю, Нюся. Ужасно. Ужасно люблю, в смысле. Я сам к тебе заеду – по дороге домой.
Пока я заводил яхту в эллинг, возился с лебедкой, оттирал ветошью испачканную машинным маслом ладонь, случились сиреневые днепровские сумерки и я задержался на минуту, наблюдая дрожание рябинового листа на потемневшей воде.
* * *
В последние дни он присматривался к «своей девочке» и так, и эдак. Не то чтобы она была неадекватной – она всегда была адекватной, но что-то было не так. Она была не такой, как всегда. Во-первых, она замолчала. И так не очень разговорчивая, Иванна замолчала вообще. Только «да» и «нет». Особой работы не было, и Виктор не приставал. При этом ничто на работе не происходило такого, что бы заставляло ее нервничать, а в том, что она именно нервничает, напрягается и переживает, он не сомневался. Он не столько знал ее, сколько чувствовал. И вынужден был с огорчением и тревогой признать, что это что-то личное, причем настолько личное, что даже ему, Виктору, она ничего не скажет.
– Поедемте в кабак, баронесса, – сказал он ей как-то ближе к концу рабочего дня, включая свет и отмечая, что день неумолимо становится короче. – Поедемте. Коньяку выпьем, съедим твоих любимых морепродуктов много. Суп из морепродуктов, салат из них же, кальмары, жаренные в кляре, и даже на десерт – маленькие осьминожки в яблочной карамели. А?
– Фу, гадость – сказала Иванна.
– Что значит «фу, гадость»?
– Осьминожки в карамели.
– То есть против остального ты в принципе ничего не имеешь.
– Не имею, – сдалась она. – Поехали. Только ты уж насчет коньяка не обмани.
Он так обрадовался, что совершенно не придал значения этой фразе. И только в «Базилике» понял, что все это значило. Баронесса Эккерт на протяжении целого вечера только и делала, что, потупив взор, молча и старательно напивалась. И успешно напилась еще до десерта. Виктор смотрел на нее во все глаза. Иванна, «его девочка», которую можно было под стеклянным колпаком экспонировать в Палате мер и весов в качестве эталона умеренности во всем, была в таком состоянии, в котором он не имел счастья видеть ее никогда. Правда, она по-прежнему молчала. Не жаловалась, не рассказывала ничего. Сказала только: «Я пьяная как свинья, Витя. Меня пора эваку… – она ненадолго задумалась и решительно продолжила: – Куировать домой». Домой он ее эвакуировал на такси, а в подъезде, не долго думая, взял на руки и поднялся с ней на руках на четвертый этаж – лифт конечно же не работал. «Я вполне могу идти сама», – пробормотала она ему куда-то в область солнечного сплетения, и он кожей под тонкой шелковой рубашкой почувствовал ее горячее дыхание. «Уложи ее спать и уходи», – скомандовал он себе. «Немедленно и бегом». Наверное, он так бы и сделал, потому что привык уже совершать нечеловеческие волевые усилия, общаясь с ней последние года полтора, но, как только он уложил ее на диван и выпрямился, она сказала:
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.