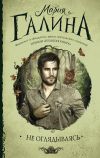Текст книги "Все имена птиц. Хроники неизвестных времен"

Автор книги: Мария Галина
Жанр: Социальная фантастика, Фантастика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 14 (всего у книги 69 страниц) [доступный отрывок для чтения: 22 страниц]
– Извините, – сказала Петрищенко.
Вахтерша проснулась и мрачно посмотрела на нее.
– Меня должны ждать, – сказала Петрищенко, с наслаждением опустив чемодан на холодный линолеум, и вдруг неуверенно добавила: – Наверное.
– Кто?
– Романюк. Стефан Михайлович. Он в двадцать второй.
– Наверх не пущу, – сказала вахтерша равнодушно.
– Но мне очень надо.
– А вы кто? – спросила вахтерша.
– Мне по работе, – сказала Петрищенко то, что все говорят в таких случаях. – У меня к нему дело. Я вот… пароходство.
– Документы, – равнодушно бросила вахтерша.
Петрищенко начала рыться в сумочке в поисках удостоверения. То ли она взяла его с собой, то ли нет… Ведь если вдуматься, оно ей наверняка больше не понадобится.
– Лена Сергеевна!
Вася спускался по лестнице, вид у него был какой-то помятый.
– Вася, – обрадовалась она, – Стефан Михайлович на месте?
– На месте… теперь никого нет на месте, – неопределенно ответил Вася. – Вообще никого нет.
Он подошел к вахте, и, отодвинув Петрищенко, взял телефонную трубку, и, прижимая ее плечом к уху, стал набирать номер.
– Вася, погоди. Ты что, выпил? Где Стефан Михайлович? Что вообще происходит?
Вася отмахнулся от нее, как от мухи.
– Как хоть вчера прошло?
– Нормально прошло, – сказал Вася. – Все путем. Любимый город может спать спокойно. Але? А можно Белкину? С работы. Это секретарь комсомольской организации. Она на работу не вышла. Что? В больнице? А в какой? На Слободке? А она… в сознании? Напугал кто-то? Не хочет говорить? Скажите в какой, мы подъедем. Обязательно. Мы всегда… навещаем своих больных.
Он положил трубку и поглядел на Петрищенко исподлобья.
– Вот так, – сказал он наконец. – В больнице Белкина. Говорят, шок. Говорят, обойдется. Ну, в общем, повезло ей. Хотя, в общем, не повезло…
– При чем тут Белкина, Вася? Я ничего не понимаю.
– А вам и не надо понимать, Лена Сергеевна. Все кончилось. Не думайте об этом.
– А… где Стефан Михайлович?
– Наверху.
– Он здесь?
– Нет.
– Вася, что ты мелешь?
– Да не важно все это, – сказал Вася неохотно. – Где он, это, ну, не важно. А вы, я вижу, с чемоданом.
– Ну, я подумала. – Она бессознательно оправила прическу. – Решила поехать. Поглядим что да как. Может…
– И билет купили?
– Еще нет, – сказала она. – Думали, вместе купим. Чтобы вместе ехать, ну.
– Хорошо, – сказал Вася. – Сдавать не придется.
– Вася, я же вижу, что-то случилось. – Она почувствовала, как ноги противно слабеют. – Я хочу его видеть. Он вообще… жив?
– Беспокоитесь, – сказал Вася вяло, – а зачем? Лучше бы к Белкиной в больницу сходили. Принесли бы ей апельсинов, что ли. Этих, марокканских. Бабкину вон кто-то носил апельсины, а Белкина чем хуже?
– Вася, я хочу его видеть.
Петрищенко попыталась крепче ухватиться за конторку и только теперь заметила, что в ладони у нее зажато удостоверение, выуженное со дна сумочки. На неровной стенке за спиной вахтерши висел синенький морфлотовский плакат, и белый сверкающий теплоход на нем уплывал, уплывал, уплывал…
– Ну, он сейчас спустится, – Вася пожал плечами, – если хотите. А я пошел.
– Куда?
– Какая разница? – сказал Вася. – Мир большой. И имейте в виду, теперь есть кому его держать. По крайней мере один угол.
У двери он остановился, обернулся, покачал головой и вышел. Она осталась стоять у конторки, сжимая удостоверение в руке.
Вахтерша покосилась на нее, потом достала растрепанную книжку и стала читать. Петрищенко машинально посмотрела на обложку. Вахтерша читала «Двенадцать стульев».
В голове было пусто. И еще она вспомнила, что не выспалась, потому что легла поздно и долго не могла уснуть, а потом рано встала. И еще болели ноги. Наверняка вены. Все-таки чемодан слишком тяжелый. Не женский чемодан.
Она почувствовала, что ей смотрят в спину.
Романюк стоял в холле, за проходной, в своем долгополом черном пальто, руки засунуты в карманы, словно его знобило. Она не видела, как он спустился.
Он молчал, и она почему-то ощутила странную робость и неуверенность, словно школьница на первом свиданье.
– А я… вот. – Она зачем-то показала на чемодан. – Я подумала… ничего, что я так рано?
Он молчал.
– Как ты думаешь, можно здесь оставить чемодан? Пока мы сбегаем за билетами. Пока нет очередей… – Она сбилась и замолчала.
Она вдруг сообразила, что не знает, как его называть. Должно же быть какое-то сокращенное имя, ласкательное. Как-то же его звали в детстве? Жена как-то звала…
– Лена, – сказал он тихо, – иди домой.
– Но мы же решили, вместе решили, – она почувствовала, как внутри у нее что-то плавно, словно осенний лист, оторвалось от ветки и полетело вниз, – вчера.
– Это было очень давно, Лена, – сказал Романюк.
– Да нет же. – Она бессознательно теребила шарфик. – Вчера вечером, ну. – Она покраснела быстро, как будто по ее лицу прошла тень алого полотнища.
Глаза Романюка были пустые и отсвечивали, точно две серебряные луны.
– Лена, – повторил он терпеливо, как назойливой собаке, – иди домой. Домой, домой.
– Но…
– Меня больше не бывает. Ты не туда пришла.
– Ты… сошел с ума? – медленно спросила она.
– Нет, – сказал он тихо. – Нам повезло. Никто не сошел с ума. Даже та девочка. Но ты иди домой. Я не знаю тебя. Я больше никого не знаю. И вообще мне надо идти. У меня много дел.
– Хорошо, – сказала Петрищенко. – Хорошо, но как же… Ладно, не важно.
Она повернулась.
Она шла медленно, потому что ждала, что он все-таки позовет ее или, по крайней мере, скажет что-то очень важное, но вслед ей пронзительно закричала вахтерша:
– Женщина, вы забыли чемодан!
– Возьмите его себе, – сказала Петрищенко.
* * *
Мимо прошел троллейбус, почти пустой, наверное из парка, но она даже не прибавила шагу, чтобы успеть к остановке, где хохотали взахлеб две девчонки лет шестнадцати. А у нее ноги стали очень тяжелыми, она еле передвигала ими, но идти все равно было приятно, хорошо было идти, с утра народу было немного, все на работе, в продуктовом сквозь стеклянную витрину было видно, как сонная продавщица кормит из блюдечка сонную кошку. Наверное, надо зайти, купить чего-нибудь поесть, дома совсем пусто. Тем не менее она миновала магазин, не заглянув в него. Около входа в Политехнический стояла группка студентов с трубками для чертежей и чертежными досками в больших холщовых сумках. К ее ногам упал колючий зеленый шарик, сквозь раскрывшуюся щель, словно из-под век какой-то ящерицы, мигнул влажный каштановый глаз. Она уже занесла ногу, чтобы отпихнуть его носком ботинка, но передумала.
Дома, в прихожей, она постояла некоторое время около зеркала, разглядывая морщины у глаз, припухшие веки, тусклые, пересушенные волосы. Потом размотала кашне, стащила пальто, бросила его на галошницу и прошла в комнату. Генриетта сидела у маминой кровати и читала вслух «Стихи о Прекрасной Даме». Мама спала.
Растут невнятно розовые тени,
Высок и внятен колокольный зов,
Ложится мгла на старые ступени…
Я озарен – я жду твоих шагов.
Рядом на полу стояла неубранная утка, в которой в озерце желтой мочи плавал кусочек марли. Генриетта отложила книжку и виновато поглядела на нее.
– Вы можете идти, – сказала она.
– А как же… – Генриетта уже нацелилась пожить здесь с недельку, сумка ее с вещами стояла рядом, у стула, из нее выглядывала байковая ночная рубашка в зайчиках.
– Планы изменились, – сказала она. – Да, и деньги верните. Те, которые я заплатила вперед. И вообще, можете отдыхать, ну, скажем, неделю. Я больше не пойду на работу. Ни сегодня, ни завтра.
– Извиняюсь, но я оставлю себе двадцатку, – сказала Генриетта, поднимаясь. – За беспокойство.
Она жила в коммуналке с сумасшедшим сыном и пьющим соседом и расстроилась оттого, что ей придется туда вернуться так быстро.
– А вашей маме нравится, когда я ей читаю.
– Я сама ей почитаю. – Петрищенко подняла раскрытую книжку, посмотрела…
– Это моя книжка, – тут же сказала Генриетта.
– Не волнуйтесь, не съем.
Генриетта взяла сумку и поплелась в прихожую. На ссутулившейся спине отчетливо вырисовывался горбик.
Гадай и жди. Среди полночи
В твоем окошке, милый друг,
Зажгутся дерзостные очи,
Послышится условный стук.
– А можно я поем немножко? – спросила из прихожей Генриетта.
– Можно, если найдете что, – равнодушно сказала Петрищенко.
Генриетта наверняка позавтракала, как пришла, Петрищенко ей всегда оставляла сыр и хлеб на бутерброды, но у нее начинался тот же старческий страх, что был у мамы, – остаться без еды. Еду надо запасать впрок, а если не получается, то хотя бы много есть. Наверное, это такой родоплеменной страх, древний, потому что первобытные люди не кормили своих стариков. Она где-то читала, что мало кто тогда доживал до старости, – наверное, старость им вообще должна была казаться чем-то вроде неизлечимой болезни со смертельным исходом.
И мимо, задувая свечи,
Как некий Дух, закрыв лицо,
С надеждой невозможной встречи
Пройдет на милое крыльцо.
– Я тебя ненавижу, – сказала она тихо и яростно. – Ненавижу, ненавижу, ненавижу. Это все из-за тебя. Я так старалась быть хорошей. Всем угодить. Потому что иначе никто бы не стал на меня смотреть. Никто не стал бы меня любить. Я старалась быть хорошей, а теперь из-за меня погибли женщина и ребенок. Потому что пожалела Леву. А не надо было жалеть, он трус, дурак и карьерист. Худшее сочетание. А мне хотелось ему угодить. Всем угодить. Зачем? По привычке. Тебе угодить. Зачем я старалась? Ты все равно меня никогда не любила.
Старуха молчала и чмокала во сне сморщенными губами в темных вертикальных морщинах.
– Я себя уже не переделаю, – сказала Петрищенко. – А если я буду стараться не быть очень хорошей, я смогу быть только очень плохой. Понимаешь?
Старуха не ответила.
Петрищенко встала, положила раскрытую книжку на кровать переплетом вверх, и подошла к окну, перегнулась, ощущая, как острое ребро подоконника врезается в живот, и посмотрела вниз. Отсюда все казалось очень маленьким и каким-то головоногим.
Она подумала и перевесилась еще сильнее. Было не страшно, а даже как-то весело, мир перекосился и под таким углом воспринимался как-то несерьезно.
– Мама, ты что?
Она сползла обратно, в комнату, нащупала ногами пол.
– Ты так висела, – сказала Лялька, – я испугалась.
– Ничего. – Она зачем-то провела рукой по волосам, оказывается, они выбились из пучка, когда она свешивалась вниз.
– А я думала… что ты уехала. Ты же собиралась.
– А фиг тебе, – сказала Петрищенко.
– Ты вообще в порядке?
– Нет.
– А я думала… – сказала Лялька и переступила с ноги на ногу. – Я думала, пока тебя не будет, может…
– Собираешься перебраться к своему Вове? Валяй.
– Я думала, может, он поживет тут?
– Вова? Что вдруг?
– Ну, мама, – назидательным тоном сказала Лялька, – бывает так, что люди решают жить вместе.
– Надо же! – восхитилась Петрищенко.
– Люлечка, – раздалось из прихожей, – ты где?
– Это еще кто?
– Так Вова же, мама, – терпеливо объяснила Лялька, – мы думали, ты уехала. Ну и решили, понимаешь, попробовать. Может, получится? Вместе. Мама, это же пробный брак, сейчас все так делают.
– Все так делают? – переспросила Петрищенко. – Ну конечно. Как это я раньше не догадалась. Знаешь что?
– Что?
– Живите. Я вам не помешаю? Нет? Ну и ладно. Живите. Веселее будет.
– У тебя точно не все в порядке, мама, – с завидной проницательностью сказала Лялька. – Я же говорила, в твоем возрасте глупо заводить романы.
– Сама дура, – сказала Петрищенко.
– Люлечка, – повторил голос, приближаясь, – ты где? Ой, извините.
Петрищенко посмотрела на Вову. Вова был худенький, узкоплечий, в очках, в клетчатых нелепых штанах. Увидев Петрищенко, он неуверенно улыбнулся, и стало заметно, что зубы у него мелкие, а клыки сильно выдаются.
– Вова, – сказала Петрищенко вежливо, – очень приятно, Вова.
Потом поманила Ляльку пальцем.
– Ты знаешь, – сказала она шепотом, – а без этих штанов он гораздо лучше смотрелся.
* * *
Даже отсюда было слышно, как море грохочет о волнорез, мутные массы воды перекатывались через бетонные плиты, чайки растерянно орали над волной, их относило в сторону, точно мокрые комки перьев.
Плакат у входа в здание СЭС поменялся. Теперь на нем было написано «Навстречу Олимпиаде-80» и красивый спортсмен, пригнувшись, собирался кинуть диск. Розка подумала, что наступит ночь, потом утро, потом шторм утихнет, а спортсмен будет, все так же пригнувшись, держать в руке диск. Пока его, спортсмена, не заменят на какой-то другой плакат.
– А где Елена Сергеевна? – спросила Розка.
Комната была пустая, а когда она заглянула в кабинет, там почему-то сидела Катюша и сосала конфету. Конфета оттопыривалась у нее за щекой, как флюс.
– А нету Елены Сергеевны, Розочка.
– А когда она будет?
– А чего тебе надо? – ласково сказала Катюша.
– Обходной подписать.
– Увольняешься?
– Да. Мне готовиться надо. А здесь не получается… готовиться.
– Вот довели тебя, бедняжку. – Катюша сочувственно покачала головой. – Лица нет. Плохо, небось, в больнице было, а? Ну ладно, давай подпишу. И больничный давай.
Розка машинально протянула ей обходной и синенький больничный лист с треугольным штампом.
Катюша внимательно изучила больничный.
– Нет прогулов? – спросила она строго. – А то выговор тебе, уж извини. С занесением. Не волнуйся, шучу.
– Нет, – сказала Розка равнодушно. – Прогулов нет. Мне сегодня утром закрыли.
– А может, передумаешь, – спросила Катюша, – увольняться-то?
– Не-а, – сказала Розка. – Не передумаю.
– А то мне молодой специалист нужен. Опыт передавать.
– Не хочу я… опыт.
– Ну, как знаешь, – сказала Катюша и подписала обходной.
– А… где Вася? – поколебавшись, спросила Розка.
Она сама не знала, для чего она хочет видеть Васю. Может, чтобы ударить его по лицу и наконец заплакать? Она почему-то разучилась плакать. Может, хотя бы так получится.
– А нет Васи больше, – с удовольствием сказала Катюша. – Уехал Вася.
– Далеко?
– Дальше некуда.
– А кто же есть? – спросила Розка растерянно.
Двойные рамы в кабинете были проложены ватой (раньше этого не было), и на вате этой стояли маленькие фарфоровые фигурки, то ли кошечки, то ли зайчики. И елочное конфетти, словно уже зима и Новый год. Слышно было, как между рамами гудит некстати проснувшаяся муха, не понимая, почему она никак не может выбраться наружу.
– А никого нет, – сказала Катюша, улыбнувшись своими ямочками. – Никого нет, деточка. Не набрали еще штат-то.
Она чуть заметно наклонилась, отчего ее полная грудь накрыла собой часть бумаг, разложенных перед ней на столе.
– Есть только я, – сказала она, застенчиво улыбаясь. – Только я.
* * *
– Лева, как я рада, Лева. И банкет был вполне приличный. Я так боялась, что икры не хватит, но вроде всем хватило. И ни одного черного шара. Один испорченный бюллетень, но это же не считается? Правда? В ВАКе не должно быть проблем? Ты меня слышишь, Лева?
От Риммы сладко пахло каким-то новым кремом для лица.
– Слышу, Риммочка, – устало сказал Лев Семенович. Он присел на пуфик в прихожей и стал, кряхтя, снимать туфли.
– Ты видел, в каком платье была Павлова? Хорошо, что я не сшила себе такое же. Этот Марик, он всем шьет по одним и тем же лекалам.
– Да, Риммочка.
– Очень удачно, что мы переезжаем в Москву прямо перед Олимпиадой. Ты слышал, что говорят? Москву закроют. Вообще закроют для приезжих. И правильно – мало ли что. Останутся только одни москвичи. И в магазинах будет все. Абсолютно все. И гэдээровское, и румынское, и даже югославское. Надо будет обязательно сходить в «Ядран»… Лева, ты что, Лева?
– Дура! – завизжал Лев Семенович. Он развернулся, смахнул со столика у зеркала в прихожей какие-то флаконы и коробочки и стал яростно топтать их ногами. – Пошла вон, дура!
– Лева, ты болен, – сухо сказала Римма и пошла в спальню, захлопнув за собой дверь.
С волочащимися по полу шнурками, Лев Семенович прошел в гостиную и поглядел в окно. Мрак. За окном всегда мрак. Москва далеко, за полями, за лесами, за сорочьими стаями, и он увидел внутренним зрением, как там, в далекой Москве, вьюжной ночью на окраине спального района, где-нибудь в Беляево или Чертаново, он, Лев Семенович, вот так же подходит к окну тесной типовой кухни и смотрит, а внизу метет поземка, голые деревья, сугробы, и качается, качается фонарь над автостоянкой, и нет никаких рубиновых звезд, веселых людей в легких платьях, света и белых крахмальных скатертей. А есть лишь пустынные проспекты, обледенелые трассы, леса, поля, другие города, лежащие во мраке, и спрятаться больше негде…
Маленькое примечание
Автор очень благодарен Громовице Бердник, чья книга «Знаки карпатской магии» очень помогла в работе над романом. Сходство карпатской и мезоамериканской магии, подмеченное Громовицей, я думаю, чисто гомологическое, но тем не менее что-то в этом есть, и когда потребовалось изгнать из южного города-порта страшного духа-бога американских индейцев-вендиго, кому еще было справиться с этой почти непосильной задачей, как не карпатскому мальфару?
Бусиэ в мифологии северных народов – злые духи, происходят от людей, умерших неестественной смертью и не имеющих связи с живыми. Завидуя живым, бусиэ нападают на спящих людей, высасывают у них кровь и мозг. Иногда принимают вид птиц с железным клювом. Саган-бурхан – дух оспы.
Туз пик концом вниз – тяжелая болезнь, смерть, концом вверх – крупная неприятность, связанная с работой; туз треф концом вниз означает испуг и неприятности по работе, концом вверх – крупный обман, подлог или воровство.
Я подозреваю, что причиной катастроф «Титаника», «Адмирала Нахимова», а также чернобыльской аварии действительно были диббуки; ну не могли же нормальные ответственные люди ни с того ни с сего так глупо и нелогично (добавлю – последовательно глупо и нелогично) себя вести. Характер катастрофы с «Адмиралом Нахимовым» и его сходство с крушением «Титаника» заставляют задуматься – быть может, службы, подобные СЭС-2, действительно необходимы?
Вендиго – персонаж страшной повести Элджернона Блэквуда, и его повадки, а также поведение его жертв частично позаимствованы именно из этого источника.
Часть вторая
Малая Глуша. 1987
* * *
Плацкартный вагон был полон, и уже после ночи путешествия в нем стоял особый, присущий только поезду, тяжелый дух человеческих тел, мытого хлоркой туалета и папиросного дыма, которым тянуло из тамбура. Поэтому он даже обрадовался, когда спрыгнул с подножки, держа в руке нехитрый багаж. Поезд тронулся с места, немытые окна его вагона еще минуту глядели ему в затылок, а потом в их поле зрения оказалось что-то другое: будка смотрителя с крохотным печальным огородом, разноцветные путевые огни, фонарные столбы, обвитые ржавой проволокой.
Он огляделся.
Здание вокзала с башенкой отчетливо вырисовывалось на фоне пустого рассветного неба. Далеко на западе горизонт был подсвечен то ли дальним пожаром, то ли огнями какого-то большого города, а тут совершеннейшая глушь, платформа, освещенная двумя желтыми фонарями, пуста; только на привокзальной лавке спала какая-то женщина в мохеровой кофте, халате и толстых рейтузах. Сумку она положила под голову. Нищий рыскал около урны в поисках пустых бутылок из-под пива.
На башенке над одноэтажным приземистым зданием вокзала светились бледные часы, похожие на круг полной луны. Он постоял немного, чувствуя, как остывший за ночь асфальт высасывает тепло через подошвы кроссовок, потом подхватил рюкзак, сделал шаг и вошел в здание вокзала.
Там было пусто, блестели лавки, отполированные задами ожидающих поезда пассажиров, окно единственной кассы закрыто картонкой. Сквозь щели лился бледный неоновый свет. На кафельном полу стыли лужицы воды, – видимо, уборщица совсем недавно прошлась здесь с ведром и шваброй. Он покрутил головой в поисках уборщицы, но не нашел. Буфета не было, а киоск с пепси-колой и печеньем стоял запертый на замок, с приспущенными жалюзи.
Двери на привокзальную площадь были распахнуты, пустая площадь окаймлена газоном с чахлыми туями; но здесь все-таки нашлась живая душа; стоял и скучал одинокий носильщик, или грузчик, или просто какой-то привокзальный рабочий в оранжевой жилетке с бляхой.
– Извините, – он подошел ближе, – где здесь отходят автобусы?
– А вам куда надо? – сонно спросил грузчик.
– До Малой Глуши.
– Туда не ходит, – сказал грузчик, – до Болязубов ходит. А от Болязубов на попутке. Или там, не знаю, договоритесь с кем-то из местных.
– Хорошо, – терпеливо повторил он, – где отходит автобус на Болязубы?
– А вон там, через площадь, – сказал грузчик, – только ночью они не ходят.
– А касса где?
– Там и касса. Только ночью она не работает.
– А когда открывается?
– Утром, – равнодушно сказал грузчик, – вот утро будет, касса откроется.
– В котором часу?
– В восемь. Или в девять. Раньше все равно автобусов не будет.
– А-а, – сказал он разочарованно и поглядел на часы. Зеленые тусклые стрелки показали половину пятого.
– Койка не нужна? – спросил грузчик с надеждой.
– Нет, – сказал он, – какая койка? Я на вокзале переночую.
– Смотрите, – повторил грузчик, – раньше девяти не откроют.
– Я подожду.
Разговор зашел в тупик; он кивнул собеседнику, тот тут же равнодушно отвернулся и, глядя в небо, задумался о чем-то своем.
На вокзале было все так же пусто, он сел на лавку, лицом к окну на площадь, опустил рюкзак на пол. По сравнению с шумным поездом, где плакали дети, а женщины переговаривались высокими резкими голосами, здесь было очень тихо. По грязноватому оконному стеклу ходили тени от веток. На внутренней стороне век осталось ощущение скребущего песка; он закрыл глаза и с силой потер их, в очередной раз удивившись тому, что в темноте среди плывущих пятен перед внутренним взором возникает подобие радужки с черной дырой зрачка посредине.
Уснуть не получалось, небо медленно светлело, сделалось плоским и серым, вокзал стал постепенно оживать, появилась сонная уборщица и начала шаркать шваброй между рядами скамеек. Он поднял рюкзак и поставил на скамейку рядом с собой; хлопнуло окошечко кассы, кассирша в очках и в перманенте что-то считала на калькуляторе, очень похожая на нее женщина подняла железный занавес киоска; конфеты в пластиковых прозрачных банках блестели, как елочные игрушки.
Откуда-то возник народ, группка студентов в штормовках с эмблемой института на спине переминалась у кассы; девчонки были коренастые, громкоголосые, и все, как на подбор, дурнушки. Женщина с девочкой развернули на лавке газету и выложили на нее хлеб и завернутое в серую марлю сало.
Пьяный ходил по залу, словно ища, с кем бы подраться, перебросился парой слов со студентами; один из парней вроде замахнулся, второй удержал его за руку, тот отошел, что-то сказал женщине, огляделся и плюхнулся на лавку рядом с ним. Он брезгливо отодвинулся.
– Не уважаешь? – спросил пьяный.
– Отвяжись, – сказал он и пожалел, что вообще заговорил, тот только и ждал, что на него обратят внимание.
– А пошли, разберемся, – сказал пьяный весело.
У пьяного было красное воспаленное лицо и белые глаза, какие бывают у людей, которые ничего не боятся.
– Что? В штаны наложил? – спросил пьяный. – А спорим, я тебя убью и мне за это ничего не будет? Спорим?
Особой логики в этом заявлении не было, но звучало оно очень убедительно.
Ему даже показалось, что в руке у пьяного блеснул нож, и вообще, пьяный был не столько пьяный, сколько взвинченный, и продолжал накручивать себя еще сильнее.
Он уже начал лихорадочно обдумывать дальнейшие свои действия: извиниться? откупиться? поставить выпивку? пригрозить? Бесшабашная храбрость могла быть и симулированной, недаром же пьяный не стал вязаться к студентам; там было четверо сильных молодых парней. В растерянности он стал озираться по сторонам, и, заметив его взгляд, серьезный молодой милиционер, лопоухий и сероглазый, отделился от подоконника и подошел к ним.
– Проблемы? – спросил милиционер.
– Иди, Костя, сам разберусь, – сказал пьяный.
Но милиционер продолжал стоять, нетерпеливо притоптывая ногой в черном ботинке, и пьяный неохотно отошел, что-то бормоча себе под нос.
– Черт знает что у вас тут творится, – сказал он сердито.
– Вы бы поаккуратней, гражданин, – упрекнул милиционер.
– Я-то тут при чем?
– Значит, при чем.
– У вас тут к людям пристают на вокзале, это что, по-вашему?
– Сергеич? Да он мухи не обидит. А вы вот документы покажите.
Он полез во внутренний карман куртки, достал паспорт в кожаной обложке.
– Далеко заехали, – сказал милиционер, глядя на штамп прописки.
– Да уж, – согласился он, – дальше некуда.
– Куда следуете?
– В Болязубы, – сказал он, и пронзительное название деревни действительно отозвалось ноющим больным зубом слева в нижней челюсти.
– Чего тогда сидите?
– Жду, когда касса откроется. На автостанции.
– Касса там круглосуточно, – сказал милиционер. – А автобус на Болязубы в семь утра.
Он поглядел на часы. Было без пяти семь.
– Ах ты!
Милиционер нарочито неторопливо разглядывал его паспорт, сверял его лицо с фотографией, смотрел на просвет водяные знаки.
– Поскорей нельзя, товарищ милиционер?
– Раньше торопиться надо было, – наставительно сказал милиционер, но паспорт вернул.
Он схватил паспорт, торопливо засунул его обратно в карман, одновременно другой рукой подхватывая рюкзак, и заспешил к выходу, как раз, чтобы увидеть, как старенький обшарпанный автобус развернулся на площади, выпустил струю сизого дыма и выехал на улицу, ведущую прочь от вокзала.
Он побежал за ним, размахивая рукой, но автобус не обратил на него никакого внимания.
– Ну что ты скажешь! – расстроенно произнес он.
Автостоянка была просто заасфальтированным пятачком перед сквериком. Под чахлым пирамидальным тополем стояла пустая грязная скамейка, когда-то крашенная зеленой краской. Будочка кассирши была открыта, за окошком, забранным решеткой-солнышком, шевелились, пересчитывая деньги, женские руки.
– Когда следующий автобус на Болязубы? – спросил он и снова внутренне поморщился от названия.
– Завтра, – сказала кассирша.
– Но… мне сказали, что раньше девяти автобусы не ходят.
– Кто?
– Какой-то человек. Такой, в спецодежде.
– Это Митрич, – равнодушно сказала женщина, – он всем так говорит.
– Зачем? Он же на вокзале работает.
– Какое там работает.
Ничего не поняв, он беспомощно пожал плечами:
– А как можно добраться до Болязубов?
– В ту сторону больше ничего не ходит, – сказала кассирша.
– Может, на перекладных?
– Можно, – сказала кассирша, – в семнадцать тридцать идет автобус до Головянки, от Головянки до Болязубов в девятнадцать десять. К ночи доедете.
– А маршрутка?
– До Головянки ходит маршрутка. Оттуда в Болязубы только автобус.
– А до Малой Глуши?
– Туда вообще ничего не ходит.
Кассирша потеряла к нему интерес и вновь принялась раскладывать мятые купюры. Он огляделся. Несколько автобусов стояли на асфальтовой площадке, на ветровом стекле – таблички с названиями сел, иконки, календарики с девицами, почему-то пластиковые цветы. Автобусы были маленькие, побитые, угловатые. В городах давно таких нет. Водителей не было видно; водительские сиденья были пустые. Вообще никого не было видно.
Одинокий обшарпанный «жигуленок» притулился сбоку, мужик в мятой рубахе, открыв капот, копался в моторе, время от времени вытирая руки промасленной ветошью. Он подошел к нему, остро ощущая свою чужеродность, – рюкзак у него был новенький, импортный, последний раз он ездил с рюкзаком еще в студенческой юности. Ветровка тоже была новая, со множеством кармашков, с разноцветными шнурами, яркая, словно детская. И кроссовки новые, замшевые, на белой упругой подошве, замечательные кроссовки, ходишь, как летаешь. Наверное, потому ко мне и прицепился этот Сергеич, и милиционер Костя тоже, подумал он запоздало, тут таких не любят.
– До Болязубов не подбросите? – спросил он.
Мужик не повернул головы.
– Я спрашиваю, до Болязубов не подбросите? – Он повысил голос.
– Не, – уронил мужик.
– Я заплачý.
– Не, – повторил мужик.
– Двадцать.
Мужик поднял голову. У него было худое сизое лицо.
– Пятьдесят, – сказал он лениво.
– Хорошо. Пятьдесят.
– Садись, – сказал мужик.
Он благодарно кивнул. Сиденья в «жигуленке» были потертые, грязные, обивка местами прорвалась, на заднем сиденье валялся какой-то садовый инструмент – секатор на длинной ручке, веерные грабли, жестяная лейка.
– Я вперед? – спросил он.
Мужик молча пожал плечами. Он вновь ощутил резь в глазах, и с силой протер их руками.
Посплю по дороге, подумал он.
Он отворил дверцу и сел, подумал и опустил стекло.
– Подождите!
Женщина бежала через площадь. На ней был красный пыльник, а в руке – чемодан, и от этого она накренилась на бок. Женщина была черноволосая и маленькая. Когда она, задыхаясь, пригнулась к окошку, он увидел, что она немолода; около глаз собрались пучочки морщин, а в волосах просвечивает седина. Лицо у нее было острое, с четкой лепкой костяка, местное лицо.
– Вы в Болязубы? – спросила она, задыхаясь, высоким резким голосом.
Точно, местная, подумал он.
Ему начинало казаться, что местных от приезжих он может отличить с закрытыми глазами. По голосу. И все сильнее чувствовал себя чужим тут. Еще удивительно, что я и вправду не ввязался в драку, подумал он, чужаков никто не любит.
– Да, – сказал он. – Я в Болязубы.
– Мне тоже в Болязубы. Давайте пополам.
– Второго не возьму, – тут же сказал водитель. – Сзади сиденье занято.
– Я не помешаю, – сказала она умоляюще. – Я с краешку.
– Там инструменты.
– Накиньте сверху, – сказал он в окно.
– Что?
– Мне не нужно пополам. У меня есть деньги. Накиньте десятку.
И пожалел, что сказал. Никто не любит, когда у приезжего много денег. Вернее, любят, но очень по-своему.
– Двадцатник, – сказал водитель.
– Двадцать, – согласилась она. – Хорошо.
Она стала рыться в сумочке, потом в каком-то кошельке, вероятно одном из нескольких; у нее была еще поясная сумочка, в таких те, кто много ездит, держат документы и деньги, чтобы не украли. Наверное, все равно крадут.
Водитель наконец закончил возиться, закрыл капот, обошел машину, открыл багажник и забросил ее чемодан и его рюкзак. Чемодан был дешевый, матерчатый.
Она села на заднее сиденье, прижимаясь к дверце, чтобы не потревожить секатор. Секатор был в смазке, лезвия обернуты пергаментной бумагой, липнущей к металлу.
Он слышал, как она переводит дыхание, стараясь делать это бесшумно. Ее молчание висело в салоне как прозрачный столб воды.
«Жигуленок» зафырчал и тронулся. Вокзал поехал назад; башенка с часами, деревья, каждое в своем железном обруче, пыльные туи со звездчатыми голубыми шишечками. Асфальт был разбит, проехал встречный «запорожец», потом грузовик, в кузове терлись друг о друга длинные доски…
– Здесь вообще есть какая-то промышленность? – спросил он, чтобы прервать затянувшееся молчание.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?