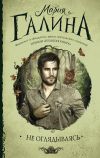Читать книгу "Все имена птиц. Хроники неизвестных времен"

Автор книги: Мария Галина
Жанр: Социальная фантастика, Фантастика
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Последние меховые комки, смешно и трогательно подпрыгивая, покатились догонять остальных, небо захлопнулось, и Вася остался один, пространство вокруг словно забито ватой, не пропускающей ни звука, ни дальнего голоса, пустое, никакое, без следа шевеления жизни, наполнявшего его испокон веку…
Телефонная будка стояла на углу, отблескивая в свете звезд неподвижной молнией треснувшего стекла. Он нахмурился и, вынув из кармана горсть мелочи, разложил ее на ладони, передвигая пальцем в поисках двушки.
* * *
В двери повернулся ключ. Осторожно. Надеется, что сплю, подумала Петрищенко. Она было взялась за реферат для ВИНИТИ – завтра платить Генриетте, и до получки останутся копейки, но поняла, что уже полчаса смотрит на английскую строчку, совершенно не понимая ее. Тогда она отложила реферат в сторону и теперь, грызя карандаш, разглядывала «Кроссворд с фрагментами», предлагавший назвать, в частности, химическую фракцию нефти, надо полагать парафин, и подняла голову.
– Погуляла? – спросила она изо всех сил дружелюбно.
Лялька сразу бросилась в атаку:
– А ты когда обещала придти? – Она села на калошницу и, морщась и удивительно напоминая при этом мать, стала стаскивать с ног сапоги-чулки. – Ты обещала в семь придти. Ты обо мне подумала? Я же договорилась с одним человеком. Ты хочешь совсем меня дома запереть, да? Чтобы я с бабушкой сидела. А сама…
Она швырнула сапоги в угол, и они, опав голенищами, как пустые воздушные шарики, легли там, кособоко прижавшись друг к другу.
– Лялька, но бывает же ЧП.
– У тебя каждый день ЧП. Пожрать ничего нет?
– Ты же худеешь.
– Так что мне теперь? Умереть от голода?
Это гормоны, подумала Петрищенко, бушующие гормоны, они бьются в крови и не находят себе выхода. Поэтому все молодые такие жестокие. И скандалисты. Она сжала зубы и уставилась на фарфорового Пушкина, сидевшего за фарфоровым столиком, задумчиво подперев щеку, в другой фарфоровой руке – обломок пера. Перья эти ломаются первыми. Сколько она видела таких Пушкиных, и у всех сломаны перья.
– Ну иди поешь. Я колбасу купила.
– Эту дрянь есть невозможно, – высокомерно сказала дочка.
– Где ж я тебе другую возьму?
– У всех нормальные матери, – завелась Лялька. – Они готовят. Домашнюю еду, слышала такое слово? А мы все время жрем всухомятку, ты посмотри на меня… Вот это, вот на эту складку, нет, ты посмотри…
– Лялька, ну это просто гены. Наследственность.
– Это неправильное питание, – упиралась Лялька. – Ты меня насильно кашей закармливала. Манной. Вот и сорвала мне обмен.
– Когда я тебя закармливала?
– А в детстве. Тебе лень было в молочную кухню, и ты кашу…
– Что ты можешь помнить?
– Бабушка сказала, – охотно пояснила дочь.
– Твоя бабушка уже лет десять сама не помнит, что говорит. А ты, если так ее мнение уважаешь, вот сидела бы с ней, вместо того чтобы по гулянкам…
– А тебе жалко, да? Хочешь меня дома запереть? – Голос у Ляльки сразу делался высоким и злым.
Петрищенко, сообразив, что препирательство пошло по второму кругу, махнула рукой.
– Сапоги хоть на место поставь, – сказала она безнадежно.
Лялька, двумя пальцами держа сапоги за скользкие клеенчатые голенища, запихивала их в шкаф в прихожей.
– Ты их вытерла? Там мокро, на улице.
– Меня подвезли, – холодно ответила дочка, – на машине.
У Петрищенко нехорошо заныло под ложечкой. Машина? У кого, откуда? Она ж ничего не говорит, зараза.
Порыв ветра навалился на окно, что-то звякнуло, взвился край тюлевой занавески. Она подошла к окну, приложила обе ладони к стеклу, ощущая, как оно содрогается под напором воздуха.
Неровные, размазанные тени веток и облаков пронеслись по стеклу, а за ее спиной, в комнате, звонил и дергался серенький телефон.
– Совсем с ума сошли, – пробормотала она.
– Не трогай. – Лялька кинулась к телефону, как тигрица, оттирая ее локтем. На Петрищенко пахнуло разгоряченным телом, почему-то сигаретным дымом, курят они там втихую, знаю я их, и еще чем-то кислым и неприятным. – Это меня…
– Скажи своему кавалеру, – кисло сказала Петрищенко, с удовольствием выговаривая противное слово «кавалер», но, видя, как у Ляльки, схватившей трубку и прижавшей ее к уху обеими руками, обиженно вытягивается лицо, замолкла.
– Это тебя, – сухо сказала Лялька. Она бросила трубку на тумбочку, и та, соскользнув, висела, беспомощно поворачиваясь на шнуре.
– Кто? – Петрищенко вновь почувствовала мягкий удар под ложечку.
Она оглянулась на Ляльку, но та, демонстративно топая, прошла мимо в ванную и включила воду на полную мощность.
– Что? – перекрикивая воду, спросила Петрищенко.
– Лена Сергеевна, – сквозь треск орал в трубку далекий голос, – это я… Я тут шел, дай, думаю, позвоню.
– Ты откуда? Откуда звонишь?
– Да хрен его тут поймешь, – злобно сказал Вася. – Тут это… замучаешься, пока телефон неразбитый найдешь. Вот же шпана поганая.
– Вася, ты что, выпил? Тебе завтра судно работать… Я же тебе говорила сколько раз…
– Да ни хрена я не выпил, Лена Сергеевна. Я провалился.
– Что?
– Ну, как бы ни с того ни с сего. Знаете, как это бывает.
– Нет, – ответила Петрищенко.
– Ну, фиг с ним, в общем, шел-шел, и раз! Провалился. Наверное, сдвинулось там что-то. Потому что, это, паника там, в нижнем мире. Уходят они. Отваливают. Вся мелочь в панике.
– Что ты такое говоришь, Вася? – Она оглянулась, но Лялька все еще шумела в ванной, и тогда она позволила себе прислониться к стене и закрыть глаза.
– Он всех распугал, Лена Сергеевна. Говорю вам, это кто-то страшный… Ох страшный. А эти суки нам никого в помощь не дают. Не дают ведь?
– Ну, я еще завтра поговорю, Вася.
– Пусто все, – жаловался Вася. – На всей земле пусто… Никогда так еще не было, Лена Сергеевна.
Петрищенко помолчала, провела по лицу рукой и тем самым сбила набок очки. Хотела поправить, но они упали в щель между стеной и тумбочкой, и она никак не могла сейчас до них дотянуться.
* * *
Она собрала в стопочку нарезанный сыр и подложила в холодильник к большому куску сыра, рядом с которым прел кубик сахара. Один ломтик машинально укусила. Сыр оказался пресным и резиновым. Духи «Дзинтарас», которыми она поспешно подушилась, когда пришел Лева, вообще-то, ей нравились, но, кажется, она плеснула на себя слишком много. Липкий какой-то запах…
Лампочка в холодильнике перегорела. И лампочка-свечка в бра над столом – тоже. Почему все начинает обрушиваться как-то сразу?
Одиночество навалилось, как прелое ватное одеяло.
Лялька такая симпатичная была, когда маленькая. Ходила, переваливаясь на пухлых ножках, говорила басом. Очень серьезная. Очень трогательная. И беспомощная – а значит, ей, Елене Сергеевне Петрищенко, просто необходимо было стать сильной и здоровой. Они были вместе, они были одним целым, она даже с мамой помирилась. Потому что надо было, чтобы кто-то сидел с Лялькой, когда она болела, и забирал ее сначала из садика, потом из школы. А мама не хотела. Маме казалось, что она еще молодая и у нее своя жизнь. Она вдруг вспомнила, как мама, уже после папы, на отложенные для английского репетитора деньги купила себе светлое габардиновое пальто, и даже на миг зажмурилась от ненависти.
СЭС-2 гнилое место. А куда деваться? Оклад хороший, премиальные. И надбавка за вредность. А Лялька выросла, и они больше не одно целое, а каждый сам по себе. И Лялька, кажется, ее ненавидит. Страшная, злокачественная форма ненависти, циркулирующая в их убогой семье, замкнутая, не находящая выхода.
Она опять на миг зажмурилась, в носу защипало.
Они меня съедят, подумала она. Съедят. Господи, до чего же глупое слово.
* * *
Дом выглядывал эркером-фонарем на разрытую улицу. Фасад облупился, с карниза осыпалась лепнина, кое-где торчат ржавые погнутые прутья.
– В Москве, наверное, фасады мыльным порошком моют, – прокомментировал Вася ни с того ни с сего.
На третий этаж вела широкая мраморная лестница, со щербинами на ступеньках, на мраморном подоконнике, сложив крылья, лежала серая ночная бабочка. Дверной косяк усеян фурункулами звонков.
– В коммуналке живет товарищ, – проницательно заметил Вася, нажимая на кнопку над табличкой «Трофименко – 2 звонка». – Мне бы такую коммуналку.
Какое-то время ничего не происходило, затем за дверью послышались осторожные шаги, дверь приоткрылась на ширину цепочки, и в щелку выглянул блестящий глаз.
– Коля, это из пароходства, – дружелюбно сказал Вася.
– А точнее? – спросили за дверью.
– СЭС номер два, если точнее. Но неофициально. Пока еще.
– А! – За дверью зашаркали тапочками, и кожа у Петрищенко на предплечьях тут же покрылась мурашками – она не выносила этого звука. – Учтите, я списался.
– Гм, – сказал Вася, – а поговорить бы все равно надо.
Дверь отворилась. Трофименко стоял в майке и трусах. Увидев Петрищенко, он смутился.
– Подождите, – сказал он, – я сейчас.
– Гордый, – тихонько пояснил Вася.
Ответить Петрищенко не успела, поскольку сэконд опять возник на пороге, на сей раз в нейлоновом тренировочном костюме, синем с белой молнией.
– Вот теперь проходите. – Он указал рукой в неопределенном направлении. – Сюда. Направо и еще раз направо. Третья дверь. Нет-нет, не сюда. Там гальюн. Мористее загребайте.
Окно в торце комнаты-пенала выходило на перекресток, где, мигая желтым, стоял асфальтоукладчик. По обоям ползли пятна сырости. На стене висел на плечиках белоснежный китель, прихлопнутый фуражкой с крабом. Рядом, на календаре, застенчиво прикрывала рот подмигивающая японка.
Петрищенко подвинула себе венский стул с гнутой спинкой, но ножка за что-то зацепилась.
– Извиняюсь, – сказал сэконд.
Под стулом высился неровный строй пустых бутылок.
Вася уселся на диван и какое-то время мрачно разглядывал сэконда. Тот занервничал, на верхней подбритой губе выступили капельки пота.
– Извиняюсь за бардак, – повторил он. – Мы с супругой разошлись… ну, разменялись… остался диван вот, а что?
– А что? – доброжелательно переспросил Вася.
– Погода паршивая, – сказал Трофименко. – Спину так и ломит. Застудил в прошлом рейсе. Сыро.
– И не говори, – согласился Вася, достал пачку «Беломора» и стал стучать по донышку, выстукивая папиросу.
– Ну, – Трофименко глубоко вздохнул, – грубо говоря, чем обязан?
– А ты, друг, так уж и не знаешь? Нет?
– Это с «Мокряком» связано? Или как?
– Тебе «Мокряка» мало, друг? – печально сказал Вася.
Он поднялся с дивана, взял ободранную табуретку и устроился на ней верхом.
– Все тайное, – укоризненно сказал он, – когда-нибудь становится явным.
– Ну да? – удивился сэконд.
– Вы, случайно, – ласково спросил Вася, – совершенно случайно, ничего на берег не списали? В обход СЭС-два… Ну мало ли что, острый аппендицит или там острый психоз, э?
– Таки Бабкин? – печально заметил сэконд.
– Таки Бабкин, – согласился Вася.
– Так я и знал! – сказал сэконд и замолчал.
– Да? – подсказал Вася.
– Кэп для «Мокряка» премию, ну, экипажу… непопулярен он был, хотел популярность поднять… вот и дал отмашку. А что?
– Да ничего, собственно, – сказал Вася. – Ну, как бы отвечать придется. А у нас тоже премия горит, из-за вас, между прочим.
– Вы это… на работе пьете? – тоскливо спросил сэконд. – Только у меня рюмок нет. Одна вот, для дамы.
* * *
– Мы океан любим, песни про него поем, а он нас нет.
Трофименко подлил Васе водки. Петрищенко поморщилась, но промолчала.
– То есть, ну, терпит иногда… кое-кого. Но вообще нет, не любит. Потому что мы сверху его тревожим. И еще потому, что теплые и гудим. Винты, всякие токи, вибрация. Его и раздражает.
– Постой, – вмешался Вася. – А киты?
– Что – киты?
– Они тоже теплые и гудят. Я читал, они песни поют, идет стадо и поет, а другое стадо за тысячу километров его слышит.
– Киты, – сказал сэконд, – явление природное. Океан к ним привык. А мы каких-то паршивых двести лет плаваем на железках. Ему противно. Зудит везде. Вроде блох или еще чего похуже.
– Ты, Коля, – доброжелательно сказал Вася, – фантастику любишь. Стругацкие, Лем… Мыслящая плазма, то-сё…
– А какая разница? Я читал, вода, если ее много, тоже не просто вода. Вся между собой связана. Вся.
– Ты хочешь сказать, мой мариман, что весь Мировой океан – одна большая молекула? – уточнил Вася.
– Ну да. И внутри нее, внутри этой штуки, все движется. Течения глубинные, донные… Слои пресной воды, тяжелой воды, холодной воды. И галлюцинирует он сам себе, просто так, для интереса. То есть я думаю, НЛО всякие… это его глюки. Недаром люди видели, как они из океана взлетали. А до этого – сирены, русалки. Чудовища на скалах. Тоже глюки. Он наводит. Он и «Марию Целесту» распугал. Нарочно.
– Насчет НЛО не уверен, – возразил Вася. – Леонов вроде видел, когда в открытый космос выходил. Кстати, американцы наблюдали на обратной стороне Луны какие-то корабли на грунте. Вообще – объекты на грунте. И огни.
– Вася, а ты откуда знаешь? – удивилась Петрищенко.
– Так записи переговоров же есть, – пояснил Вася.
– Наверняка секретные.
– Ну и что?
– Верно, – согласился Трофименко. – От людей ничего не скроешь. Ну, будьмо.
– Будьмо. Я так думаю, их лет через тридцать рассекретят. Тогда мы все узнаем. Есть на Луне наши братья по разуму или нет. И какого черта они там делают. Так ты из-за НЛО списался или что?
– При чем тут НЛО, – отмахнулся Трофименко. – Что я, НЛО не видел? Просто нервы стали никуда.
– Это я вижу. Пить, Коля, надо меньше. Я знаю, я опытный.
– Ни хрена ты не видишь. Что пальцы трясутся, это, извиняюсь, фигня. Цветочки. А ягодки это там, в море. Прикинь, восьмибалльный вторую неделю подряд, вахта тяжелая, несколько ночей не спал. И вот начинаю слышать музыку. Играет все время, играет. И казачий хор поет.
– Радио у кого-то играет, а тебе фонит. По переборке или там вентиляция…
– Я и сам сначала так подумал. Но казачий хор петь пять часов подряд не может! А потом оно еще со мной говорить начало.
– Кто?
– Так радио же. Боцман, говорит, соскочить собирается, ты рапорт на него подай, а не подашь, тебя из каюты выселят. А у меня хорошая каюта была, удобная. Жалко.
– Подал рапорт?
– Вот еще. Буду я какому-то радио верить. Боцман у нас хороший мужик, старательный.
– Соскочил?
– Где? Посреди океана? Нет, в порту приписки сошел, все как положено, не просыхал весь рейс, это да. Но знаешь, что смешно? Из каюты и правда выселили, к третьему подселили. Под совершенно идиотским предлогом. Все, думаю, пора на берег. Жена опять же заела. Хватит, хватит, мол, поживем как люди. А сама взяла и ушла с этим… И где были мои глаза? Ведь что такое крашеная блондинка? Заведомо нечестная женщина!
– Коля, ты гонишь. Уводишь от темы. Ты про последний рейс давай.
Трофименко покачал в стакане водку на манер коньяка, он и стакан держал, словно коньячную пузатенькую рюмку.
– Да, – сказал он наконец, – паршивый рейс. Хуже еще не было. Заводили судно в порт, чуть танкер кормой не задели… И вообще паршиво, собачились всю дорогу, комсостав собачился, а это последнее дело. Бабкин этот ходит, и лицо у него…
– Да?
– Уши острые, или… если краем глаза посмотреть, так и не Бабкин вовсе… и усмехается. А потом и вовсе рехнулся, все бежать куда-то пытался. Повязали его.
Он замолк.
Слышно было, как за дверью, в длинном темном коридоре старуха говорит по телефону, жалуясь на плохое пищеварение.
– Выпьешь еще?
– Я да, – охотно согласился Вася. – Не смотрите так, Лена Сергеевна, я в норме. Закусить у тебя есть чем, друг?
– Шпроты где-то были, – неопределенно ответил Трофименко.
– Тащи их сюда.
Трофименко вышел, зацепившись плечом о дверной косяк. Вася оглянулся на дверь, быстро встал, провел руками по кителю сверху вниз и вернулся на место.
Вернулся сэконд, поставил на стол банку плавающих в масле шпрот и к ним – нарезанный толстыми ломтями серый зачерствевший хлеб. Петрищенко вдруг поняла, что ему, сэконду, перед ними, и особенно перед ней, очень неловко и что сэконд привык совсем к другой жизни, легкой и красивой.
– Будьмо?
– Будьмо.
Вася положил шпротину на хлеб, полюбовался, отправил в рот и сказал:
– Вот, люблю я балтийский шпрот. Анчоуса наши неплохо делают, а шпрот загубили.
– Да! – с пониманием кивнул сэконд.
– Или там, например, килька. Маленькая. Лучку накрошишь, зелененького, ее на черный хлеб… А она вся в маринаде, перчик, травка на ней… Еще селедка с картошкой, чтоб картошка горячая, рассыпчатая, и соленый огурчик, но это все-таки зимняя еда. И под водочку, под водочку ее. Или настойку, горькую.
– Еще маслята хорошо, – сказал сэконд. – Сопливенькие такие… а за бугром нормальных грибов нет совсем, какая-то, извиняюсь, дрянь в жестянках, тинз, совсем есть невозможно, безвкусная, как резина, веришь, нет?
– Угу, – сказал Вася и выудил еще одну шпротину. Положил на хлеб, полюбовался… – Вернемся к Бабкину, ага? Он вообще когда двинулся?
– Ну, он всегда психованный был. – Сэконд задумался, покачал в руке стакан. – Чуть не по нем, сразу в морду. Он в порту, в канадском, подрался, еле разняли.
– Где, на погрузке?
– Ага. С индейцем каким-то. Еле растащили. Тот Бабкина оскорбил, Бабкин на трапе как раз стоял, с вахтенным трепался. Ну и…
– Чем оскорбил, конкретно?
– Валите, мол, отсюда… Ну, гоу эвэй, гоу эвэй… Такой себе индеец, хуже бичей наших, в порту все время ошивался, сигареты стрелял. А тут ни с того ни с сего руками машет, на Бабкина орет, кроет его. На самом деле я тебе скажу, не любят наших. Даже пролетарии не любят. Даже нацмены. Соберутся и давай крыть. Рашн, гоу хоум, все такое… Мы с ними как с людьми, а они тут же в морду. Третий на берег запретил сходить – провокаций боялся.
– Понятно, – сказал Вася. – Гоу эвэй, значит…
* * *
– Им кричали с берега, уходите, мол, а они, дурачки, решили, что это провокация американская. А здесь, видишь, с Бабкина соскочил и пошел себе. Но я про такого, Лена Сергеевна, первый раз слышу! Видно, эндемик.
– Эндемик, да. Мне, Вася, не нравится вот это твое пьянство на работе. Вот это твое пьянство мне не нравится.
– А с такими иначе нельзя, Лена Сергеевна. Он бы замкнулся в себе, хрен чего узнаешь. Гордый. Гонор у него. А так все понятно. Гоу эвэй. Индейцы. Что будем делать, а?
– Капитана под суд, – мечтательно сказала Петрищенко.
– Ну снимут его в ближайшем порту, это уж точно. А нам-то что делать? Я вот, Лена Сергеевна, все, что по Канаде есть, поднял. Ни фига не понятно. В Институт США и Канады надо звонить, в Москву. Лещинский даст добро, сразу и отзвоним.
– Что у нас вообще по «Мокряку» есть, Вася?
– Ну, зерновоз. Самый крупный зерновоз в истории кораблестроения, между прочим. Кто у нас на зерне живет, Лена Сергеевна?
– Головня и спорынья, – механически ответила Петрищенко.
– Да, еще мыши, долгоносики всякие. Из наших кто?
– Ни разу такого не слышала. Говорят, при Хрущеве один раз юм-кааш к кукурузе прицепился. Тогда много кукурузы закупали, на зерно. Но по-моему, врут.
– Хрен его знает, Лена Сергеевна, может, и не врут. Тогда с доступом еще хуже было, все секретили. Что там делалось, непонятно. Хрен с ней, с кукурузой, а вот на пшенице кто сидит?
– По-моему, никто, Вася. Пшеница – поздняя культура. Особенно мягкие сорта.
– Кто-нибудь универсальный может сесть. Нет?
– Ну, в принципе, может. – Петрищенко задумалась. – Какая-нибудь мелочь. Дух плодородия там… У тебя, кстати, Вася, диплом по малым народам, нет? Как раз по палеоазиатам. Какие у канадских индейцев духи плодородия?
– Не знаю, смотреть надо. Ничего себе мелочь! Америкосы вообще самые паскуды. И с вывихом каким-то, все палеоазиаты с вывихом. Я бы чего сделал? Нагнал бы народу побольше, кольцо бы замкнул и гнал бы его, тварюку эту, пока не вытолкнул в нижний мир.
– Откуда народ брать, Вася? Кого брать? Белкину?
– Лещинский что, совсем дурак? Понимать же должен.
– Понимать-то он понимает. Только над ним тоже начальство есть. Оно, Вася, страшнее индейских духов плодородия. Вот он и тянет до последнего.
– Хуже будет, – зловеще сказал Вася.
– Хуже не будет, – печально ответила Петрищенко.
* * *
– Розалия, – строго сказал Вася, – что ты вообще делаешь на работе?
– Ну… – Розка захлопнула «Анжелику», но так ловко, как это получалось у Катюши, затолкать ее в ящик стола не могла. Тем более пухлая «Анжелика» в ящик не влезала.
– Во дни моей суровой молодости, – продолжал Вася, – все романтические девицы зачитывались «Птичкой певчей». Турецкая такая книжка, про Гюльбешекер. Читала?
– Нет.
– И слава богу. Я бы тебе вообще, Розалия, на работе советовал заниматься делом.
– Каким делом? – скорбно сказала Розка. – Каким делом, Вася?
– Ну, я не знаю… Может, Чашкам Петри нужно чего? У них там тоже иногда… ну, анналы всякие, рефераты, то-сё. Хочешь, я поговорю?
– Я не хочу… рефераты. – Губы у Розки задрожали. – И вообще, – она оглянулась на пустой столик у окна, – почему Катюше можно, а мне нельзя?
– Катюша, – строго сказал Вася, – на особом положении. А тебя еще раз с книгой увижу на рабочем месте, с посторонней, выговор, на первый раз без занесения…
Розка начала было фыркать, как рассерженная кошка, но Вася, очень довольный, захохотал. Но как-то невесело.
– Ну тебя, – сказала сердитая Розка.
– Ты правда по-английски понимаешь? Или врешь для понту?
– Ну понимаю. – Розка подумала и честно добавила: – Немного.
– Тогда вот. – Вася расстегнул необъятный потрепанный рюкзак и стал там рыться. – Вот тебе такая книжка. Почитай, законспектируй. Все такое. А я тебя потом спрошу. Только, – он сделал страшные глаза и огляделся, – конспект вон в тот сейф будешь класть каждый вечер. Под расписку. И книгу тоже.
– Опять врешь, – проницательно сказала Розка.
– Ну… – Вася подумал, – преувеличиваю. Слегка. Очень важная книга. Очень страшная.
– Клод Леви-Стросс, – прочла Розка, водя пальцем по обложке, – это кто? «Взаимоотношения… между ритуалами и мифами… ближних людей».
– Соседних народов, дурында, – сказал Вася.
– Ну да, соседних народов. Я просто сразу не поняла. Конечно соседних народов. А зачем тебе?
– Для кандминимума, реферат буду писать, – пояснил Вася.
– А чего это я…
– А ты обязана исполнять любое мое желание. Ясно? Потому что ты маленькая и беззащитная. Даже я над тобой начальник. Ясно?
– Ну… У тебя что-то из рюкзака выпало.
– А! – Вася наклонился и поднял пучок черных перьев, связанных метелочкой.
– Вася, это что? – спросила пораженная Розка.
– Очень важная вещь, – рассеянно ответил Вася, заталкивая пучок обратно в рюкзак. – Ладно, я пошел. Мне еще кубинца работать. А ты пока книжку почитай, все дело. И это… ты Лену Сергеевну не очень зли, ладно? А то она тебя в жабу превратит.
– А она может? – с замиранием сердца спросила Розка.
– Надеюсь, – печально сказал Вася. – У всех есть скрытые возможности. Должны быть. Иначе какой смысл жить на земле? Ладно, пока. Чао-какао.
Он подхватил рюкзак, помахал ей рукой и вышел. Розка вздохнула, покосилась на дверь, затолкала Леви-Стросса в ящик стола и опять взялась за Анжелику.
«В голубых клубах табачного дыма, проникавших через открытую дверь, Анжелика казалась неправдоподобно прекрасной. В этой хрупкой и нежной женщине нельзя было узнать ту не знавшую усталости всадницу, вместе с которой он проделал весь путь от самого Голдсборо. Она словно сошла с одной из тех картин, что висят во дворце губернатора Квебека, и стояла сейчас перед ним с золотистыми распущенными волосами, в ярко-малиновом плаще, положив тонкую белую руку в кружевном манжете на грубо обструганные перила».
Розка посидела еще с минуту, поджав под себя ногу. Потом встала и подошла к круглому зеркалу рядом с вешалкой, вытащила из рукава зеленого пальто розовый японский платочек с золотой ниткой и повязала его на шее бантом, после чего изящно облокотилась о вешалку и поглядела в зеркало. Она попробовала выглядеть загадочно и томно, но получилось как-то неубедительно, вдобавок она отчаянно напомнила себе котенка из Катюшиного календаря.
– Очень приятно, шевалье, – томно произнесла она, улыбаясь и расправляя рукой концы шарфа, – позвольте выразить вам… выразить вам…
– Роза, – произнесла Петрищенко с отвращением, – что это ты делаешь?
* * *
– Опять наш? – Вася прикрыл глаза и на какое-то время замолк, что было непривычно и страшно, потом так же, с закрытыми глазами, полез в карман за «Беломором», и Петрищенко, которая, вообще-то, в кабинете курить не разрешала, на сей раз промолчала.
За окном дул ветер, на ярко-синих волнах блестели белые гребни, и даже отсюда было видно, какое оно, это море, холодное.
– Как Лещинский? – спросил Вася на всякий случай.
– Уже даже и не кричит, – ответила она печально.
– Он хотя бы помощь какую даст?
– Говорит, даст.
– А вы этого видели? Ну, этого…
– Видела, – вздохнула она. – Лещинский на машине отвез. На своей.
– Точно наш?
– Куда точнее, Вася.
Она прислушалась к себе. Там, где раньше сидел противный, гложущий страх, сейчас была пустота. Когда я перестала бояться? – подумала она. И почему?
– Хотя бы известно кто?
– Человек, – устало сказала она. – Александр Борисович Бескаравайный. На стадионе его нашли, на беговой дорожке. Поздно вечером. Практически ночью. Там по вечерам всякие любители бегают, они его и нашли.
– Ноги? – деловито спросил Вася.
– Да.
– В порту работал?
– На метеостанции. Такой… По всему, немножко с приветом.
– А что он делал на стадионе?
– Бегал. Каждый вечер. Каждый вечер на стадионе.
– Это который «Трудовые резервы»?
– Да.
– Понятно, – задумчиво произнес Вася, при этом он продолжал разминать папиросу, не замечая, что из нее уже сыпалась труха. – То есть ничего не понятно…
– Кто это, Вася? Кто это может быть? – шепотом спросила Петрищенко.
– Не знаю, Лена Сергеевна. Нетипичный случай. Не знаю. Двое – слишком маленькая статистика.
– Типун тебе на язык.
– Я к тому, что непонятно, где тут общее. Ну, правда, оба – мужчины. Непонятно, это важно или нет. Один грузчик, ну водитель автокара, а этот…
– Бездельник, – твердо сказала Петрищенко. – Тунеядец. Я говорила с его женой, – она передернулась от тоски и ужаса, – она дом на себе тянула, а он – дурака валял; работа не бей лежачего… За собой следил, голодал по системе, бегал. Философский труд писал.
– Тогда он не тунеядец, а философ, – рассудительно сказал Вася. – Философ-надомник. В общем, поглядеть надо – в кадрах взять… все что есть; трудовая, характеристика, может, карточка из поликлиники… Сядем, разложим, подумаем. Вместе сядем…
– Вместе сядем, это точно, – машинально отозвалась она.
– Да ну вас, Лена Сергеевна, все шутите. А что жене сказали?
– Показали лицо, ноги не стали. Сказали, маньяка работа. Похоронят в закрытом гробу… ну вот. Ты кубинца отработал?
– Ага. Чисто все. Сейчас на кубинцев редко что цепляется. Я, Лена Сергеевна, по порту походил, поглядел. Нет его в порту, ну это теперь понятно. Он на склонах ошивается, около стадиона. Я пойду туда, пощупаю, ага? Пока светло. Розку с собой возьму.
– Белкину? Это еще зачем?
– Вот вы ее посадили рядом с Катюшей, а это нехорошо, Лена Сергеевна. Вредно ей это. Потом, ходит один мужик, выспрашивает… непонятно. А с Розкой – понятно, что глупость одна.
– Она, Вася, по-моему, и вправду дура.
– Да нет, просто зеленая еще. Зелененькая. Глупенькая. И пальто у нее зеленое. И ногти. А шарфик – розовый, оцените, Лена Сергеевна. Может, все-таки проинструктировать ее на всякий случай? Серьезное ведь дело.
– Страшное дело, Вася. Не надо пока, просто скажи ей, ну…
– Уж найду что, вы не волнуйтесь, Лена Сергеевна. Так я пошел?
– Ладно, Вася, иди. Вернешься, подумаем вместе. А я пока личные дела в кадрах затребую. И это, осторожней, а?
– Кому вы это говорите, Лена Сергеевна? – удивился Вася.
* * *
– Вот ты на каблуках ходишь, – упрекнул Вася, – а это вредно. Искривляет свод стопы. Будешь потом хромать, как японка. Япо-оночка.
– Как хочу, так и хожу, – буркнула Розка, краснея.
– Нет, вообще-то, все верно, – рассуждал Вася. – Это у тебя правильные инстинкты. Каблук зрительно изменяет соотношение бедра и голени и тем самым делает женские ноги более привлекательными. Ивана Ефремова читала? «Лезвие бритвы»?
– Не-а.
– Ну, темная! – удивился Вася и достал из кармана потрепанную «Иностранку». – И «Таис Афинскую» не читала?
– Нет.
– Я тебе принесу. Тебе понравиться должно. Романтика-эротика, любовь-морковь. Полезная для тебя книга, во-от… А что это у тебя в сумочке, такое квадратное? Толстенькое такое? Леви-Стросс?
– Нет, «Анжелика», – буркнула Розка и покраснела.
– Ты безнадежна. В кино сходить с тобой, что ли? – задумался Вася. – В «Родине» как раз «Анжелика и король» идет. Вот же дурной фильм! Но красивый. Буржуазный.
– А ты что, уже смотрел? – заинтересовалась Розка.
– Ну, смотрел. Водил тут одну. Но ведь можно же еще раз сходить.
Розку, честно говоря, еще никто не приглашал в кино. Никто. Никогда.
А Розка так старалась. Она даже купила у цыганок тушь – страшную, липкую черную тушь в спичечном коробке, но мама ее нашла и выкинула. Она сказала, что цыганки туда кладут ваксу. Им, цыганкам, все равно, что будет у нее, у Розки, с глазами.
Анжелике в такой ситуации полагалось откинуть голову и призывно засмеяться. Розка уже было начала откидывать голову, но в шею врезался проклятый капроновый шарфик.
– На той неделе, ага? Ты только сбегай заранее билеты купи, – сказал Вася. – А то перед сеансом не протолкнешься. Особенно на вечерние.
– Я, вообще-то, вечерами все больше занята, – величественно сказала она. – Подготовительные курсы, и вообще…
– Да ладно врать-то, – миролюбиво сказал Вася. – Послушай… а можно тебе задать один вопрос… очень личный?
– Да? – выдохнула Розка.
– Как тебе удалось добиться такой нечеловеческой раскраски ногтей?
Розка прикусила губу.
– Ну, – сказала она наконец, – вообще это просто. Берешь зеленый стержень, ну пастовый, обрезаешь шарик. Потом выдуваешь пасту в белый перламутровый лак. Перемешиваешь. Ну вот…
– Ужас, – честно сказал Вася.
– Я сведу, – на всякий случай пообещала Розка.
– Да, и поскорее. А то когда я смотрю на твои ногти, мне есть не хочется. Ладно, еще посидим немножко и пойдем, купим по пирожку.
– А зачем мы вообще здесь сидим?
На свежеокрашенных скамейках выступила роса. Море вдалеке за деревьями переливалось розовым и сиреневым, как голубиная грудка, и свет вокруг был розовым и сиреневым.
– Во-первых, – сказал Вася, – на свежем воздухе полезно. Во-вторых, это подшефный стадион пароходства. Общественная работа. Ходим выясняем, нет ли нареканий, жалоб…
– Мы же сидим!
– Знающий человек сидит над рекой и ждет, когда река сама принесет ему жалобы и нарекания, – значительно сказал Вася. – Так оно чаще всего и происходит.
– А разве спортсмены сейчас тренируются? Мне казалось, они по утрам.
– Мы поощряем любительский спорт. Что ж ты, Розалия, дикая какая-то, постановления партии и правительства не изучаешь! Мы поощряем спорт в широких массах. Но и серьезный спорт не забываем, стране нужны олимпийские медали.