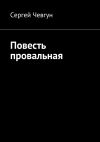Текст книги "Обратная перспектива"

Автор книги: Михаил Устинов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 13 страниц)
Обратная перспектива
Часть первая
В начале дня заглянул Жибрунов. С некоторых пор Гордееву докучали его утренние визиты, но демократизм еще пересиливал, а Жибрунов не замечал, почитая себя собратом-автомобилистом (у его тестя был «москвич»). Поговорили об Иране, сошлись на том, что шаху следовало вернуться, чтоб не мучались заложники.
– Правда, расстреляли б сразу.
– У них вешают, – компетентно возразил Жибрунов.
– Разница не принципиальная. Те-то ведь тоже хороши.
– Агенты! Да, пока не забыл: Жене дубленка не нужна? Один тут привез из Суоми, почти по госцене сдает.
– Нет, у нее есть, – проговорил Гордеев, с каждым словом оступаясь в дикую несообразность: она-то так и будет ходить в своей, тоже финской, дубленке – а он, что теперь станет с ним? И такая по собственной неминучей судьбе жалость расслабила его, что забыл решение никому пока не говорить. – А я вчера, знаешь, – он помедлил, подбирая улыбку к сообщению, – алкаша одного задавил.
– Хорошо, не двух, – хохотнул Жибрунов, и пришлось подтвердить:
– Красногорова какого-то.
– Ба-бах! – Жибрунов привстал и плюхнулся назад в кресло. При желании Гордеев умел сказать убедительно.
– А, не хочется даже вспоминать, – махнул он рукой, но отмахнуться от вопроса то ли не захотел, то ли не смог. – Не успел отъехатъ от Института, иду в левом ряду, иду – шестидесяти нет, и вдруг – этот… прямо из кустов на разделительной.
– И асфальт-то влажный, – подхватил Жибрунов.
– Ты что, издеваешься? – Гордеев прикрыл глаза от такого сочувствия, но там оказалось куда хуже.
Ударил по тормозам – повело, еще раз не успеть, справа – лакированная «тройка» вровень (куда несешься? – мелькнула злость), влево – поребрик как стена, а время всё, тупой удар, что-то грузное поволочило бампером… кровь в ушах, из кустов женщина бросилась к уже трупу (тогда еще этого не знал), ГАИ, «скорая», из «тройки» – мужчина: «Могу быть свидетелем».
Жибрунов весомо заметил:
– Свидетельство о жизни: жизнь – это выстрел в упор, сказал Ортега.
– Что за Ортега?
– И-Гассет.
– А. Вот и я вчера – в упор, – пошутил в свою очередь Гордеев. – Как эти твои ребята.
Не хотелось выказывать растерянность перед подчиненным. Достаточно, что после недостойно суетился: «Товарищ старшина, вот, прошу», – вдобавок льстиво повышая сержанта в звании. Милиционер мельком глянул на его руку со вспотевшим червонцем (да и как еще мог – при людях? уж это следовало сообразить): «Ну и стараетесь вы для протокола, – но снизошел к его промашке (что вспоминалось наиболее унизительным): – Лучше б оказали помощь пострадавшему».
Тот лежал ничком в какой-то луже. Скорее – в просто луже.
– Он что… совсем? – догадался Жибрунов.
– Наповал, – уже досадуя на сближающую откровенность, отрубил Гордеев.
– Ну и как же теперь? – Жибрунов пытался удержать в глазах взвесь недоверия, любопытства и, кажется, безотчетной зависти.
– Разберутся. – Гордеев с трудом обозначил ухмылку.
– Что ж ты здесь сидишь! Иди туда. Или домой хоть.
– Да… какая разница, где сидеть.
– Вот тут как раз принципиальная! – Жибрунов с облегчением словил нечаянную двусмысленность и хлопнул его по плечу. – Ладно, сиди, позже еще забегу.
Гордеев дернул щекой, но собрат у дверей остановился:
– Тачка-то как?
– Облицовку радиатора помял, фара…
– И все? Легко отделался. Ну, держись. – Он вскинул руку, будто в метро надежно ухватился за поручень и советовал поступить так же. Показалось, манжета у него заколота булавкой.
Легко сказать.
Было неуютно, тревожно и, если зачерпнуть до самого дна, противно. Утешало лишь то, что жертва (вот уж негодное для самоутешения словцо, нет – потерпевший, проскочивший в пострадавшие и еще дальше – куда?) – в общем, то, что этот Красногоров – пьянь, смягчало обстоятельства и смещало центр вины.
Только ниже выясненного центра – скрытая от себя контрабанда – пульсировал все-таки страх и нарушал остойчивость. В памяти непреклонный таможенник назойливо щелкал быстрыми слайдами, приближая крах разоблачения: занос, «тройка», поребрик, – но в соседний с провалом момент возникала на выручку благородная помеха, с усилием выравнивая крен.
«Почему же влево не свернули?» – протокольно интересовался сержант, прежде чем позволить пересечь границу.
«Да там ведь женщина стояла!»
«По-вашему, наезд и так и так был неизбежен?» – смотрел он с пронзительным пониманием человеческой натуры.
«А как вы считаете – почему не свернул?»
Видел: сначала поребрик, а потом и какую-то фигуру. Мужчина там, женщина – но кто-то был. И подсознание сработало, что нельзя туда, – опережающая рассудок реакция (а вот эта формула удачна). Возможности свернуть не было – вперед толкала судьба. В конце концов, что – сержанту легче б стало, если бы сейчас не одного, а двоих в «скорую» запихивали? С его стороны это просто жестокая, но необходимая игра. Но жестокая. Если даже Жибрунов подтвердил, что асфальт был мокрый.
Уже и это наказание – за что ему? Сколько пьяных садится за руль, и все с рук сходит.
Да еще эта баба, как махала скрюченным кулачонком, пока не затолкнули в ту же «скорую». Тоже, видно, трезвая была. И зеваки – до чего омерзительно.
Тут и скажешь: все под Богом ходим, хоть его и нет.
Он сдавил виски ладонями и резко отпустил. У кого под боком? Следовало действовать и хоть что-то предпринять. Лазин (нет худа без добра – с интересным человеком познакомился: владелец «тройки» оказался известным журналистом) обещал свести с адвокатом и советовал скорее навестить жену того бывшего пьяницы.
Желания ехать к ней не было. Прятаться и выжидать не в его правилах, но все же надо сначала восстановить все в памяти, осмыслить и увериться в собственной правоте. Сегодня, в еще нервном состоянии, торопиться, пожалуй, не следовало. Хотя что имел в виду сержант, отводя деньги словами: «Помогите лучше потерпевшему»?
Некстати зазвонил телефон. Гордеев узнал голос, но подождал, пока профорг назвалась. Она напоминала о сегодняшнем заседании по вопросам упорядочения зарплаты. Снова обсуждать проблемы, связанные с повышением окладов некоторым, понижением в должности многих, с обидами, нервами во всех видах – от самолюбия до меркантилизма, когда никто не желал уступить по совести, каждый требовал от начальства войти именно в его положение, и только положение начальства никого не волновало (то есть волновало, но не в том смысле), – короче, проблемы, обсуждение которых сегодня было немыслимо.
– К сожалению, мне необходимо срочно выехать. – Он улыбнулся, припомнив завет Лазина. По телефону хоть не видно, но интонация становится располагающей. – Да, буквально сию минуту выхожу.
Адрес он записал еще вчера, но вчера не придал значения. Теперь, назвав таксисту эту набережную, он задумался об очередной несправедливости: какой-то пьяница населяет прямо-таки аристократический район, а он вот вынужден ютиться в современной коробке у черта на куличках. Переезжая мост, он ощутил даже нечто вроде зависти: против правительственных дач – неплохо устроился. Но сумел оценить комичность мысли: устроиться, как Красногоров, пока еще терпелось.
– Какой номер?
– Это здесь? – не поверил Гордеев. Дома кругом стояли какие-то полудеревянные.
Шофер возмущенно пожал плечами. Гордеева уязвило, что потерялся еще и при водителе. Третий раз за сутки – настораживающий симптом. Но тут же он заглушил недовольство собой неприязнью к таксистам: уж как они гоняют – и ничего не случается. Да и случись, такой сумеет выкрутиться.
Чтоб разыскать квартиру, понадобилось обойти дом вокруг. Стало странно: чуть не в центре города – провинциальное крыльцо, три дощатые, прошарканные посредине ступеньки, зелено-ржавый двускатный навес, номера квартир на двери мелом. Такое обыкновенное и прочно забытое зябко напоминало еще не понять о чем. К тому же – удвоивший волнение штрих – справа от двери висело на гвозде мятое коричневое изнутри ведро.
Он пересилил себя и вошел. На второй этаж вела деревянная лестница. По ней пришлось пробиваться сквозь запахи керосина и горящего прогорклого жира, а когда вдобавок и перила переломились в углу, ослепившие зерна сверкнули на изломе памяти.
Дверь была приоткрыта. Гордеев потянул скрипнувшую створку и очутился на кухне. Красногорова стряпала, – он сразу признал ее по нечистому заношенному платью и нарочито бодро поздоровался. Она не расслышала, должно быть, за шипеньем жира. И сама она что-то пришептывала. Он хотел тронуть за локоть, но тот висел в таком мешочке растянутой кожи, что не рискнул и просто повторил громче.
Женщина обернулась, мгновение, еще колдуя, смотрела плоскими глазами – и что последовало за этим, он позже пересказывал Лазину так, что Лазин хохотал, но самому в те минуты было не до смеха. Понимания в ее взгляде не прибавилось, однако она вскрикнула, из темного провала коридора вытащилась полубезумная старуха с трясущейся головой, и начался такой разговор – вернее, их двойной монолог с бессвязными обвинениями, всхлипами и окликами покойного, – что он бы зажмурился, если б это помогло. Слова не помогали.
– Такое впечатление, что они не умеют сказать, что думают. Если вообще умеют думать. Вы себе можете представить?
Лазин мог, поначалу он долгое время работал в отделе писем областной газеты.
Красногорова примолкла, только когда Гордееву удалось вложить ей меж пальцев конверт и она по-куриному опасливо заглянула в нутро.
– Что? чего надо? пропитохи проклятые! – тряся головой, наступала старуха.
– Это вам, – втолковывал Гордеев. – У вас теперь большие расходы.
– Мама, это за ирода! – проклюнулось наконец у Красногоровой. – Вот уж навязался… – всхлипнула она снова, но теперь в обратном направлении.
– Бери, бери! – Старуха, должно быть, считала, что шепчет, и для пущей вразумительности подмигивала одновременно глазами и беззубым ртом.
– Только уговоримся все рассказывать, как было. – Одного он боялся – чтобы баба не стала врать или выдумывать.
Не надеясь на сметливость дочки, старуха подтолкнула ее локтем.
– Спасибо, спасибо, – закивала та.
– Значит, могу я надеяться?
– На что?
– Можешь! – обрадовалась старуха, но запоздала.
– Что так и скажете.
– Законно. – Старуха для верности моргнула.
– А как сказать? – тупила дочка.
– Все, как было: что он нетрезвый был и вы где стояли.
– Где я стояла? – испугалась Красногорова. – Ну где я стояла! – выкрикнула она.
– Да сбоку, сбоку! А главное – что он нетрезвый, – повторил Гордеев, снижая тон.
– Так это всегда… А уж дружки! Колян, и Витек, и Баклажан этот…
– Нет, важно, что вчера было.
– И вчера было.
– Назюзюкался как миленький, – довольно подтвердила старуха и забрала у дочки поглядеть конверт.
– Вот это и скажите.
– Так уж спрашивали. – Красногорова развела пустыми руками.
– В том случае, если спросят еще. – От запаха его начало подташнивать.
– Ага. А где стояла – не признаваться?
– Нет, наоборот – признаваться. (В том, что повторил вслед за Красногоровой это слово, Лазину он не признался.)
– А в чем не признаваться-то? – догнал его по ступенькам вопрос.
Что было на улице, после керосинной кухни оказалось великолепной жизнью. Он даже опустил, что знакомое лицо примерещилось в полутьме лестницы навстречу. Откуда там взяться знакомым? Небо, воздух, угасающая зелень, ветер дул в спину, помогая прочь от этого места, – он дышал широко и на время забыл неудавшуюся ведунью с ее сковородками и котлами. Потом вспомнил, но еще не со своей стороны: вчера такое приключилось с мужем, а она уже сегодня жжет на керосинке что-то тошнотворное. Запах вновь оплотнел в ноздрях, и мысль придвинулась к нему самому: не хотелось, чтоб его жена когда-нибудь так же. Впрочем, естественное несовершенство человечьей природы.
Внешняя точность определения не утешила, хоть жену и не представить на таком месте. Мысль угодила в тупо кромсающие ножницы, и к метро он пошел пешком, надеясь отвлечься.
Встречные лица от ветра были по-восточному собраны к глазам: озабоченные, отрешенные люди, что вчера вдруг раскрылись столь заинтересованными. Плотное кольцо вокруг, почти соучастники, есть о чем посудачить на кухне или в курилке. «Какой-нибудь метр, представляешь?!» – но деланная складка испуга возле рта не в состоянии скрыть любопытной радости глаз. Как без натуги выскочили из заведенной обыденности, и теперь, с жутковатым восторгом, безопасно применить: что, если б я сейчас так же? – это те, кому посчастливилось пробиться к рампе. А довольствующиеся вторым ярусом вытягивают шеи и привстают на цыпочки, стремясь приобщиться.
И лишь для двоих это глубоко всерьез, но один уже ничего не скажет, а другой совершает несуразные движения.
Злясь так, Гордеев спустился в метро окончательно раздраженным.
Подошедший поезд был набит, а у него недостало сил для борьбы за место, и пришлось пропустить. Когда простучал мимо последний вагон, Гордеев почувствовал, как мощно засасывает свистящая вслед его скорости пустота, и инстинктивно отшатнулся от края платформы. Его прошиб пот, и, приложив усилие, он все-таки втиснулся в следующий.
Вагонная давка и слегка приглушенная общим ростом интеллигентности перебранка пробуждению гуманизма не способствовали.
Он старался не думать и стал прикидывать, как в этих трущобах мог оказаться Денисов, незаметно и разом сознавшись себе, что узнал его еще там, на лестнице. Только – взгляд вскользь, внимание хоть к перилам, да огладить задумчиво бровь – отработанный прием, если некстати признавать знакомого. Озабоченный, отрешенный человек. Хотя и объяснимо нежелание говорить с кем бы то ни было после пытки с теми двумя. Внезапно осаднило, что они могут сболтнуть о деньгах в милиции и его помощь обернется против него.
За окном наконец остановилась его станция. Выйдя на платформу, он по старой (не забытой, оказалось, в автомобиле) привычке взглянул туда, где висели часы, одни обычные, а вторые – следить интервал меж поездами и возмущаться: «Четыре минуты уже нет, о чем только они думают!». На этот раз из-под сводов демонстрировали кошмарный сон. Футляры часов оставались на месте, однако внутри них оказалась плоско заштукатуренная равнодушная стена. Обозначенная ими граница стала мнимой, в обе стороны расстилался один и тот же бесстыдно заголенный испод. Тут-то оглушило впервые: набрал номер, а там только ровные безнадежные гудки. Будто знают, что звонит он, и оттого трубку снять не хотят. Зал раздался по сторонам, выворачивая изнанку города, и он оказался потерянным в зале. Не сразу удалось сообразить, что просто механизмы из футляров вынуты. Для поверки и чистки, скорей всего. Да и сообразив, Гордеев вынужден был следить за собой, чтоб не выдать приступа беспомощности жене.
– Знаешь, кого я встретил? Андрея Денисова! – заговаривал он оторопь, попутно компенсируя тому неузнавание. – Помнишь, бросил институт после третьего курса?
– Что-то припоминаю, – искала нужную ниточку памяти жена.
– Он еще в армию попал, потом на филфаке, кажется, учился.
– Да-да! А где?
– Просто на улице столкнулись. – Он ушел в ванную и громко включил воду.
– Нет, где он сейчас? – расслышал Гордеев и крикнул:
– Не успели поговорить толком! – А выйдя, перевел разговор: – Что нового?
У нее на работе тоже проходило упорядочение, и жена в последнее время, похоже, была расстроена.
– Разжалуют все-таки в инженеры. Я ведь самая молодая.
– Да что там они у вас, – безопасно взорвался он накопленным раздражением, – совсем с ума посходили? Ты ведь…
– Ай, да какая разница!
– Ну, знаешь… принципиальная! Совести нет никакой! – продолжал он освобождать себя, но осекся – реплики неточным эхом возвращали уже произнесенное сегодня. Еще неприятней было, что жена не поддержала его негодования. – Съездить бы тебе куда-нибудь, отдохнуть, развеяться. Хочешь в Прибалтику?
– Если бы.
– Нет проблем. – Ему нравилось все мочь и чтоб жена видела, как он все может. Она знала, что может он не все – получить вот квартиру попросторнее, – только это все равно было. – Пару-то недель тебе дадут?
На улице хлынул дождь, ветер нагнал-таки тучи. Гордеев открыл окно. Звук окреп и сгустился. Жена смотрела вниз, обхватив локти ладонями.
– Не замерзнешь так?
Она помотала головой: ей как раз было душно. На лавочке под окном сидел старик и уходить, по всему, не собирался.
– А хорошо там сейчас, – задумался Гордеев.
– Хочу с тобой. – Она улыбнулась так, как он любил.
– Куча дел. – Он притронулся губами к ее лбу. – Впору за это время разделаться с ними.
Жена, похоже, ничего пока не замечала, и поверх переживаний он успевал слегка гордиться, что хватает выдержки не подавать виду. А Жибрунова предупредил, чтоб не проболтался.
– Что я, деревянный! – возмутился тот, но легко пересилил оскорбленность: – Кстати, путевку принесут послезавтра. Можешь обрадовать Женю.
Судя по чрезмерности возмущения, он успел оповестить жену. Что понятно при его патологической любви доставлять информацию первым. Уличать было бесполезно, да и все равно долго б скрывать не удалось.
– Аппарат починил?
– Не до того пока, – слегка кривил душой Гордеев. Теперь как-то посторонне припоминалось ощущение, когда скорость, сила, слитность воль, а сиденье упруго несет вперед, и кулиса послушна в правой ладони, и славно и уверенно быть.
– Не опаздываешь в контору? – ехидничал собрат.
Гордеев представить не мог, как, запыхавшись, бежал бы от метро к проходной под взглядами. Кроме того, у него был свободный пропуск. А Жибрунов словно пользовался тем, что Гордеев оставляет без внимания его бесцеремонность, и остался в кабинете, когда к нему заглянул Тепляков. Собрат даже удобней устроился в кресле, демонстративно подперев щеку ладонью. Манжета и впрямь была заколота булавкой. «Хоть французская», – чудновато утешаясь, подумал Гордеев. Ему стало брезгливо жаль Жибрунова, а Тепляков начальствовал недавно и выгнать того не решился. Начал он общими словами об упорядочении в лаборатории и, не желая касаться сложностей при подчиненном, выразил общую уверенность.
– Значит, Ираиду все-таки повысите? – вмешался Жибрунов.
Гордеев промолчал.
– Решать коллективу, – вынужден был высказаться Тепляков и тут же участливо спросил: – Так что там у тебя приключилось?
Рассказ Гордеева уже отточился для впечатляющего воздействия, его завершенная надежная форма позволяла наблюдать. Тепляков слушал, не перебивая и храня выражение нейтрального вникания, по его мнению, подобающее.
– Да, Игорь… – протянул он, будто решая, добавлять отчество или пока рано. – Непростая история.
Гордеев охолодел от неожиданности. Обычно его наперебой уверяли в пустячности дела. Тепляков счел нужным ободрить:
– Если потребуется характеристика, ходатайство, что там еще – обращайся, поможем.
– Во как, – не удержался Гордеев, едва за мрачным вестником затворилась дверь.
– Ты же его знаешь. Закрой глаза.
Он и сам хотел закрыть глаза, зажать уши и выпрыгнуть – но, закрывая, видел, как изнутри век только четче пропечатывается контраст меж привычной независимостью и нынешней беззащитностью перед чужим вмешательством.
Вспыхивал ускользающий миг – тормоза от натуги визжали, – он еще пытался сдержать время вместе с машиной и тянул руль на себя, как осаживают понесшую лошадь, но неумолимо мгновение удара в отвратительно податливое… Помеха? да конечно, была! но не спасает – разрушена незримая граница, в мышцах тоска от проигранного усилия, и будущее свершается над ним неотвратимо и явно. С определенностью ветви, повисшей на небе в окне; как незыблемость бетонной ограды вкруг Института под нею. И там, в самом недоступном далеке, современные стандартные непритязательные дома жизни, от роения которых, особенно вечерами, чуть не морщился, но сейчас, в липкой панике, когда внутри стены и себя тьма и страх, а там столь просто, уверенно, вольно (и голуби шнырят в помойке, а на площадке носятся беззаботные пацаны), – так тянуло туда, что безумел, как сталось внезапно прообразом: стена, которую смотрел и не видел тысячу лет, и колючая проволока по верху, и собак спускают на территории после рабочего дня. Только ветка качалась в свободе, и рвал ее ветер, а из нутра тягучего страха выворачиваюсь какая-то мысль, не мысль даже – рвалось вылипнуть из его жаркого пластилина чувство.
Не было в его жизни ничего из ряда вон – разве что давняя студенческая история с Денисовым или как нелепо расстались с Катей? – нет, ничего исключительного, за что казнить себя. За что не прощать себе больше, чем остальным. Или было – звоночки, сигналы? Только не отзывался, лишь бы жить с собою в ладу. Краешек ощущения со смазанным названием приобнажал голую изнанку. Неприглядное зрелище. Он открывал глаза, умерщвляя видение.
Наяву дела, как и предсказывал Лазин, постепенно улаживались. Приходилось, конечно, и нервничать, и суетиться – крутиться, одним словом. Даже вынужден был отпуск взять за свой счет. А чего стоило муторное ожидание в преддверии каждого разговора со следователем. Времени хватало не только заново отпраздновать все праздники по скачущему календарю стенгазет, но и несуразных мыслей надумать. Если б сейчас явился бог, то должен был бы чувствовать себя так же, – ловил себя на сумасбродстве Гордеев и с оглядкой возвращал оттуда. А потом в кабинете держался неуверенно. Хотя следователь отнесся с пониманием – между ними возник контакт – и собственная невиновность становилась самоочевидной, угнетала непривычность ситуации, которой невозможно овладеть.
Все же Тепляков обещал помочь, уговаривал он себя. И Лазин здорово содействовал, даже странно – чужой человек. Заезжал за ним, возил к адвокату, его активность смущала, Гордеев чувствовал себя обязанным.
– Глупости! Нельзя же допустить, чтоб такой парень из-за алкаша пропал.
Иногда он оставался посидеть, выпивали бутылочку сухого под разговор («Ничего, так я даже уверенней за рулем»).
– Ты почаще улыбайся, – наставлял Лазин, – у тебя обаятельная улыбка. Карнеги советует улыбку на все случаи жизни – располагает собеседника.
– К чему?
– Напрасно смеешься. Тебе как администратору следовало бы его почитать. Умение нравиться многое решает в современном деловом мире.
В своем деловом закутке Гордееву стало нравиться курить на лестнице вместе со всеми.
– Ты совсем зарефлектировал. Начитался, братец, «Карамазовых», – обрывал его Лазин, привычно прихлопывая факт жизни литературной параллелью.
– Нет, не люблю я его, – и сквозь интонацию Лазин проницал полуправду его слов, только расценивал по-своему.
Если речь заходила о литературе, про Толстого Гордеев говорил: «Давно не читал, хорошо бы…» – с чмокающим даже сожалением о занятости. А при имени Достоевского отрезал: «Не люблю его», – заканчивая разговор. По всей правде, его он терпеть не мог, считая про себя, что такого писателя вовсе бы не должно существовать, но изустно ограничивался приблизительным «не люблю».
– Кстати, Макс Штирнер, которого со вниманием и не без удовольствия читывал твой любезный Федор Михалыч, утверждал, что человека делают рабом три тирана: государство, религия и совесть. Государство он, конечно, имел в виду буржуазное, но в остальном к его словам стоит прислушаться.
Он и прислушивался, когда в предбаннике следователя думал отвлечься, слушая других. Тирании никакой заметно не было. Водитель самосвала только без азарта, сокрушенно матерился и симпатии не вызывал. Гордеев помнил, как нагло ведет себя шоферня на дороге, сознавая неуязвимость тонн грузовика, и вынужденно смиренный облик этого обмануть не мог. Зато привлекал внимание недоучившийся студент (как Гордеев узнал позже, поняв, откуда в том преодоленная интеллигентность), который, не скрывая, злился. Он повез в ресторан знакомую на машине ее мужа, отбывшего в командировку, и выпил-то всего ничего, но как стал отъезжать, просигналил остановиться гаишник. Документов нет, и все-таки запах, и женщина перетрусила разоблачения, – он рванул, гаишник следом, и завертелся детектив. Красный светофор, синий – плевать! Женщина рядом только ойкала. Мураши в кончиках пальцев, такой завод, хрен возьмете! Уже почти бы оторвался, тем, на первой модели, слабо за его «шестеркой» («две тройки», – машинально разделил Гордеев) – и тут какая-то стерва подвернулась под колеса. Догадался – бросил тачку, уговорил знакомую, чтоб заявила об угоне. И все было б тип-топ, да на следующий же день подругу раскололи в ГАИ, припугнули, что сообщат мужу, то ли, наоборот, обещали, что не сообщат.
– Бабы, ни в чем полагаться нельзя, – с ненавистью цедил он, и ненависть не разделить было меж той, что предала его, и другой, пересекшей впотьмах его трассу. Она вроде была сейчас при смерти.
– Так ей и надо, шкуре, – и он добавлял краткую, но еще более эмоциональную характеристику.
А самый-то край: гаишник хотел предупредить, что не горит правый подфарник.
– Пра-вый!
Его неколебимая уверенность в себе настаивала на признании.
– Такой вот контингент в нашем клубе автоубийц. – Гордеев силился отдалить смысл за ироничную приставку.
– А что, это новая формация, – рассуждал Лазин, словно набрасывал тезисы статьи. – Чувствуется самосознание и хватка у парня. Как ни говори, определенное достоинство. Главное – верно сориентировать в обществе.
– А как же совесть?
– Опять ты за свое! – Лазин морщился и перечеркивал вопрос ладошкой. – В конце концов, Уайльд был прав: совесть – официальное наименование трусости.
Возражать было сложно. Лазин почти угадывал его состояние, на которое Гордеев пытался закрыть глаза, только запаздывал с диагнозом. Точности мешала ничтожная соринка на веке, и откуда Лазину было знать о сверкающей точке, разраставшейся из угла, куда случай загонял Гордеева.
Когда Лазин уезжал, Гордеев наблюдал в окно, как он привычно вдвигает крепенькое туловище меж рулем и сиденьем в блестящей «тройке», дверца точно влипает на свое место, складывая его левую руку (слышен приятный щелчок), и автомобиль разворачивается с одного заезда. Натянутое оживление лопалось, и сквозняк тянул по квартире. Жена из-за стены просила прикрыть форточку.
– Ну что ты, совсем расклеилась? – Лазин ей чем-то не понравился, и она не объясняла чем.
– Нет-нет, – спешила она и заговаривала не о том, о чем хотела. – Заезжала сегодня к твоим. Обижаются, что не бываешь.
– Ага. «Как же – занятый человек» – и поджатые губы. Ты ничего не говорила? – проверил он на всякий случай и вспомнил, что еще не рассказывал Лазину, как побывал на кладбище. Не забыть бы в следующий раз.
Хотя о чем тут особенно рассказывать? Эта процедура всегда выводила из равновесия, а тут и кладбище оказалось то самое, где лежит его мать. Да и день выдался неудачный, коварный: с утра солнце, он даже не надел шляпу, а на месте зарядил самый осенний дождь. Но это, может, и к лучшему: он-то и помешал снять с гроба крышку, как порывались, чтоб сфотографироваться у открытого.
– Одно, пожалуй, забавно: они вроде как гордились перед его родней и собутыльниками, что я пришел.
«Такие люди…» – шептала старуха значительно и громко, и его первым подтолкнули бросить ком глины.
– Вот видишь! – обрадовался подтверждению Лазин. – У народа здоровое отношение к подобным штукам. Это всё ты, интеллигент паршивый, хочешь вывернуть наизнанку.
Могила матери была в другой аллее, и после он навестил ее, хоть нашел с трудом. Когда хоронили, кладбище заканчивалось на ней, а теперь ряд холмиков с одинаково торчащими плитами далеко продлился. На соседней была молодая фотография, показавшаяся здесь случайной, но цифры на камне исключили возможность ошибки. Между матерью и этим, в головах, росло невысокое деревцо. Дождь припустил пуще, Гордеев пожалел было, что без колес, но на свою машину сейчас и смотреть не мог.
А «тройка» уверенно брала с места, за стеклом виден был лохматый греческий пес ручной работы – как живой. Когда машина сворачивала на улицу, в указателе поворота начинал пойманно биться оранжевый мотылек.
Почему-то о встрече с Андреем на похоронах он не сказал. Собственно, ничего удивительного: не столь уж они близки с Лазиным, чтоб выкладывать все подряд. Удивляло лишь то, что он помнил, что не сказал. Будто таил. А какой тут секрет? Серьезного разговора не получилось. Может быть, только излишняя доверительность – но это от обстановки. О себе вроде и сообщить нечего – ну, диссертация, завлаб, последние события Денисов и так знал и, кажется, не вник, когда Гордеев неожиданно для себя рискнул передать мучившую его сумятицу.
А тот после мытарств закончил истфак, около четырех лет работал в исследовательском институте, и тут вклинилось насторожившее:
– А потом пришлось уйти.
В интонации прозвучало какое-то суждение, и Гордеев посмотрел на приятеля изчужа, далеким взглядом. Довольно нелепо: собеседнику волей-неволей приходится сочувствовать, хотя ясно, что в неудачах его виноваты либо бездарность, либо норов. Заурядная ситуация, и Гордеев, вычислив несказанное, стал чуточку выше, как бы уже снисходя. Денисов точно почувствовал.
– Ты не задумывался, почему Чичиков объявляет лояльным подданным в каком-то там губернском городе, что «потерпел по службе за правду», и это вызывает участие и доверие к нему? – (Гордеев наморщил лоб, как бы припоминая.) – Я не потерпел, не беспокойся. Обстоятельства сложились. Впрочем, «обстоятельства сложились» – может быть современной подстановкой «потерпел по службе», а?
Денисова позвали помочь, и тема, к счастью, оборвалась.
Дождь продолжал нудно крапать. Старуха поддакивала головой, глаза Красногоровой сделались глубже, должно быть, от слез. Отдельно перетаптывались приятели, явно предчувствуя праздник, но пытаясь выразить присталую скорбь, и с готовностью кинулись поднести гроб из автобуса к могиле. У матери Красногорова было хорошее, открытое, но давно обмершее лицо. Капли стекали по сбившемуся платку на лоб и скулы. Дочь была похожа на нее. Интересно, как выглядел Красногоров? А может, лысый был, гнилозубый.
Опустив наконец сковывавший венок на свежую могилу, Гордеев постоял над ней. Глядя на холмик в утлой раковине, Денисов проговорил:
– Жалко мужика, он какой-то ошеломленный своим пьянством был. И безобидный.
Гордеев чувствовал, что укора в его словах нет, и все же заметил:
– Все сострадаешь человечеству?
Андрей посмотрел на него без улыбки и пожал плечами.
Гордееву было неловко, что не сдержал отместку.
– Будешь чай? – отвлекала жена.
Он благодарно откликался, демонстрируя уверенность: ей эти волнения ни к чему, хорошо, хоть допытываться не пыталась.
И не заикнулась, почему не отвез в аэропорт на машине, а поехали автобусом, когда Жибрунов принес путевку в Палангу. Правда, мучила нерешительностью:
– Хочешь, я останусь? – и приходилось, успокаивая, гладить ей руку. А еще и дорога была та самая, что на кладбище.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.