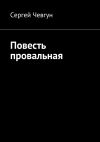Текст книги "Обратная перспектива"

Автор книги: Михаил Устинов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 13 страниц)
– Может, не лететь? – не прекратила она и в аэропорту.
– Что за идея? – Он терзался бессмысленностью вопросов и – шире – предотлетными минутами, когда разговор вырождается в обмен лишними словами ради заполнения разорванной пустоты, а жена к тому же длила все это. Да и в голове, как назло, вертелось недавнее сообщение о гибели самолета.
– Сейчас даже безопасней летать, по статистике.
– Но мне ведь по воздуху! – Его улыбка ободрила: – Знаешь, я хотела сказать…
– Погоди, подойдем туда. А то не услышим, как объявят.
Он не смог ласково, как хотел, проститься с нею. Она, кажется, по своей обычной логике заподозрила из-за этого еще большие сложности, чем на самом деле. И явно не те.
Что же пробовал объяснить Денисову, что и сам уж не понимал? Не оправдывался, нет. Страх наказания – даже не самого наказания, а крушительных перемен, – этот панический страх рассеялся, утратив реальность. Но какие-то заусеницы цепляли скольжение в накатанной жизни. Он вздрогнул, когда в автобус вошел контролер, и не сразу успокоился, даже обнаружив комочек билета в пальцах. Невосполнимый разлад, порядок порушен.
Ноет метина давней еще аварии: капот изуродован, жалостно досачивается вода из пробитого радиатора, а на стволе дуба глубокая рана – и смятенное, мимо мысли, чувство выдувает насквозь, мимо кореженой машины, в дрожащий разрыв чуть не всего мира, и лишь сам повинен. А теперь непоправимей и глубже.
В метро на своей станции он намеренно перешел на другую сторону платформы и неторопливо поднял взгляд к часам. Воображение никак не поспевало за изощренностью заготовленных потрясений. В футлярах не было даже стены. Две дыры вместо нее, черные дыры зияли, ощерившись по краям кирпичами. Изнанка пробита – и такая под ней вскрылась пустота, и темень разверзлась – стерегущий оскал ночи. Он слушал, слушал сквозь затянутые в провод гудки, по которым ясно, что на том конце никого, но слушаешь, слушаешь, уже не надеясь, а просто в бессилье и страхе оборвать последнюю связь.
После отъезда жены в квартире осталось слишком много неприкаянного места. Он понимал, что, пока она была рядом, было перед кем не показывать вида, и долго не ложился спать, но все равно ночью снился сон, из тех, что поутру стараешься не вспомнить, но помнит боль в груди и теснит сердце.
Оттуда показывали жену. Обнаженная, она стояла внутри клетки, и он ее не сразу узнал: волосы ее отросли до плеч. Никого вблизи не было, но он ощущал, как по сторонам и сзади напряглось невидимое злорадное ожидание. Она подошла к решетке, взялась за прутья и безмолвно смотрела ему в глаза. Он знал – необходимо что-то сделать, и знал что. Но знал также, что это выдаст его поджидающим. И, не делая единственно необходимого, уже делал другое, внутренне разрываясь, но с собой ничего поделать не мог. Сон, по счастью, оказался на той границе, откуда еще не поздно отступить в явь, оставив кошмар и нерешение по ту сторону. Этот шаг удалось сделать, но боль неотвязно царапалась сюда вслед за ним, криком он пытался оторваться от давящего ужаса, напор которого безысходно распирал глотку, а облегчающего звука не было. Впрочем, он просто снова заснул, – понял он, когда проснулся. Теснота меж ребер оставалась, врачи давно предупреждали – сердечная недостаточность. Но вторую такую же ночь пережить не хотелось, и он с утра прикидывал варианты на вечер. Предвестием старческого одиночества мигнуло сожаление, что не к кому наведаться из родных. Только сестра, но с ней никогда не были особенно близки, а со смерти матери виделись еще реже. Лучше всего для успокоения показалось зайти к Лазину, тем более что до сих пор у него не побывал. Однако по дороге снова настигло с незащищенной стороны, и пока Лазин демонстрировал жилище, он старательно восхищался расположением комнат, ванной с черно-белым кафелем, туалетом («хоть в шашки играть» – «давненько я не брал в руки»), но все равно было заметно.
– Никак не успокоишься, братец? А я слышал, все тип-топ, как выражается твой юный коллега. – Лазин поправил шарф на шее.
– Простыл?
– Сквозняков остерегаюсь. В этаком хлеву. – Его ручки не хватило обвести комнату.
– Тем более кстати. – Гордеев вытащил из кейса бутылку.
– Э, нет, только не сюда. – Лазин убрал «сибирскую» со столика, где на стеклянной столешнице были разложены курительные трубки.
– Кстати, взгляни, вот эта от самого Мегрэ. Как-то раз во Франции обменялся с Сименоном. Пришлось ему работу Семенова отдать.
Гордеев цокнул языком.
– Что, Юлиана?
– Да нет, есть такой мировой трубочный мастер в Балахне – Иван Семенов.
– Иван, Юлиан – какая разница…
– Вот и шутить уже начинаешь! Похвально. В комнату вбежал мальчишка и отвлек от смущения.
– Лазин! – скомандовал отец. – А ну марш к себе.
– Ты мне задачку должен!
– Мама вернется – поможет, золотце. Повтори пока Черни.
Следовало бы спросить что-нибудь приятное про мальчика, но Лазин уже убежал на кухню и вернулся, катя перед собой столик с бутербродами, оливками и рюмками.
– А знаешь, закрадывается подозрение, что тебе просто захотелось поиграть в совесть. – Выпив, Лазин поудобнее устроился в кресле.
– Да-да, не смотри так. Остроты бытия захотелось – не пережить, так хоть сыграть глубокое ощущение.
– Задавить – это тебе для остроты ощущений мало?
– Нет, это тебе мало! – Лазин ликующе ловил его на слове, не сбиваясь на неторную тропку. – Я тут читал Фрейда – оч-чень у него занятно про это самое. Про совесть, я имею в виду, – улыбнулся он. Гордеев тоже в такт понимающе улыбнулся. – Между нами: я вообще считаю, что его учение о личности мы вполне могли бы использовать. Ничего странного, он такие материалистические бездны в психологии открыл. А это главное, Демокрит – Платон, помнишь?
Он налил еще. Гордеев опьянения не чувствовал, только над переносицей копилась смурная тяжесть, и деревянные звуки пианино из-за стены усиливали ее.
– Послушай, Павел, почему меня преследует это? – Он заранее сознавал беспомощность вопроса, но тормоза не держали. – Прямо в гастрономе, у самых дверей… а, – махнул он и выпил.
В магазине, где по-пятничному людно, гуськом переминались в кассу, невнимательно смотрел по сторонам, и вдруг взгляд споткнулся. На полу у дверей лежала старуха, еще одна поддерживала ей на весу голову, а другая такая же тормошила проходивших, прося, вероятно, вызвать «скорую». И рядом застыла выпуклая лужица молока.
Он отвернулся, но глаза мимовольно притягивало туда. Седая, с сухим лицом, лежавшая лежала спокойно – руки мирно вытянуты и не хватают вокруг. Лишь грудь под плоским черным пальто вздымалась высоко и редко. То ли она пыталась глубоким вдохом уцепиться за уходившее, то ли, наоборот, силилась исторгнуть препятствовавшие остатки. И поверх этого истового дыхания распространялся ее взгляд.
– Нервы, – кивнул Лазин. – Тебе самому хорошо бы отдохнуть. Так вот, по Фрейду, совесть – власть идеального Я в человеке. Как бы это… ну на пальцах: это Я создается в результате вытеснения эдипова комплекса (слыхал, конечно?), причем отец воспринимается как недостижимый эталон, и такое восприятие формирует идеал сверх-Я. А в сравнении с идеалом человек и испытывает то, что приблизительно зовем совестью. Но в самой неосознаваемой глубине – это всего лишь страх перед более сильным человеческим существом, конкретно, кстати, связанный с боязнью кастрации. Видишь – все рационально, никакой мистики. Это как болезнь, психоаналитику тебе бы показаться. Если хочешь, у меня есть знакомый.
– Совсем не помню отца – он погиб на фронте, – зачем-то сказал Гордеев.
– Да? – Лазин подтянул шарф к подбородку. – Тут, видишь ли, дело в принципе.
– Я понимаю, – спохватился он.
Слова Лазина, обтекая чувство поверху, не осиливали того, что творилось внутри. Хотелось сдвинуть или развернуть их, чтоб открылось и так уже внятное ощущению, но требовавшее равноценного слова. Хотя, может, водка начинала сказываться.
Там, при дверях, продолжалось их старушечье дело, справятся кому надо (да и кому уже это надо? – и такое последействие слова вскрывалось цинично, но точно), а тут – медленное перетаптывание очереди, деньги, чеки, он забрал бутылку и, уже выйдя на улицу, обернулся. Через стекло, в беззвучии (а теперь еще и в воспоминании), пронзительней стало, как лежит она ненужно среди толчеи, в ногах спешащих, не успевающих помочь или не умеющих чем, – и оттого прячущихся в обрез времени, в слитую друг к другу толпу, пока кого-то следующего не выхватит и не швырнет под ноги.
Лишь старуха, лежа на затоптанном сером полу, возвышалась над всем этим и величайшим напряжением, распиравшим ей грудь, силилась придать смысл происходящему. Взгляд по-прежнему был такой, что, встретившись с ним даже сквозь стекло, Гордеев заспешил отвести глаза.
– Посмотреть бы на этого Красногорова.
– Мало ты пьяниц видел?
Гордеев чувствовал, что вступил с миром в иные, не известные до сих пор отношения, которые сводили на нет любую предусмотрительность и защиту. Одно было ясно: необходимо позвонить, наконец дозвониться.
– Понятно. Жена за порог… – Лазин переключил телефон в ближнюю розетку и так любовно придвинул его, что Гордеев выдавил мычащее одобрение. – Обрати внимание, – хозяин изогнулся через стол, указывая пальцем, – тут спереди лампочка. Отключаешь звонок – и при вызове мигает.
– Удобно. Если спишь, например…
Лазин посмотрел на него пристально, но насмешки не обнаружил.
– Извини. Что-то я уже не соображаю. – Гордеев бросил трубку, не дождавшись ответа.
– Послушай, – Лазин положил руку ему на колено. – В самом деле, если объективно: что произошло? Одним алкашом стало меньше. По чистой случайности – подчеркиваю – благодаря тебе.
Умом Гордеев и сам понимал это и – умом же – отказывался платить. Зависело бы что от него – тогда да, пожалуйста. Но когда нелепая, неотвратимая случайность – он отказывался. И вообще отказывался считать эту смерть.
– Нельзя же так, нельзя! – Он внезапно стукнул по колену, и Лазин едва успел убрать руку.
– Моя Марьяна говорит: если нельзя, но очень хочется, так, значит, можно. В конце-то концов, закон что, хуже тебя знает?
– При чем тут закон?
– Ну еще бы, праведней папы Римского хочешь быть. Не думаешь, что все это не очень-то красиво с твоей стороны? Я вот свидетельствую за тебя – вру, значит?
– Просто сразу много навалилось – и все одно к одному, – оправдываясь, заторопился Гордеев. – Даже студенческая стройка, первая моя стройка, первый же день – всё такие истории лезут. Знаешь, Казахстан, пекло, с самого утра впряглись в работу – лагерь не был готов. А перед этим всю ночь тряслись по степи в грузовиках от какого-то полустанка, продрогли, холод такой, что не заснуть. Приехали голодные, тут солнце ударило, а лагеря нет. Сразу ставить палатки, столовую, одна бригада – погреб рыть. Забили сваи, сделали настил, поверх решили набросать земли. Сергей, их бригадир, уже дверь навешивал. Сверху все бросали и бросали землю, и вдруг все рухнуло. Серега был внизу. Сразу же бросились откапывать – видел бы, как пытались успеть ребята. И вдруг – рука. Скрюченная, серая – то ли от пыли, то ли тогда уже был… Его увезли, и все. За обедом кусок не лез в глотку. Сидели, курили. Таким все свое стало… – Он сцепил пальцы, не находя слова. – И голод, и жара… И тут одна девица: «Мальчики, не курите за столом».
Лазин замотал головой.
– Вот действительно в одну кучу – за здравие и за упокой. Это, конечно, трагедия. А таких, как твой Красногоров, и нужно давить.
– Он безобидный был, – неожиданно повторил Гордеев, доверившись Денисову.
– Любопытное достоинство: безобидный, безответный – как еще?
– И сам не может обидеть.
– Вот-вот! Может, это и была твоя миссия – уничтожить ничтожество.
– Я и постарался.
– Не смейся. Каждому свое.
– Еще бы. Мы-то сверхлюди.
– Ницшеанства ты мне не шей. Просто люди. Мы трудимся, трудимся для всех, а такая тварь только жрет… Впрочем, что избранники есть – это безусловно, – добавил он, решившись, и откинул голову на спинку кресла.
– И им все можно, – не принял приглашения Гордеев.
– Здравствуйте, Федор Михалыч!
– Нет, погоди, разве кому-то позволено не чувствовать вины?
– А ты так уж стремишься.
– В том-то и дело, что смелости не хватает.
– Ну и радуйся, раз идут тебе навстречу.
– Слишком уж активно. Вот ты журналист, ты объясни мне с этим самолетом – почему так долго молчали? Ладно, что самолет, сейчас много летают в космос, так привычно всем. И по вашим сообщениям пригородная прогулка: старт, покрутились с веселыми лицами по телевизору, сели – и звезда на грудь.
– Я о космосе не пишу! – Лазин выставил ладони, отталкивая упрек.
– И только потом кое-что проясняется, как там на самом деле. Леонов после своего выхода в космос не мог пролезть назад в люк – так раздуло скафандр! Я как услышал об этом – представить не мог, что за усилия понадобились ему там, в невесомости, без опоры, какие нервы, воля…
– Ну правильно. Зачем муссировать такое?
Кому надо – знает.
– Да знай я сразу – я бы все двадцать лет на него другими глазами смотрел! И не на одного Леонова. Ведь тут неуважение к ним, к нам, – ко всему народу, чуть не предательство!
– Нет, так черт знает куда зайти можно. – Лазин сидел, выпрямившись. – Я считал тебя умней.
– Для кого пишутся эти сообщения? – по инерции проскочил Гордеев. – Почему о нас-то так думаете и словно не доверяете никому? Где же совесть?
– Знаешь, Игорь, – жестко проговорил Лазин, – если хочешь, чтоб у нас остались приятельские отношения, таких речей больше при мне не заводи.
Гордеев словно с разбегу наткнулся на внезапную стену, стена, правда, отпружинила, но звон в ушах остался.
– Может, тебе Духовную академию посетить, чтоб просветили насчет совести? – Лазин вернулся в иронический тон, демонстрируя, что не придал значения его случайной оплошности.
В воздухе низко висел туман. Против подъезда стояла птица-«тройка» Лазина. Гордеев провел по ее темному блеску пальцами – на крыле остался извилистый след. Выходило, что Лазин умеет думать лишь до той степени свободно, какая, в его представлении, еще терпима, а дальше – непереходимая граница, слепое пятно. И сейчас не попытался вникнуть в суть, а просто сработал, как фотоэлемент в метро, на некие запретные сигналы и мгновенно – щелк шторкой в мозгу, а его отшвырнул прочь.
Но и это объяснение, а не ответ.
Он попал наконец на островок трезвости и с облегчением вспомнил: хорошо хоть, не ответили по телефону – как бы уговаривался при чужом. Но звонить с улицы раздумал – сейчас было б катастрофой, если бы она отказалась увидеться.
От автобуса шел напрямик через газон, по хрустящей траве. В кухонном окне горел свет, и непривычное волнение натянуло пружинку.
Катя встретила его, еще не зная, как встречать. Он улыбнулся, расставил руки, и она готовно приникла к нему. Стало жаль ее, и одновременно вернулась уверенность, и пружинку отпустило. Ему претило, если женщины прятались в колючую ироничность, такую нелепую со стороны.
Пока Катя хлопотала с ужином, он сидел тут же, на кухне, и с удовольствием смотрел, как ладно у нее получается. Видел ее старенький халатик и думал: «Неужели все тот же?». Самому непонятно было, какое время из их уже безвременного знакомства имеет в виду, повторяя «тот же», но так приятно было думать для поддержания сладко саднящей боли, и, дразня боль, он удивлялся, как после такого жизненного круга вновь оказались вместе. Сейчас это «вместе» обрело оттенок постоянства, словно и не расстались тогда, – может, из-за домашнего вида Кати, халатика. Но что, если б не расстались? То ли в утешение, то ли искренне он приходил к выводу, что ничего хорошего из этого не вышло бы. А такого вечера не было б наверняка – такого, чтоб они прочно связаны прошлым, не ждут будущего, ничего не обещают друг другу кроме того, что здесь и сейчас. В мире с собой стало покойно и уютно. Последние слова Лазина относились не к нему. Ну нет у него такого пятака, чтоб пробиться к этому журналисту, – и не надо.
– Ты молодец, не забыл, – сказала Катя, когда он наливал шампанское.
– Женщинам обычно нравится полусладкое, а тебе… Нетрудно запомнить.
Сам он пил коньяк, каждая рюмка заталкивала в плотную темноту, дыхание пузырьками восходило к поверхности. Думать тоже становилось трудней, но только сейчас ощущения облеклись хоть какими-то словами. Краткую мирную остановку он проскочил и едким, самому неприятным голосом рассуждал из глубины.
– Поразительно, – поражался он, и Катя внимательно поднимала брови, – смерти для нас словно не существует. Родные умирают старыми, почти не жаль – разве себя.
– Себя – что умрешь или что еще не умер?
– А молодые если и гибнут, так далеко и неочевидно. Пусть и очевидно – все равно как-то мимо. Отказываемся принимать, и не потому, что уверены в бессмертии, наоборот – слишком ужасна она своей окончательностью, завершенная бесповоротность, лучше уж… что думать, если можно отвернуться. И все устроено для забывания. А мы и сами-то не помним, не хотим. Нам напоминать надо! Твое здоровье, – непоследовательно вставил он.
Она слушала слова, не пытаясь сложить. В памяти живей было, как вчера, после работы, в ноги почти – детская коляска, шаг в сторону – коляска за ней, рассердилась, подняла голову. Коляску вела школьная подруга. Обрадовалась, как всегда радуешься беспричинно лицу давно не виденного человека. «Ой, ты почти не меняешься», – слабое утешение. У подруги второй, второй мальчик. Положила ладонь на перекладину, коляска мягко подалась, покатила. Как во сне. Неожиданно каждый шаг, подчиненный лишь ей, стал важным и осознанным. Подруга, что знала, – об одноклассниках. Почти не слушала: все как у всех. Рука чуть подрагивает на прохладной перекладине, коляска покачивается, убаюкивает синий конверт. Мимо – идут, бегут, мчатся – мимо того, кто лежит, не зная себя, о себе, такое безмятежное…
– Только иногда слабый звоночек, – продолжал распинаться Гордеев, – что-то такое возле, за стеной, или овеет рядом, задев рукавом. Но очень мы благопристойны, чтоб заметить. А и заметишь, всегда есть наготове слово – такое, знаешь, словечко для защиты от очевидного, такое резиновое словцо, что и не докопаться, что же оно значит. И говоришь: «задавил пьяницу», потому что «убил человека» невыносимо для слуха и языка. Ладно, выпьем, – снизошел он из глубины.
…Плавно, неторопливо въезжает в жизнь, и самой торопиться некуда и нельзя. Не спеша, за нею, ведя ее – почти остановленное движение, замедленное до осязаемости. Так полно и чутко: вот, этот миг – и умереть. «Приехали. При-и-ехали», – подруга руками и голосом потянулась к сыну, надежно и бережно обхватив. Осталась одна на широкой улице. В окнах неровно, как на ветру, нервные всплески заката, обнаженно красные. Демонстрация – чего? И ненужное облегчение, когда освободилась от коляски.
– Налей и мне коньяку.
– Но какой был взгляд, – не вовремя вспомнил он. – Лежит, вот так дышит (он показал) – и все уничтожает. Без ненависти, без суеты, отвергла по какому-то безусловному праву. Словно перегородку устраняла, отделявшую от главного, нам не видимого, а она прозрела. Знаешь, как это – почувствовать себя перегородкой?
– Ты какой-то не такой сегодня…
– Да?
– Да. Лучше.
Он по-детски улыбнулся и заторопил слова:
– А какой бы у него оказался взгляд? Я даже в лицо ему посмотреть не посмел. Только и соображал, как бы выкрутиться. – Он покрутил головой. – Будто из такого можно выкрутиться…
Воробьи настырно чиркали по небу, силясь зажечь рассвет, а едва удалось какой-то ничтожный, почти случайный, – вовсе с ума сошли, и тогда он выловил себя на дне потенциальной ямы. Такого утра не было со студенческих лет.
Путь из глубины, уже не наполненной опьянением, был едва осуществим. На улицу еще можно было выбраться, но каждый шаг по дну плоско придавленных небом новостроек давался сборным усилием, дышать в плотном сером воздухе казалось нечем. В голове бултыхалась колба с тяжелой вязкой жидкостью, и он прищуривался, боясь расплескать.
У ларька теснилась выездная выставка кунсткамеры. Сквозь сближенные веки он смотрел, как к стоявшему впереди типу, бережно неся себя, подошел корешок – к щетине прилепилась тополиная пушинка. Хотя, какие там тополя – наверно, из подушки.
– Ух, нормально выспался сегодня! – сказал тот скорей удивленно, чем радостно. Отклика не последовало, но ему, видно, не терпелось пообщаться. – Тут, в седьмом доме. Такие в подвале трубы теплые.
– Да знаю я.
Стало ясно, что это не пух на щеке, а кусок стекловаты, но ужасаться было нельзя, чтоб не повредить себя. Все они были вместе, локоть к локтю в одной глубине, из бездны взывая к распределительнице пива. Стоявший впереди вытащил из кармана рыбный скелет, обдул крошки и поделился с товарищем.
– Обожди, не суй! – окрикнула продавщица, когда наконец настала очередь Гордеева протянуть в окошко звенящую мелочь.
То, что даже эта не отличила его, смешав с ними всеми, оглушило окончательно. Об этом можно было только не думать, чтоб выжить, и, сцепив зубы, он дождался, пока она обслужит своих избранных, подошедших со стороны двери. Частичным воздаянием стала кружка, тонкая из нее в спекшиеся губы струя, прохладная, горькая, – и каждым толчком кадыка легкие пузырьки проникают внутрь, блаженные спасательные пузырьки освобождения от саднящего во рту и горящего в голове и сердце, и постепенно выносят на поверхность. На улице начинало распогоживаться.
К Кате он заходить не стал. В задумчивости проскочил ее дом – будто в самом деле проскочил, а возвращаться особенно не за чем. Первая послепивная легкость прошла, внутренности словно перетряхнули, и теперь они суетливо, но без толку искали свои места. Одновременно, новой казнью, вернулась способность думать. Даже не думать, а припоминать, что было еще ужасней. Выхваченные воспоминанием фразы и жесты вне утраченной общей связи становились особенно чудовищными, но еще больше угрызало то неведомое, что зияло за высвеченными краями памяти.
Поезд высверливал тоннель по-живому, настойчиво несло синтетическим запахом обивки, окна скользили сквозь темноту кадрами передержанной кинопленки. И на них пламенели слова, которые безуспешно пытался вырезать из памяти. Лазин сказал на прощанье с улыбкой: «Ты так говорил со мной сегодня, что непонятно – кто же из нас двоих убил человека?».
Приговор нерасторжимо утрясался в самим заготовленные колдобины побочных долгов. Почти физическое удушье стыда не отпускало живой вины.
Слова, мысли, действия – ограда, которую сам возводишь, а потом бдительно стережешь. Служба – один из слоев защиты: повседневное самооправдание и приятное чувство придушенного долга.
Просто сказать «они», заколотив с двух ударов последнюю щель в загородке, – и сам уже вроде ни при чем. Лишь бы не остаться наедине, глаза в глаза, не будучи ничем защищенным. Сказал «они», не проспал на работу да еще в автомобиль упаковался – заложник собственного благополучия, – что способно прошибить многослойную защиту? Разве может просветить ее хоть малый лучик?
Есть, есть и стремления. Ты не отдал себя ничему, а живешь так, что хочешь получить все. Вот и неудовлетворенность – не вечная, а постоянная и сиюминутная. Постоянное стремление к сиюминутному насыщению желания, попросту – пошлость. И тяга хоть к какому подтверждению жизни, потому что такая – она не твоя в полной мере. И не вполне жизнь.
А настоящая вдруг пробьет брешь в хилой преграде – и казнит, виноватит, вторгшись корявым углом. Но устраивается-то не сама по себе и перекорежена тобой. Вот тут-то – спрос, тут ответ держать тебе одному. И не в том вина, что в тот раз не свернул – свернуть как раз и не мог! – а что, не сворачивая, так и прешь всю жизнь по жизни неоглядно. Только встряхнув, и можно заставить оглянуться.
И по-прежнему звонки упадали в пустоту, никто не брал трубку, словно весь настраданный опыт ничто и он многое еще должен.
Выйдя из вагона, он для окончательной – хотелось – расплаты остановился, переждал, пока вытекут меж колонн к эскалатору, чтобы в тот момент остаться совсем одному, и, предчувствуя, как ему это будет, медленно, но решившись, возвел глаза —
Но это уж слишком, слишком. Вот ведь странность: что должно быть реальным в полной мере, никак не желает срастаться с действительностью, и нынешний реализм требует чуть не сказочной умиротворяющей развязки. По крайней мере примиряющей человека с собой таким, каков он есть, любимый: гуманизм. Впрочем, и не странно, нет. Нашей стойкости в любых жизненных испытаниях ближнего можно лишь поражаться. Какие мощные у нас слабости, сколь непреклонно твердыми делают нас они! Из какого только однозначно ясного положения вывернуться не можем. Ванька-встанька: гениально устойчивая конструкция. Что же нас пробрать-то способно, достать, раз умеем объяснить все. В конце концов все уверенно покрывает желание: надо жить. Несколько даже в ином, скрадывающем личное удовольствие наклонении: жить-то надо. Вот наш категорический императив. А как же тогда – «жить живи, однако и честь знай»? Нет, мыслительные потуги ни к чему, определение бытия исчерпано. И сознание никак не досягает до очевидного вопроса: а зачем? таким, как мы, – зачем? (Жибрунов, как обычно в трудной ситуации, нашелся цитатой: «Ортега четко сказал: жизнь человека – чистый случай». – «Что ты говоришь! И я так же думаю». – Гордеев даже прищелкнул пальцами.)
Ведь, с другой стороны – эта спасительная другая сторона! палочка-выручалочка для ваньки-встаньки, – что ему теперь прикажете делать? выйти на площади Восстания и посыпать перстью главу? прокаженного разыскать, дабы обмывать язвы? бросить заведование лабораторией? застрелиться? из чего? – и из-за чего? Если из-за тех дурацких дырок под потолком в метро, так не стоит:
– разверзтые прежде в узнавание провалы были прикрыты новенькими часами. Загорались неоновые цифры, не надо было даже трудиться, высчитывая деления полдневного круга, – электроника, прогресс. Из утешения взгляда явилась первая, быть может, здравая за неделю мысль: кому же это хотел дозвониться? Он подождал, сверяя с наручными, – ходили точно.
Срыв едва не настиг перед квартирой, когда ключ не повернулся в замке. Дверь открыла изнутри жена и спросила строго:
– Где ты был столько времени? Но строгости ее не хватило надолго.
– Ну где ты был? – (Он, шагнув, ее обнял.)
– Я не выдержала: лечу… Я уж и Лазину твоему звонила. Где, где ты болтался? – повторяла она, продолжая прерванные на его появление слезы, и стучала ладонью в его плечо. – Как не стыдно…
Ему стало радостно.
Отстранившись, она вдруг сказала так, словно хотела досадить ему:
– Ты и не знаешь, у нас будет ребенок!
– Повтори. – Он смутно что-то почувствовал.
– Как хочешь, а будет! У меня будет!
Ее слова звучали разрешением, облегчающим щелчком после изнурительно долгих гудков. На том конце провода сняли трубку.
– Я уже к маме хотела бежать, – улыбнулась она некрасиво, все еще всхлипывая.
В зеркале ему было видно свое лицо над ее вздрагивающим плечом. Острая складка прорезалась справа вокруг губ, что-то жестокое высветилось в ней отражением зеркала. И щадящее воспоминание принесло добрую весть, что заснул у Кати ночью прямо на кухне, даже галстук не развязал.
Он крепче обнял Женины плечи. Вот она – постоянно рядом, а в прошлом ее словно нет. Как случилось или не вышло, что стал забывать?
Когда это было? В той жизни только-только защитил диссертацию, и снег выпал перед самым Новым годом. А Женя еще училась. Еще занимался слаломом, снимали на зиму дачу втроем с приятелями. Стучащая электричка, пластиковые лыжи на полу под лавкой, Женя – неизвестная, непривычная, и эта особая сторожкая легкость, будущая радость, еще чуть-чуть, не спеши. Поселковая улица, снова Женя вместе с ослепительным по снегу солнцем, темной хвоей, ее собственным воздухом. Магазин, куда заскочили по дороге, достает двойным захватом: донеслось, довеяло каким-то забытым прекрасным детством. Струганый пол, цветущая среди усохших продуктов продавщица, а главное – запах, запах сразу как хлеб и дешевые конфеты, но и не только, потому что все могут продать, унести, а запах останется, навечно пригвожденный к доскам. (Недавно, проезжая, видел стерильный стеклянный куб на том месте.) Такой дурманящий запах, что скорей – вина, хлеба, сыру – и на улицу. Вот и дом – некрашеная пристройка, и восторг Жени блеском маркеров на лыжах: «Это ведь инструмент! Это не развлечение – дело жизни, – да?».
Гора не гора, горушка, пригорок, но все же опять это падение стремглав, задержанное скольжением, радость, что не забыл за год, и затормозить невдалеке от Жени, взметнув пушистый веер. Женя – звонко в ладоши, сама с горы на санях – впереди небольшой трамплин, вверх, а потом и врозь, сани медленно и одиноко к подножью горы. Подкатил почти поперек склона, сам сделал вид, будто не удержался, и плюхнулся рядом. По чистому бледному небу – громадный, снежный до прозрачности шар. Так тихо, и Женя об этом покое: природа хранит его при всех переменах, так постоянно, что тревожит. Так, что кажется равнодушной. «Смотришь и вроде бы понимаешь – но все равно остаешься вне, и не совпасть. Тебе – все вперед и вперед… А она стойкая… нет, выстаивающая при любом… и убежденная… или незыблемая? Непонятно я, – да?» Он понимал ведь тогда. От ее слов стало так, что захотелось помочь.
Краткий день быстро гнал солнце к закату. Подходя к пристройке, увидели в окнах свет. В комнате были Жибрунов и тот, инженер из соседней лаборатории, который давно уж уволился. Жибрунов веселился, хотел веселить, и сейчас разозлило, как с расчетом на Женю. Переобув негнущиеся ботинки, он сказал, что пора.
На улице, спохватившись, что ботинки в руках, расстегнул под фонарем сумку, и хлеба там не было. Должно быть, ребята забрали. Значит, видели и вино, а он не назвался. Огорчилась и Женя, шла задумавшись, а потом встала меж света и, поманив, чтоб пригнулся, быстро поцеловала в щеку. «Знаешь, почему мы так убиваемся? – запомнил ее слова. – Наверно, мы просто не очень плохие люди, – да?»
Наверное, не очень.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.