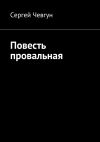Текст книги "Обратная перспектива"

Автор книги: Михаил Устинов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 13 страниц)
По всему тому вполне ожиданно, что в конце столетия явился царь, который, сколько ни заглядывай, ничего за пазухой не увидел бы, поскольку протестантский гладкий воротник скрывал бездушие воплощенного разрушителя второй составной русской совести – совести к ближнему. В XVIII веке „в России тяжелый труд самобытного дела заменялся легким и веселым трудом подражания“ (К. Аксаков), и „Петр I таким клином вбил культуру, что Россия не выдержала и треснула на два слоя“ (Герцен). Никон взнуздал Россию; Петр, по замечанию кн. Вяземского, поднял на дыбы – а что дальше? Но горькую остроту в качестве bon mot перенял наш первый гений и увековечил Медного всадника в бронзе звенящего стиха на берегу пустынных волн.
Но это позже. А не обронзовевший еще Петр испытывает гражданскую совесть русских. Власть резко отделяется[3]3
На сенатском докладе, касающемся тяжбы двух помещиков, Александр I выразительно подтвердил свершившееся разделение: «Кафтырев прав по совести, а Тургенев – по закону». Тяжбу выиграл этот некий Тургенев. И апофеозом официального раздвоения звучит упоение чиновника в заявлении министра юстиции (1841–1861) Панина: «Я всю жизнь подписывал вещи, несогласные с моими убеждениями».
[Закрыть]. Образуется прослойка бюрократии, отторженной от исконной среды и зависящей от получаемого жалованья, которая благодаря этому отождествляет собственные интересы с государственными. Успевшие выслужиться в дворянство костенеют в своей касте. Окончательно затверждается крепостное право – рабство в безысходности, неведомой доселе.
Наконец, существовало и такое мнение, высказанное неким старообрядцем путешественнику по России: „Не Никон был причиною вашего отделения от прочих братии русских, но Петр, по своей безмерной любви к Западу, по своему противонародному, противоотеческому направлению“. Справедливость суждения безвестного старовера подтверждается совпадением со словами человека иной направленности – Герцена: „Целью переворота Петра I была денационализация московской Руси“.
Ход его знаменуется и явным чужебесием: верхушка общества переряжается, чтоб и платьем не походить на ту часть, которая зовется отныне народом[4]4
«К каждому селению один из нас принужден был подъезжать и говорить жителям, что мы русские, что мы пришли к ним на помощь и на защиту православныя церкви. Часто ответом был выстрел или пущенный с размаха топор, от ударов коих судьба спасла нас. Сколько раз я спрашивал жителей по заключении между нами мира: „Отчего вы полагали нас французами?“. Каждый раз отвечали они мне: „Да вишь, родимый (показывая на мой гусарский ментик), это, бают, на их одежду схожо“. – „Да разве я не русским языком говорю?“ – „Да ведь у них всякого сбора люди!“ Тогда я на опыте узнал, что в Народной войне должно не только говорить языком черни, но приноравливаться к ней в обычаях и в одежде» (Давыдов Д. В. Записки о партизанской войне 1812 года).
[Закрыть]. „Преобразовались Россия не – из бородатых в гладкие, из долгополых в короткополые“, – рисковал язвить кн. Щербатов. Сохраняет платье духовенство, но это лишь подчеркивает утрату им своего значения и определившуюся чуждость и верхам, и простолюдью. Как писал (по-французски) Пушкин Чаадаеву:
„Согласен, что нынешнее духовенство отстало. Хотите знать причину? Оно носит бороду, вот и все. Оно не принадлежит к хорошему обществу“. И в 1721 году Петр издает Духовный регламент, одно название которого – смесь французского с нижегородским – многоценный подарок ироническому уму. Только тут не до иронии, слишком тяжкие последствия влекут подобные предприятия. Слишком замена русского „устав“ на чуждое „регламент“ соответствует духу царствования. Отныне церковь, по слову Достоевского, находится в параличе. А кто отныне пастыри русской совести? – Да иерархи вроде Феофана Прокоповича (просветителя, проводившего досуг в пыточных застенках), для которого исповедание веры – понятие географическое и который, пересекая в поисках знаний границу, всякий раз не задумываясь принимал требуемое исповедание. Что могли сказать они народу, когда это о них народ сказал: „Менять веру – менять и совесть“.
Немудрено, что и мода вытесняет обычай. Быт, упорядоченный обычным ладом, который зиждет основание, не позволяя победить хаосу, способен стать бытием. Мода влечет к развороченному быту, узаконивая разлад.
И вот еще новое (как с этого века возлюбили мы все новое! новое почти возмещает в запросах истинное). Выделяется в России невиданная доселе группировка не группировка, класс не класс – какой-то размазанный слой, предвозвестник и разносчик раздвоенности следующего века – русская интеллигенция.
Едва появившись, она сознает неестественность своего существования, ноет о собственной неправедности, попутно обвиняя в ней окружающие условия и тут же требуя признания за эти обличения, начинает на словах искать выход, но не находит сил да и желания – столь ее положение, в общем-то, удобно.
Одновременно в России распространяется масонство в транскрипции португальского еврея Мартинеца Пасхалиса – подмена духовности, интеллигентские шоры, – ввезенное и внедряемое не для того ли, чтоб перекрыть русло остаткам самобытности мысли и чувства? Пропагандируемое им изолированное нравственное совершенствование еще далее уводит от насущных нужд. А к руководству русской жизнью прорываются силы извне, и предпринимается попытка взамен разрушенного единства организовать новое и несвойственное – общество. И не только в том смысле слова, в каком запретил употреблять его Павел I.
Отношения на Западе проницает условленная нормированность[5]5
В памятнике западноевропейского законодательства XIII века «Саксонское зерцало», например, вопросы совести разрешаются параграфом: «Второе: то, что человек обещает не перед судом, это он может, как бы оно ни было известно, отрицать при помощи своей присяги, и это не может быть опровергнуто свидетелями».
[Закрыть]. Оттого связь, названная обществом, там закономерна и призвана ограничить государственный произвол, а также дать место приложению сил индивидуальности. Западное строение можно описать взаимодействием: индивидуальность – общество – государство.
На Руси до конца XVII века в такой скрепе нужды не было. Действовала русская церковь – реализация русской совести. Понятие о совести отнюдь не было внесено на Русь вместе с христианством, как можно видеть по приведенной новозаветной цитате. Напротив, русское христианство крепло народными представлениями, чем и можно объяснить его своеобразие, а также длительную стойкость и обаяние. На Западе такой церкви не сыскать. Равно как и государя, которого звали бы батюшкой. Наконец, мощной опорой Руси была личность, являющая отдельное чрез участие в общем, и личности сливались в мир, замыкая триединство: личность – церковь – власть (которая тоже персонифицирована в личности), где каждая ипостась срасталась со своей составляющей совести. В петровские времена среднее звено – камень, его же отвергли строители, – окончательно раскалывается: частично отпадает в государство, частично спасается в личностном, образуя народную церковь. Единство в троице свертывается в противоборство: народ / государство. Камень нагрет, охлажден – расколот, и как скрепить. Однако при любом перекосе неизбежно возникает и дает себя знать третья сила, и к ней оказалось удобно приложить заимствованное понятие общества. Поскольку же к обществу привычки нет, да и неестественно оно в русских условиях, нетрудно сделать его при самом возникновении тайным. Или – противоположно – „хорошим“ обществом (впрочем, противоположности за сценой сливаются). Появляется даже Библейское общество (глава – кн. Голицын, министр просвещения, масон), которое русский патриот адмирал Шишков обвинял в намерении „составить из всего рода человеческого одну какую-то общую республику и одну религию“.
Внешнее противостояние человек / земная власть окончательно решается в пользу власти. Вопрос сводится к тому, у кого она будет, и всякому начинает мниться, что он был бы лучшим правителем. Одновременно основной конфликт смещается внутрь человека. В ином повороте – теперь остается подорвать личность изнутри, лишить ее и внутренней опоры. От внесения тайны в общественную жизнь один шаг до такой победы.
Непоротые в третьем поколении дворяне попытаются заместить утрачиваемую в ее полноте совесть чувством сословной чести, но оно не смогло нести истину по своей ограниченности и вскоре (что показал уже Тургенев) стало просто смешным.
Вооруженная борьба на каждом из первых двух этапов Великого Раскола прорывалась широчайшей Крестьянской войной. А вот третий, когда расколу подвергся верхний слой нации, ознаменован восстанием дворян, точная характеристика которых всем нам известна наизусть: „Узок круг этих людей, страшно далеки они от народа“.
Смещение раскола внутрь человека делает его не столь очевидным, как на предшествовавших этапах. И все же следы и последствия его обнаружить весьма просто, если обратиться к литературе XIX века. Литературе бесспорно великой, но какой ценой оплачено это величие!
В XVIII веке „открылась бездна“, и в этой бездне человек себя не увидел – „муха, меньше даже мухи, уничтожился в песчинку“ – в XIX-м. Зато внутри себя обнаружил сразу две бездны, как Достоевский вслед за Аполлоном Григорьевым.
Державин еще мог воскликнуть: „Не собой блистал я, Богом“, но уже следующий великий поэт провозгласил: „Ты сам свой высший суд“. И то, что „есть грозный суд: он ждет“, ничего не изменило: ждал он врагов, а за поэтом закреплялось открытое ранее самоволие. Впрочем, ничуть не радостное: „Не плоть, а дух растлился в наши дни, и человек отчаянно тоскует“. Дуализм сознания – как изящно звучит по-современному, будто терминология способна снять или оправдать суть.
Расщепление пресекает все связи, и края его обселяет неуверенность. Проникнув внутрь человека, оно отрывает индивидуальное от общественного и лишает его средств осуществления как личности. Остается включение „маленького человека“ заменимой деталью в механизм государства либо новое изгойство „лишних людей“.
Пушкин – первый, быть может, осознавший расщепленность человек, и поэзия его – голос болящей совести. По рассказу современницы, когда Александр Тургенев спросил: „Скажи-ка, где ты Его искал и где нашел?“ – „В моей совести“, – ответил Пушкин. Но как трудны и подчас обречены даже для него были эти поиски. Поиски Слова. Русское Слово-Глагол! Неслучайно твое именование явственно действующей силы. Твердость и прямота обличают твою древнюю красоту, нераздельную от правды. Водимое искренностью, ты способно поразить, запечатлеть, возвестить истину. Малейшее уклонение иль подмена возвращаются твоим мщением. Но и тогда ты честно несешь звучную весть о человеке и его времени.
Не то ли случилось, когда Пушкин попробовал переложить в стихи великопостную молитву Ефрема Сирина, использовав ее никонианский текст:
„Господи и владыко живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не даждь ми. Дух же целомудрия, смиреномудрия, терпения и любве даруй ми, рабу твоему. Ей, Господи царю, даруй ми зрети моя прегрешения и не осуждати брата моего, яко благословен еси во веки веков, аминь“.
А сохраненный старообрядцами гласит:
„Господи и владыко животу моему. Дух уныния и небрежения, сребролюбия и празднословия отжени от мене. Дух же целомудрия и смирения, терпения и любве даруй ми, рабу твоему. Ей, Господи царю, даждь ми зрети моя согрешения и еже не осужати брата моего, яко благословен еси в веки, аминь“.
Различие меж ними – в пропастную трещину Раскола.
Грамматические замены падежей, смысловые подмены желаемых и нежелаемых, разрушение причинно-следственных связей – еще бы ладно. Что это никонианское моление смахивает на канцелярский перечень прошений, а старообрядческое поэтично – ну что ж.
Главное – как представлена зависимость помянутых качеств от Бога. „Не даждь ми! – не задумываясь, кладут охулку новолюбцы. – Не даждь“. Что же у них за божество такое, иже насылает человеку вся эта скверная? с какой целью?
„Отжени от мене“ – сказано по истине, но исправлено (а верней, искоренено). Удали, отстрани от меня собственное мое нерадение, мои собственные дурные свойства и наклонности.
Почему же гений наш не заметил, не расслышал в этом лжи, хуже – разложения? Почему согласился с искаженным представлением из совсем другой религии и, перечисляя злые свойства, повторил никонианский навет: „не дай душе моей“. А ведь и Некрасов позже словно подтвердил то же самое: „Жестокий бог! Он дал двойное зренье моим очам“. Ужель двойное виденье, расщепленность, прямая перспектива так глубоки и далеко завели, что не дают приблизиться к исконной точке зрения!
Паче внимания достойно, что реформы Никона и начались с изменений именно этой покаянной молитвы Ефрема Сирина. Накануне Великого поста 1653 года патриарх послал по московским церквам „память“ с предписанием уменьшить число земных поклонов во время ее чтения с 14-ти до 4-х. Попутно было впервые наказано креститься троеперстно. Так и следует, что повреждение обрядности – внешнее вроде бы дело – отзывается изменением и конечным забвением не только сопутствующей молитвы, но и Бога своего. И признанием чуждого божка, со злым и искаженным ликом. Во внешнем деле зрима глубинная суть борьбы, и порча глядит не просто случаем, но явным свидетельством движения к новым для Руси представлениям противу исконных.
Моление Ефрема Сирина оказалось в начале первого – церковного раскола, им же обнаруживается третий, что обретает неоспоримость знамения: ведь сама молитва – „даждь ми зрети моя согрешения“ – прямо относится к совести и взывает о неостывании ее.
Возносимая в сорокадневный пост, который в неизменной повторяемости событий можно соотнести с сорокадневным постом Христа, эта молитва напоминает о его испытаниях в пустыне и так прочитывается призыванием самого Исуса, просящего поддержки против искушений супостата. Молитва испорчена – и в XIX веке смысл самого испытания Христа /Мф 4:1–10/ размывается психологизмом. Оба наших гения расщепленного сознания обратились к нему и истолковали каждый по-своему. Толстой пришел к странноватому по нравственности выводу: „Победы нет ни с той, ни с другой стороны; есть только выражение двух противоположных друг другу основ жизни“. Достоевский отдал оценку события Великому инквизитору, что позволило делать некоторые подстановки. Ни в одном из Евангелий не сказано, чтоб искушение обратить камни в хлебы оправдывалось целью накормить человечество – Христос Сам взалкал, и Ему Самому было предложено насытиться. А в построениях инквизитора этот камень-хлеб стал краеугольным. Впрочем, тут подстановка не Достоевского, а тех католических и масонских инквизиторов, которые лелеяли планы установления мирового господства через превращение человечества в послушный их повелениям муравейник.
Но все же „нет ничего обольстительней для человека, как свобода его совести, но нет ничего и мучительнее“, – не умолкает второй голос в ушах Достоевского, и теснит страх, поскольку очевидно, как свобода эта становится „угождением плоти“. Но не вновь ли здесь словесное недоразумение XIX века? Когда папа Римский обнародовал энциклику, осудившую „свободу совести“ как „заблуждение века“, прозорливый Тютчев провещал католичеству:
Его погубит роковое слово:
„Свобода совести есть бред“, —
и чудится обидная неточность в его обычно отточенных словах. Он-то должен был понимать, что воистину „свобода совести“ – невозможное словосочетание.
Дело, вероятно, в удалении Запада от верного представления об этом понятии. Этимология подвела католичество к тому, что оно не только смирилось, но и приняло, хоть чрез отрицание, идею о внешнем освобождении совести. О внешнем же ограничении радеет инквизитор. На Руси такой подход провозгласил Петр (и в словах его звучит издевка): „Совести человеческой приневоливать не желаем и охотно предоставляем каждому христианину на его ответственность пещись о блаженстве души своей“. С себя, значит, царь – бывший батюшка ответственность за души вверенных ему чад снимал. И объявив: совесть свободна, тут же открыл торговлю религией и стал продавать старообрядцам бороды.
Так видится, что русские отрицались свободы совести не ради подавления этой способности в человеке, а потому, что при соглашении с таким термином наступает именно свобода от совести по изволению верховной власти. Ведь совесть сама по себе, независимо от высших повелений, свободна.
Более того, совесть сама – свобода.
Теперь, верно, не покажется слишком смелым утверждение, что начало всех трех русских расколов заключено в вопросе совести. Совесть в разных своих ипостасях испытывалась и уничтожалась в них – Великий Раскол. В планомерности и последовательности его трудно не подозревать разрушительного замысла сторонней злой воли.
Главный вопрос – вопрос совести. Отзываются на него жизнью народа, страны, выбором их пути так же, как и жизнью каждого человека. Это наш обетованный Китеж: ум нераздвоенный необходим, чтоб досягнуть этого града. „Решительная мысль единственна <…> но многоветвисты и нескончаемы мысли нерешительных“, как сказано в Гите. Вспомним вместе: вера суть единомысленный ум[6]6
И воздадим должное Аполлону Григорьеву, который высказал, например, такую значительную мысль: «Есть какой-то тайный закон, по которому недолговечно все разметывающееся в ширину, и коренится, как дуб, односторонняя глубина».
[Закрыть].
Та вера, что не нуждается во внешней организации. Сыграв историческую роль, церковь становится частью наднародного государства и так утрачивает значение, тем более что раскол проникает внутрь нее, сказываясь даже в представлениях о совести. Отец Иоанн Кронштадтский свидетельствовал: „Совесть каждого человека – это луч света от единого, всех просвещающего духовного Солнца“. А священник Павел Флоренский словно бы опротестовал его: „Сама совесть может заблуждаться <…>. У нас, в эмпирической данности, нет ничего безусловного, даже – совести. Саму совесть надо поверять и исправлять по безусловному образцу“. На сомнящиеся эти слова сразу вылезают и колются вопросы: что же за образец существует для поверки совести и в каком Париже сей эталон хранится? И нет ли в такой посылке все той же тяги навязать русскому человеку чуждый взгляд, подчинить инородной букве? Разве не сама совесть для нас – мера любого помысла и деяния?
Одновременно с размывом понятия и само слово успешно устраняется из языка. Изъятие же слова влечет забвение состояния. А что изъятие ведется на высших языкообразующих уровнях сомнения уже не вызывает, и это явно демонстрируют перемены в словоупотреблении. К примеру, строки знаменитого монолога Гамлета в переводе нашего времени звучат:
Так малодушничает наша мысль
И вянет, как цветок, решимость наша
В бесплодье умственного тупика
(Б. Пастернак).
В другом, более раннем, читаем:
Так трусами нас делает раздумье
И так решимости природной цвет
Хиреет под налетом мысли бледной
(М. Лозинский, 1933).
Но в переводах XIX века они несли иной смысл:
Так робкими творит всегда нас совесть,
Так яркий в нас решимости румянец
Под тению тускнеет размышленья
(М. Вронченко, 1828);
…И вот
Как совесть делает из всех нас трусов;
Вот как решимости природный цвет
Под тению тускнеет размышленья
(К. Р., 1899–1901).
И наконец, глубже во времени и на первородном языке:
Thus conscience does make cowards of us all,
And thus the native hue of resolution
Is sicklied o'er with the pale cast of thought
(W. Shakespeare. Hamlet, act III, scene 1).
Очевидно, что современные переводчики одинаково передают и слово thought (мысль) и слово conscience (сознание, совесть), пользуясь представляемой английским языком возможностью рационального толкования. Из пятнадцати обозримых текстов прошлого столетия в восьми слово переведено как „совесть“. В четырех переводах XX века – два раза встречается откровенное „сознание“, и „мысль“, и „раздумье“ в уже цитированных. Завидное единомыслие, когда век явно предпочитает сознание совести. И порочное, поскольку глубокий внутренний процесс подменяется игрой рассудка в бисер.
Нет слова – не будет и эха.
В новое время сложилось и победило…» Гордеев захлопнул книгу – дальше шли читаные страницы, – поднял голову, и словно дернула натянувшаяся цепь времен, показав окружающее, каким оно могло б предстать оттуда. И себя, едва различимого, успел разглядеть из нежданно прочного далека – такого ненадежного себя на воробьиных жердочках садовой скамейки.
Он зажмурился, переждал и снова открыл глаза. Сад с оплывающими в сумрак ветвями, мрачное здание библиотеки, по-осеннему темные фигуры прохожих и памятника будто вновь перекачнулись, но, опрокинувшись, заняли отведенные места. Только непривычно удаленные, проявив истинный масштаб, и вышний взор глубины веков приносил неизведанную ранее боль.
Он пытался отгородиться привычным – метро, пятак, эскалатор. Люди вверх-вниз. Любой удивится: «Не бери в голову». Но теперь становилось стыдно: почему же так о любом? Что о нем знает? Что знал о себе? И, заращивая трещину боли, ночью он долго не мог закрыть глаз.
Только небо было видно с их этажа, если лежать в постели (он с саднящей грустью припомнил, как в детстве чудные отсветы окон переливались по потолку, если случалась мимо дома машина), – даже луна не уместилась сейчас в рамку окна. По стеклу медленно поднимался, трепеща крыльями, запоздавший умереть мотылек. Или родиться поспешил? Жена попросила выключить свет, когда ложились, ей снова нездоровилось, и в темноте, по которой тревожно сбегал, проникнув наискось, лунный свет, ясней очерчивалось, что понимал и что не мог понять.
Последней надеждой на безболезненное спасение мелькнуло, а может, и не в нем дело? не только в нем? Может, и сам – всего лишь жертва.
Он резко поднялся, вышел на кухню, захватив книжку из пальто, и, листая страницы, обнаружил, что не дочитал статью.
«…отвергает препятствующее человеческому стремлению?
Историческое время на Руси имеет свой исключительный ход, свою обещающую особенность: предельно задержанное Средневековье и в высшей степени уплотненное Новое время с мгновенным скачком в Новейшее. Словно Руси тесно в рамках буржуазности, и поначалу она упирается, не хочет влезать в них, а все же, испытав насилие, скорее стремится проскочить, вырваться из этой серой трубы на личностный простор.
Увлекаясь самопорицанием (почему, кстати, самоумаление так сладко русскому? что это, как не сознание неисчерпанных, непробужденных сил?), мы забываем, что даже во времена первого раскола почти треть русских – негромкая часть, потому и забыть о ней легко – не поддалась ни насилию власти, ни неправедным увещаниям и сохранила совесть живой и чистой. И не только собственное спасение устраивая, но растя могущество государства – не для него самого, а ради будущей вольной жизни по правде.
Находясь в здравом уме и трезвой памяти, я сознаю, сколь слабы и несовершенны мои слова. Может быть, лучший меня, услышав их, поймет больше и глубже сказанного. А возможно, осудит, найдя поспешность, а то и предвзятость в суждениях. Но времени не имам, и подбадривает поддержка Аввакума Петровича: „Сказывай, небосе, лише совесть крепку держи“.
Говорится все это только потому, что, несмотря ни на какие черные мысли, не умирает вера в русскую совесть. „Мы – зараженные совестью“, как пусть резко, но страстно высказался Волошин. Если мы и говорим „наша совесть“ – так подразумевая данность нам в доброе владение сего бесценного дара. Коль она суща независимо от наших мнений и желаний, то суща присно и вовеки, и не в нашей власти ее отвергнуть или пренебречь ею. „Злодеи думают: „Никто не видит нас“, – но их видят боги, а также их совесть“, – сказано в Законах Ману.
Исчезнуть либо превратиться она не может, какое насилие ни творили б, как ни попирали бы ее и ее исповедников. Совесть может лишь замереть, как уходит под землю поток, чтоб нежданно вырваться, но и там поит глубокие корни, – до той поры, когда вспомним.
Пока любим потакание собственной слабости и заручились тому круговой порукой, в напряжении мысли о личной ответственности жить невмочь. Но „трудно“ и „нужно“ – синонимы в нашей корневой речи, и настанет срок, когда не различаемое нами, по невежеству либо по своей воле, за любезно подсовываемыми обольщениями – победит.
И еще очнется наша снулая совесть».
Гордеев перевернул страницу – но что нужно делать, чтоб приблизить это торжество, сказано не было. При мысли о справедливости прочитанного хоть вполовину кружилась голова, будто заглянул в колодец, вытаскивая свинцовое ведро. В старом, столько раз повторенном в статье слове, сопряженном с окружающим по древним законам, тяжело вылепливалась непреходящая суть, истинное значение, имя, и проступал лик.
Что же моя русская совесть? Отражение еще рябило, но, как в зеркале, все отчетливей обозначались резкие ядовитые морщины.
Он задумчиво перелистал страницы «Рассуждения». Под заголовком стояли ничего не сказавшие, когда начинал читать (прописная истина), слова: «Мы не могли бы искать утерянного, если бы совершенно о нем забыли. Августин». – Эпиграф или эпитафия?
«Почему ты не спишь?» – послышалось из комнаты. «Сейчас-сейчас, ложусь». Он вернулся, не включая свет. «Дай и мне сигарету». Он удивился, чиркнул спичкой, и она, жмурясь от яркого, вслепую прикурила. «Может, не стоит? Ты и так что-то…» – «Не в этом дело». Но он не принял ее слова, как обычно с легкостью принимал отговорку, даже если она успевала тоном вставить намек, а смело рвался внутрь их: «А в чем же?». И она безоглядно откликнулась на искренность желания узнать, прозвучавшую наконец меж ними: «Я давно тебе… у нас может быть ребенок», – сказала она одними губами, без голоса. Он затих, она приподнялась, опершись о локоть: «Ты рассердился?» – «Нет, нет», – спохватился он, привлек ее к себе и осторожно гладил по плечу. «Я так боялась сказать».
Он чуть не заскрипел зубами, так охлестнула собственная равнодушная жестокость. «Не надо тебе сигарету», – и осторожно забрал тусклый огонек из ее пальцев. Она подтянула колени, прижалась к нему беззащитной, но животворящей теплотой, близко приняв даже такую запоздалую и мелкую заботу, и робко взяла за мизинец: «О чем ты думаешь? – (Ему подумалось: может, это и есть искупление – жизнь за смерть – и, возможно, знак о прощении.) – Хочешь, скажу?». Он растерялся и осторожно тронул ее губы своими.
«Ты всегда такой, правда?» – прошептала она и тут же побоялась, что спугнула. И по-женски тонко почуяла, что он удаляется, не дотянуться, не поспеть, и все, чего так ждала, прожито в одно мгновение. А задерживать не вправе.
Ему хотелось ясного: вот явится жизнь, вызванная сюда им (пусть – через него, не суть важно), и заменит ту, прерванную им же. И новая будет, конечно же, лучше. Это от него зависит, а он сделает все.
Только чувство протестовало против арифметики. Новой жизни он обязан дать – передать – нечто, что укрепило б ее. Что передать? – не машину же, ставшую орудием убийства и нескончаемой пытки.
«Не надо так, – сказала громче Женя. Миг страха качнулся и остался в прошлом, впереди предстояло будущее, которое – это-то ясно – будет другим. – Нельзя это, неправильно! Мучиться так же неправильно, как любоваться собой. Это только для себя, о себе, а все остальное перестает. Нужно примириться и жить с собой и с людьми».
Не «за что» было все, а «зачем», внятно подумалось ему. Назад уже нет дороги, пусть прошедшее не преодолено, а утрачено. Остается лишь в трудный верх, потому что, пока жизнь продолжается, мы ей нужны. А уж наше дело – жить каждый миг хоть немного лучше.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.