Текст книги "Мое дело"
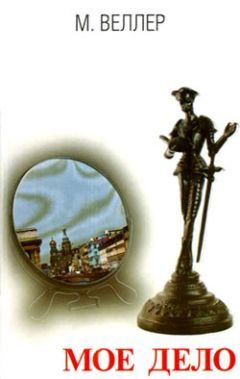
Автор книги: Михаил Веллер
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 25 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Глава вторая
В начале пути
1. Мое первое стихотворение
В пятый класс я пошел в очередную школу. Гранитная громада с колоннами светилась над каналом Грибоедова, и дело было в Ленинграде. Отца откомандировали в академию, и семья наслаждалась цивилизацией.
Отец выбыл из Ленинграда в действующую армию в сорок втором году, и проносил погоны всю жизнь. Род его был отсюда, и род был крут. Он восходил еще к прадеду бабки: и был тот прапрапрадед николаевским солдатом из кантонистов с георгиевским крестиком за Крымскую кампанию. Выслужив двадцать пять лет полной, инвалид, то есть не калека, а уволенный по сроку и закону ветеран, получал право проживания в любой точке Империи, включая столицы. Переведенный за рост и риск в Петербургский гарнизон, дед здесь и осел. Женился с приданым и до девяноста четырех лет наводил страх на родню, покуривая трубочку и уча детишек грамоте, а всех прочих – порядку. Я кланялся его могиле на Преображенском кладбище.
В семье никем не восторгались и ничему не умилялись. Жизнь сурово рассматривалась как поле трудов и преодолений. Бабка вышла из бедной многодетной семьи и по достижении семнадцатилетия, окончив курсы сестер милосердия, в девятьсот пятнадцатом отправилась с полевым лазаретом на фронт Мировой войны. Дед вообще рано остался сиротой, учился в университете за казенный счет и неясным образом промотался по Гражданской, залетев до 1-й Конной. Никогда он о себе не рассказывал, вообще был кремень молчалив, но фотографии на стенах, дагеротипы-сепии, разжигали любопытство кавалерийско-пулеметной атрибутикой… Первый дедов орден Красного Знамени был без колодки, на подушечке и с винтом, а пара друзей-стариков на праздники, выпив-выпив-закусив, вспоминали легенды фантастические и с неясностями. В описываемые времена дед был уже профессором и заведовал кафедрой кишечно-полостной хирургии.
Коммуналка была огромная, и бабка держала ее в кулаке и в страхе. «Я профессор кислых щей, – говорил дед, – живу в коммуналке». – «Шура, так похлопочи», – подталкивала бабка. «Пусть раньше сдохнут», – отвечал дед. В 50-е годы ленинградские профессора еще запросто жили в коммуналках.
Как в октябре солнышко-то в Ленинграде зашло до весны, как – реально – полярная-то зима началась, серые дождики со снегом и тьма утром и днем, так тошно мне и стало. В Забайкалье-то солнце лупит!
Утром отец ехал в академию, дед в институт, мать на работу, и тетка с молодым мужем на работу, и домработница приходила бабкиного сурового характера, и брат мой трехлетний все простужался, а я делал уроки и ходил во вторую смену. Тошно мне было и неуютно. И хрен кто до вечера пошутит или одобрит.
А как выл ночью трамвай на Садовой! Как он завывал, и металлически ныл, и скрежетал, и выматывал душу. И каждые полчаса били часы: бам-м! И холодильник: тр-тр-тр-тр-р-р-р-р-р-р-р-р-тук-тук-пух. И кто-то в туалет по дубовому паркету: скрип-пип, скрип-пип, блямс: «Ч-черт…» – наделся подреберьем на угол дубового же буфета. И дядька с дивана миролюбиво: «Хр-хр-хью-ю… хр-хр-хью-ю…» И дед из другой комнаты в мимолетном ночном кошмаре: «Ай…яй!..яй!.. аа-аа-а-а-а!..» Бабушка: «Тщ-щ-щ!!!» И тут в коридоре – Бу-Бух! – дальнобойщик дядя Саша выпал из туалета и свалил вешалку. И мама – нервически: «О господи, когда же это кончится». А на столе звенит стакан в подстаканнике – вибрация от машин. Никаких условий ребенку для отдыха.
А в школе – пять пятых классов, и в нашем 5-Д – сорок восемь человек, аж список в журнале дорисован ниже напечатанных граф. И все бы неплохо. И пацаны не дерутся. И никто не обижает. И учителя не придираются. А что-то не то… Не тепло. Не душевно. И не в том дело, что поначалу в новой школе всегда тоскливо. А в том, что нет какого-то доброго, тесного такого, свойского, общего духа – свойственного маленьким провинциальным городишкам, станциям и гарнизонам. Там дерешься, скажем, со станционными или зареченскими – а все равно все свои, просто другая команда. И учителя какие-то свои. А здесь – все сильно не свои, отчуждение такое, будто воздух между людьми обладает резко усиленными изолирующими свойствами, и личный каркас прозрачного пространства вокруг настоящей жизни и интересов каждого.
И только повезло нам с классной. Русачку звали Надежда Александровна Кордобовская. Такая чуть крупноватая, чуть полноватая, чуть смугловатая, темноватая, еще вполне молодая, приличных средних лет на наш взгляд, и не просто потрясающе обаятельная, но – учитель милостью Божьей. Она обладала небывалым талантом, поставив честную единицу за диктант абсолютному оболтусу, при разборе оценок откомментировать это так, что он верил в свой сдвиг к лучшему, был убежден в ее любовном, дружеском к себе отношении и осознавал, что на этом пути скоро станет писать грамотно. Справедливость, любовь, помощь и вера в одном флаконе – это было что-то потрясающее. Да мы в ней души не чаяли.
И форма, серо-сизая, с гимнастерками и фуражками, а’ля гимназическая. И гербарий в Юсуповском саду. И сборы пионерского отряда, где я был звеньевым. И цирк, где сидел в первом ряду и сразу после вспышки в огромном фотоаппарате Кио я получил извлеченный оттуда здоровенный свой портрет, уже наклеенный на паспарту с надписью «Цирк от Кио».
Это я складываю всё, чтоб сообразить, из какого именно сора вырастают стихи. Ни хрена не из сора. Да-да-да, и можете застрелиться: граниты, решетки, шпили и запах большой воды. Осенняя листва и петербургская архитектура.
Итак, на зимние каникулы нам было задано по русской литературе написать стихотворение о зиме. Это было смелое раздвигание горизонтов. Никто из нас отродясь не думал насчет возможности писать самому стихи.
Каникулы были длинные, и лишь в последний день, десятого января, я скатился с кухонных ступеней в коридор с чайником в обнимку. Он гремел, я орал, кипяток булькал.
Прибежали и заорали взрослые, и мне была оказана первая и последняя помощь: горячие штаны сняты, обваренная нога осушена ватой, обработана спиртом, и пусть подсыхает. Сидеть тихо. Все. Такова была медицина того момента во вполне медицинской семье.
Меня устроили в огромном дубовом дедовском кресле за огромным дубовым дедовским письменным столом. И спросили о развлечениях. И я подумал, что откладывать стихи уже не на когда.
Но каков момент: толчком к творчеству послужила физическая неполноценность!
Мне подали бумаги и чернил, то бишь тетрадь для черновиков, чернильницу-непроливашку и ручку с пером № 86, и я стал сочинять.
Получалось плохо. Никак. Я сделался уязвлен. Так что – я не могу? Пушкин и Лермонтов, – конечно, великие гении, но я ведь раньше просто не пробовал!.. Попробовал. Нет – никак не получалось!!!
Я сидел до ночи, но я его написал. Я помню рифмы первой строфы: морозы – березы, пурга – снега. С количеством строк в строфе был разнобой. Первая: абабссд. Вторая: аббсс. Третью не помню. Возможно, была и четвертая строфа. Добычи – дичи. Волк – промелькнет. Последние листы срывает.
Мне не удалось придать подходящему содержанию безупречную форму. Но четырехстопный ямб я выдержал! Эх, если б еще строк было везде по четыре…
Я аккуратно переписал на вырванный двойной лист, нарисовал сзади цветными карандашами рамочку, на левую страницу разворота приклеил неиспользованную родней новогоднюю открытку, и назавтра положил свое изделие в стопку на угол учительского стола.
Через день воспоследовал триумф! Мне не просто поставили пять – мое стихотворение оказалось лучшим в классе, на что я никак не рассчитывал. Я был о нем не слишком высокого мнения. Более того – оно оказалось лучшим на все пять пятых классов, получивших аналогичное задание! На все двести двадцать или сколько там человек! (Слушайте мистику чисел и совпадений: сорок шесть в среднем умножить на пять – получается те же двести тридцать человек, что и при выпуске семи классов совсем в другой школе много лет спустя!)
Мое стихотворение прочитали в других классах – вслух, перед доской!
Я поделился успехом дома. Но они там были так заняты все собственными делами и так привыкли к успехам своего клана, что не придали буквально никакого значения моему достижению, отреагировав на него как на нечто должное, правильное и в общем разумеющееся, хотя и похвальное. Все.
Стихи я писать не бросился. Не испытывал ни малейшего желания. Потребности не имел. Но. Но. В сознании появился новый пункт. Как твердый бугорок на месте пустоты ранее. Как узелок на веревке. Я мог писать стихи. Вот знал это о себе. Это было как серьезное расширение плацдарма жизнь.
Интермедия. Жизнь и книжкиИ среди зимы мы вернулись на Дальний Восток, и это вам не стишки, проза жизни требовала к ответу и барьеру.
В новом классе дразнили и били за шикарное клетчатое пальто с котиковым воротником, построенное ленинградской бабушкой. Хоть бы на миг она задумалась, во что мне встанет в жизни ее дорогой подарочек! Меня били, пока однажды я, возвращаясь в темноте со второй смены, не выкинул его на помойку и не объявил дома украденным в раздевалке. Расследование назавтра уличило меня во лжи, но пальтишко уже тю-тю. Я был как исключение перетянут ремнем и в истерике требовал телогрейку и кирзовые сапоги, как все. И добился сапог и дешевого типового полупальто из магазина, и жить стало бы легче.
Стало бы, но дразнили и били за мешковатость и неуклюжесть на физкультуре. И я притащил с помойки кусок водопроводной трубы, и вбил в косяк два самых больших гвоздя, и сделал турник, и подтягивался и кувыркался. И заводил свой будильник на раньше всех и бегал по утрам вокруг территории. И из командировки в округ отец привез мне гантели. И в спортгородке научил прыгать через коня, что со стороны казалось сказочным полетом. И жизнь наладилась бы.
Наладилась бы, если бы я двум-трем в классе набил морду. А у меня не получалось. Я не мог попасть. А когда попадали в нос или ухо мне, я терялся и бывал бит. И я рискнул пожаловаться отцу на трудности жизни, и услышал спокойное: «Ну и дал бы ему». Я бы дал, да не давалось. Я накопил копеек и купил в культмаге брошюрочку типа самодеятельного учебника бокса для сельских секций. И в зимних варежках стал отрабатывать позы и удары на углу шкафа, мало что понимая. И весной на стадиончике за школой после уроков дал Обуху. Ну, дал не дал, но пацаны решили, что дал я. И через неделю, повторив это с Петей и с Голобоком, поднялся в классном рейтинге на четвертое место снизу, а оно уже давало права гражданства.
Борьба за гражданство начиналась в тридцать пять минут седьмого. Маленький пластмассовый будильник «Слава» трещал под подушкой, слышимый только мне. Тоскливый тонкий стрекот вытаскивал меня из сна, как леска – тугую рыбку из темного сопротивления омута. Подавляя ноющий стон на переходе из блаженного небытия в бодрствование, я заставлял себя встать. Зимой это происходило в темноте. Все еще спали.
Я натягивал уличную одежду и делал пробежку. Стесняться было некого – пусто: гарнизон вставал в семь. Со временем, когда я подсох и потянулся, а шаг сделался длинным и размашисто-легким, можно было уже не стесняться.
Вернувшись, я вешал нижнюю мокрую «пробежечную» рубашку на спинку своего стула до завтра и двадцать минут занимался гантелями. Тридцать отжиманий и сто приседаний удивительно быстро перестали быть проблемой. Крутить малые обороты верхом на перекладине очень просто, если один раз правильно покажут. А вот до десяти подтягиваний на турнике я добирался два года.
Если не зима, я набирал в тамбуре полведра воды из бочки и шлепал за сарай. Брать больше было совестно – воду привозили два раза в неделю, сорокаведерную бочку натаскивали из автоцистерны-водовозки на все хозяйственные нужды. Я опрокидывал на себя это суворовское ледяное ведро в укороченном варианте, ухал, растирался, выжимал трусы и в комнате вешал на проножку стула ниже рубашки.
В автовзводе я набрал свинцовых решеток из старого аккумулятора и расплавил свинец в консервной банке на плите. Форму сделал из сырого песка в посылочном ящике, и отлил себе кастет. Он слишком оттягивал карман, и я носил его в портфеле. «Миха с кастетом ходит!» Я дрался им только два раза с деревенскими – он играл роль оружия сдерживания.
Я был готов сравнить с пацанами мозоли и мускулы.
Какие стихи?! Я ушел в себя? Да меня в себя вбили! Я высовывался оттуда, только чтоб выругаться самым грязным матом. Таким был наш профессиональный сленг, язык чести. Я сплевывал струйкой и пускал колечками дым сигарет «Армейские», 4 копейки пачка.
Я научился разрывать пополам червяка и ловить рыбу. Попадать из рогатки зеленой противогазной резины за тридцать шагов в бутылку. Ездить на велосипеде без рук, закладывая виражи. Я стал человеком в директорском кабинете под его личным рыком и стуком костыля, когда на спор спрыгнул со второго этажа – они не знали, что в воскресенье в закрытом авиагородке мы с пацанами спрыгнули с вышки для десантников, а это четыре с половиной метра, и нормально, считается, что сила удара равна приземлению с парашютом.
На 23 Февраля идиот-замполит решил номером программы озвучить школьные успехи детей военнослужащих. Не чаявший дурного, отец вернулся с торжественного багровый и поинтересовался дневником. Моя двойная бухгалтерия была в порядке, и он достал бумажку с перечнем баллов из кармана кителя. Я твердо помню две единицы по географии за демонстративное пренебрежение. Лучшей отметкой была четверка по поведению. С репутацией у меня было все в порядке. Дать мне могли только Федя, Муха и Беляйка, не считая второгодников. Я один владел верхней подачей в волейболе (вычитал в детской энциклопедии).
Я пообещал кончить год без троек, и меня пообещали не выпороть. Какие стихи?! Высокая поэзия пубертатного возраста! «Миха-псих» – это репутация.
Нет, но мы читали. Что мы читали? Боже, что мы читали!.. О! «Кукла госпожи Барк» и «Смерть под псевдонимом», «Атомная крепость» и «Капля крови». Подросток жует текст, не чувствуя вкуса слова. Интрига и характеры – вот что воспринимает подросток. Сюжет и главные коллизии, моральные оценки в их ситуативном проявлении. Запомните последнее определение!
В «Трех мушкетерах» нас, «культурную верхушку класса», читавшую книги, поражало что? Как могут друзья, рискуя жизнью друг для друга, иметь друг от друга секреты! Что ж это за дружба?..
В «Двадцать лет спустя» потрясало, что мадам де Шеврез могла провести ночь с Атосом, приняв его за провинциального священника, просто из озорства, для развлечения: презренная грязь разврата не соединялась для нас с благородством людей чести, французских дворян, подданных короля!
Жюль Верн, Александр Беляев, трилогия Георгия Мартынова «Звездоплаватели». Катаев – «Сын полка».
А ведь еще до этого были пгеинтегеснейшие книги-хрестоматии массовыми тиражами: «Книга для чтения в 1–2 классе» (красненькая), «Книга для чтения в 3–4 классе» (синенькая). Там были простые и патриотические рассказы, над которыми мы издевались по памяти много лет спустя. «Иван Тигров» – как мальчик уничтожил немецкий танк методом подсыпания песка в дуло. И прочее. И бессмертное, памятное из «Батальона четверых»: «Огребай, руманешти, матросский подарок!»
И был блестящий капитан Блад – столь мужественный и изящный. Он ложился на душу. Через него проходил вечный, под копирку, узор верности и благородства, и ложился внутри тебя, как татуировка под кожей.
А еще был Джек Лондон, и приходил день, и ты впервые читал «Мексиканца». И не забывал уже никогда. И повторял себе потом всю жизнь, и повторял, и металл возникал в стержнях твоих костей, и злоба мешалась с уверенностью, переплавляясь в горькую мудрость, что сродни мертвой хватке поперек судьбы: «Риверу никто не поздравлял. Он один был в своем углу, где секунданты даже не поставили для него стула. Он прислонился спиной к канатам; колени его дрожали, он всхлипывал в изнеможении. И вдруг он вспомнил: винтовки! Винтовки принадлежат ему! Революция будет продолжаться».
В тринадцать лет я прочитал в этом свою судьбу. Значит, хотел. Значит, чувствовал. Иногда в этом возрасте – как сердцем в просвет грядущих времен и событий глянешь.
Они бесчестны все до одного, эти гринго. Даже лучшие из них.
2. Мой первый рассказ
А восьмой класс я кончал в Белоруссии. Отца перевели на Запад. В доме было паровое отопление. А в городе – фрукты на базаре, театр и библиотека, и ходили автобусы.
Школьные «хулиганы» были добрые и кроткие ребята. Даже свинчатки никто не носил.
Сдали экзамены, загорали на днепровском пляже и шлялись по улицам.
Первый в доме телевизор! – черно-белый малоэкранный по нынешним меркам «Темп». Убили Кеннеди! (чуть позже). Хрущев в США (чуть раньше). Фидель, Куба, Хемингуэй, герой Италии партизан Федор Полетаев: ветерок с мирового океана, заграничный мир и его обманчивый блеск. И уверения писателей (ах продажные шкуры!), что западная литература блестяща, но русская глубже, мудрее, душевнее.
И Александр Грин – время великой славы Александра Грина! И «Водители фрегатов» Николая Чуковского. Короче – интернационализм, но там плоховато, а родина – это хорошо. А особенно крепость зла – все-таки США. Зловещая аббревиатура. Поджигатели войны. Пузатые буржуи в полосатых штанах. Город желтого дьявола.
А меня никогда не покидает мысль, что ведь, вероятнее всего я все равно буду писателем. Ну, наверное. Пока можно не торопиться. Где-то там, впереди. Но направление примерно видно.
И в конце концов я угромождаюсь писать рассказ. Вот Бальзак, согласно серии ЖЗЛ, рано начал писать. Лондон в семнадцать лет уже напечатался и премию получил. Ну – пора, что ли? Попробуем? И скука, и дома никого, и настроение соответствующее, задумчивое.
День был яркий и солнечный. Аморфный замысел был заточен на драматичность. Чтоб было более литературно, более как настоящая повесть или рассказ, – ощущалось, что надо все действие организовать не здесь и не сейчас. Книга – это где-то, когда-то. (Позднее я написал о механизме этого стремления в эссе-анализе «Молодой писатель».)
Взял я обычную тетрадь в линейку, авторучку школьную недорогую, сел за стол свой ученический письменный, и стал сочинять первый в своей жизни рассказ. А что. Сочинения-то я всегда писал лучше всех.
И до возвращения родителей с работы я его написал. Пол-тетради примерно он у меня занял.
Дело было в Нью-Йорке. Возможно, на Бродвее или близ него. Но ущелья меж небоскребов где-то тут – это точно. Серые такие ущелья, дым от автомобилей, смог большого города. (Боже мой!!! Почему свой первый рассказ я написал о неведомом мне, чуждом мне, по моему разумению, Нью-Йорке, который потом, через четверть века, мне аж снился, так я мечтал туда попасть из СССР?..)
Главный герой был итальянец. Я никогда не видел итальянцев. Я вообще никогда не видел иностранцев.
Это был старый итальянец. Он был седой, у него были грустные глаза, и он был бедный. Он работал чистильщиком обуви. (Джанни Родари. Брошюра «От чистильщика сапог до миллионера» из О.Генри. Бродячий персонаж мировой литературы: старик-неудачник в рассказах о подвигах и надеждах молодости.)
Итак, рассказчик чистит у него обувь, и чистильщик рассказывает, как был в молодости влюблен в Италии, но не было денег, и он поехал в Америку на заработки, и вот погоня за деньгами его сгубила, и надо было вернуться к невесте и жениться, а теперь уже поздно, у нее, наверное, внуки, а он зря погнался на злой чужбине за деньгами и карьерой, а теперь возвращаться уже и смысла нет. Возможно, кстати, что глаза у итальянца были голубые, как лазурное небо его родной Италии. В Нью-Йорке небо я воображал поганым, неюжным, хмурым – так рисовали на советских плакатах про злую Америку.
Вот такой был грустный рассказ с открытой концовкой.
Я-то знал, кого я оставил на Дальнем Востоке, чтобы делать Большую Карьеру на Западе, здесь, в Белоруссии, а далее, наверное, в Ленинграде! Хотя от меня это нимало не зависело, географические перемещения семьи совершались волею Минобороны, а карьера сводилась к мыслям туманным, а на чувства мои смутные никто ничем не отвечал. Ерунда! Искусство – это эмоции и воображение! Художник – это донор, оживляющий созданного им гомункулуса кровью своего сердца!..
Гомункулус был маленьким и нежизнеспособным уродцем, да и крови я ему своей отцедил не так много, и бедняга сдох не родившись.
Этот рассказ я никому не давал читать и через какое-то время выкинул к черту. Бесспорно правильно: такие первые помарки надо вообще вычищать из дома и памяти. Но много позже – любопытно было бы взглянуть, конечно, что я там навалял.
И много позже, много позже, много позже – подумал я вот что. Если ты, еще абсолютно неумелый и в ноль неопытный, ставишь себе серьезную задачу – ты обязательно проиграешь. Потому что играть еще не умеешь.
Если задача проста, банальна, требования к ней невысоки – ты можешь неплохо справиться с первого раза. Если вообще ты, вроде, по способностям и знаниям нормально чего-то стоишь, и темперамент есть, и кураж, – проигрыш означает, что ты много от себя хочешь. Что примитивная победа, нехитрый читабельный рассказ про Саню из параллельного класса, тебе – мал, неинтересен, малоценен, ниже твоих возможностей и притязаний.
Неудача не дурака – показатель высокого уровня притязаний. Показатель резерва роста и возможностей. Кругозор шире сегодняшнего арсенала.
Банальный, наивный, юный и самоуглубленный я возымел претензию написать серьезный, глубокий, психологический, любовный, социальный, трагический рассказ. Я автоматом претендовал на уровень знакомой мне классики. Акела не допрыгнул.
Безусловно, я не смог бы ответить тогда на вопрос, зачем вообще я это пишу и написал. Тем более раз никому не собирался показывать. Первая проба сил? Первая проба пера для себя? Послушание внутреннему голосу? А хрен его знает. Так, вообще. Надо же когда-нибудь начинать заниматься своим делом… Да хочется.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































