Текст книги "Стамбульская мозаика"
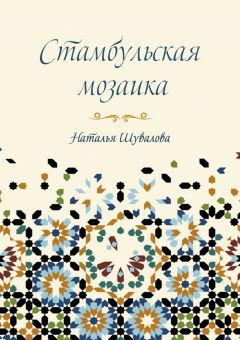
Автор книги: Наталья Шувалова
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 10 страниц)
По дороге с чайками на «Пашабахче»
Каждое утро Левент начинал с того, что открывал кухонное окно.
Вместе с утренним воздухом в дом влетали снежинки, весенние запахи, летний уставший от жары воздух, в зависимости от времени года, и – чайки.
Несколько лет назад, выбирая после развода маленькую холостяцкую квартирку, он остановил свой выбор на этой именно из-за них – Атакёй был тихим районом, всего в двадцати минутах ходьбы плескалось Мраморное море, и наглые птицы, не боясь, жили на крыше бело-салатового четырехэтажного домика по соседству с людьми, громко топали своими когтистыми рыжими лапами по обшивке крыши, орали по утрам, устраивали склоки и разборки.
Такие соседи мало кому по душе.
Левент же не долго думал – квартирка под самой крышей на улице Счастья, и шумные голоса чаек.
О чем еще мечтать?
Каждое утро Левент открывал окно, улыбался торчащим на подоконнике птицам и кормил их какой-нибудь мелочью с собственного стола.
Птицы галдели, прищипывали пальцы длинными рыжими клювами, толкались, орали – и Левент улыбался в усы, попутно планируя день.
Планы были похожи, как близнецы – сходить на работу, вернуться домой, посмотреть любимое шоу по телевизору. Никаких других планов Левент не строил уже очень давно – жизнь перевалила за середину, успокоилась, превратилась в болотце, тихое, уютное и безнадежно ровное, без потрясений – но и без радости.
– Плыть по течению – тоже искусство, – говаривал, бывало, Левент приятелю, когда сиживал с ним за стаканчиком чая.
– Нет, – качал головой друг, – не правильно ты думаешь.
– А что, – вздыхал Левент, – наше время ушло, мы старые. Живу как живется, и то ладно.
Так и плыл – учился, женился, работал, вырастил детей, отпустил жену, что за годы так и не стала родной. Чего мучаться? Дети, взрослые сыновья и дочь, даже не осудили – чувствовали, что между матерью и отцом всегда присутствовала некая холодность, уважение – но не любовь, не было той хрупкой, ранимой нежности, что всегда незримо ощущается между любящими.
Сегодняшнее утро отличалось от всех предыдущих тем, что, войдя в кухню, Левент впервые за много лет прошел мимо окна, не оторвав голову от смартфона и проигнорировав торчавшие за стеклом любопытные чаячьи головы.
Чайки обиделись на такое равнодушие, негодующе загоготали, но мужчина не слышал – он раз за разом перечитывал новость, а потом и вовсе вышел с кухни, оставив птиц в глубоком недоумении, сел на диванчик и уставился вникуда немигающим взглядом.
На экране забытого телефона пестрели буквы новостной ленты: «Принято решение о реставрации парома „Пашабахче“, муниципалитет Стамбула и мэр города выделили средства…».
– «Пашабахче» вернется? – бормотал он сам с собой, – так не бывает, не бывает…
Наглые чайки долбили клювом по стеклу, требуя завтрак.
Внутри Левента дрожало и билось что-то, о чем он уже почти забыл, что оно существует.
Что-то живое, горькое, настойчивое не давало ему покоя весь день. Из рук все валилось, в голове крутилась шальная мысль. Левент поначалу думать ее не хотел, гнал прочь, но мысль была упряма, прорастала сквозь все его существо, захватывала, и он в конце концов сдался.
Через неделю он уволился из магазина, где подрабатывал охранником, не ради денег, а так, чтобы просто выходить из дому, и нанялся разнорабочим на городскую верфь. Взяли его неохотно – пятидесятитрехлетний работник не особо полезен, но – вздохнули и приняли, пригодится, работы много.
Старый паром он нашел не сразу. Некогда белые борта изъедены ржавчиной, поржавевшие перекрытия верхней палубы, уткнувшийся в берег печальный нос – он не сразу узнал его в этой груде бесполезного гнилого металла.
– Ну, здравствуй, приятель, – сказал Левент, – вот и встретились.
Паром молчал, смотрел на мужчину мертвыми глазами выбитых стекол.
– Да, и тебя жизнь не пощадила, – усмехнулся Левент, – но ничего, поглядим. Уууу, какой ты гнилой.
Он помнил паром другим – белоснежным красавцем на Босфоре, с веселыми людьми на верхней палубе, с музыкой. Когда-то давно, почти что в прошлой жизни и он, Левент, был другим – молодым человеком девятнадцати лет, с черными как смоль волосами, и тогда он еще не считал, что плыть по течению – это искусство.
У него была мечта, и в этой мечте он ехал вдоль Босфора на дорогой машине, одетый в самый лучший костюм. А то, что пока ни машины, ни костюма, лишь общественный паром – это поправимо, немного поработать, потом отучиться, и все будет!
Он и работал, копил деньги на учебу, а ежедневная дорога на пароме c островов в город – пока тоже хорошо, паром – он такой в Стамбуле один, белобокий, большой, яркий, и только здесь самый вкусный в Стамбуле чай и чайки, что кружатся над пассажирами, ожидая, не кинет ли кто за борт кусочек симита.
И Бинназ, девушка с длинными волосами, что в любую погоду стояла у борта и смотрела как завороженная на воду, пенящуюся у кормы.
Он сначала издалека любовался – красивая.
А потом набрался смелости и подошел, спросил:
– Хотите чаю?
А она не отрывая взгляда от волн ответила:
– Хочу.
И дорога на работу заиграла новыми красками.
Теперь они каждый день плыли вдвоем. Он рассказывал о своих мечтах, планах, она посмеивалась:
– Зачем тебе дорогая машина, Левент? Ты каждый день плывешь на самом чудесном в мире корабле, это ли не счастье?
– Паром хорош, конечно, но будут дни, когда у меня своя яхта будет!
Бинназ подтрунивала:
– Про твою яхту тоже песни сложат?
И напевала вполголоса:
– Martılarla bir yolculuk Paşabahçe Vapuru’nda, mavi beyaz bir mutluluk Paşabahçe Vapuru’nda… (Путешествие с чайками на пароме Пашабахче, бело-голубое счастье на Пашабахче…)
От нежности перехватывало дыхание, от счастья кружилась голова, и кричали пронзительно в вышине красивые белые птицы.
Летели дни, утекали, будто босфорская вода, что катится с одного моря в другое.
Приближались дни отъезда, Левент, потерявший голову, пришел к отцу, рассказал, спросил совета.
– Тебе решать, – сказал отец, помолчав, – я не неволю, сам хотел учиться, только семья, это, знаешь, не игрушка. Тогда не до учебы будет. Тебе решать.
И тогда он, Левент Сарой, струсил.
Испугался, что останется, погрязнет в быте. Что останется навсегда никем, и дорогая машина повезет вдоль Босфора кого-то другого, не его.
Молча, ничего не сказав Бинназ, уехал. Не хотел обещаний, ожиданий, боялся, что не выдержит ее слез, передумает, останется – просто забрал заработанные деньги, купил билет, последний раз, в одиночестве, проехал путь от островов до города на «Пашабахче», посмотрел из иллюминатора самолета на отдаляющийся Стамбул.
Там, по Босфору плыл большой белый корабль, и в голове пролетела грустное, больное – зря.
Но он прогнал эту мысль.
А потом закрутилось – учеба, подработки, он вернулся домой только спустя несколько лет, спросил у отца – отец сказал, что она сначала ждала, безнадежно, без обещаний, а после вышла замуж, переехала с островов в город, не ищи.
И он не стал искать.
Уехал в Анкару, работал, когда пришла пора, женился на сестре коллеги, растил детей – все как у всех.
Купил дорогую машину, ту самую, о которой мечтал – ничего не почувствовал.
То, что казалось мечтой, наяву было банальным и даже глупым.
Когда дети выросли, жена сама попросила развода. Просто однажды подошла и сказала: «Отпусти меня, Левент. Ведь ты меня не любишь. Ты был мне хорошим мужем, а сейчас – отпусти. Нас более ничто не связывает».
И он отпустил.
Получив документы о разводе, оставил жене дом, переехал в Стамбул. На его банковском счете было достаточно денег, чтобы больше о них не думать. Снял квартиру, – улица Счастья, красиво звучит, каждое утро кормил чаек, под их резкие крики время будто поворачивало вспять, и издалека словно долетал тоненький девичий голосок: «Martılarla bir yolculuk Paşabahçe Vapuru’nda…».
Он потерялся, жил на автомате, не думая, считая, что все в его жизни уже было, осталось только доживать свой век – и вдруг эта новость о реставрации старого судна.
Конечно, на Босфоре теперь полно больших белых судов, но ведь это – то, то самое, из его юности, из тех времен, когда он был по-настоящему счастлив.
Да, по-настоящему счастлив, именно так это и называется.
Этот паром помнил время, когда его любила красивая девушка с длинными каштановыми волосами, помнил ее голос – и помнил его трусливое бегство.
Левент никому не говорил об этом, но самому себе признался уже давно – та мысль на борту самолета была верной.
Зря.
Он совершил самую большую глупость, отказавшись от Бинназ. За всю его жизнь ни с одним человеком не было ему так легко и свободно, ни к одной женщине он не испытывал такой щемящей нежности. И ничто в мире более не подарило ему ощущения того счастья, которое он испытывал каждое утро, встречая девушку на борту.
Теперь по утрам чайкам приходилось наскоро съедать свой завтрак – Левент почти бегом бежал на верфь, работал – и смотрел. Как очищали старый корпус, как демонтировали прогнившее дерево, как суетились вокруг парома специалисты.
Что-то в его душе дрожало каждый раз, как он проходил мимо корабля своей юности.
Не составило труда прибиться к команде тех, что мыли, терли, шкурили, перебирали, колотили и красили старый паром. Лицо его обветрило, руки обросли мозолями, но никогда за всю свою жизнь Левент не испытывал такой радости от работы, как сейчас, и казалось ему, что реставрируют не паром, а всю его, левентову, жизнь, кто-то перебирает по досочке, по винтику, и от чувства этого хотелось петь.
И он напевал себе под нос:
– Martılarla bir yolculuk Paşabahçe Vapuru’nda…
Ну и пусть.
Пусть были ошибки, пусть была трусость, пусть – этого уже не исправить, не вернуть, жизнь человека не имеет обратного хода, но пусть снова поплывет по Босфору белый паром, у него-то второй шанс есть. И пусть не у него, не у Левента, а у кого-то другого, но пусть снова будет в этом мире бело-голубое счастье на борту «Пашабахче».
Осень сменялась зимой, за зимой приходила весна – а Левент пропадал на верфи.
Незаметно для себя самого сдружился с реставрационной бригадой, приходил рано утром, уходил обратно чуть ли не последним.
На первый, торжественный рейс заново спущенного на воду парома «Пашабахче» пришло много народу – два года реставрационных работ, паром – городская легенда, история, и Левент, затерявшийся в толпе на верхней палубе, скользил глазами по головам, непроизвольно искал, ждал, что вот-вот мелькнет в толпе такая знакомая прядь русых волос.
Ведь она любила это судно.
Но ее не было.
Было телевидение, были люди, что аплодировали, поднимаясь на палубу, был заново отстроенный «Пашабахче» – а ее не было.
И Левент, проплывая по Босфору под крики чаек, ощущал вовсе не бело-голубое счастье, а бескрайнее, невозможное одиночество.
– Какая, в сущности, глупость, – пробормотал он себе под нос.
Говорят, что душа умирает медленно, сбрасывая надежды как листву, до тех пор пока не останется ни одной, ни единой надежды.
Надежда толкнула его ранним воскресным утром, когда он, по своему обыкновению, кормил на кухне завтраком чаек.
Надежда обожгла, простая мысль, доселе не приходившая ему в голову, ударила, оглушила, Левент побежал искать смартфон, несуразно тыкал пальцами в экран, ища расписание.
Чайки перевалились через подоконник и охотно хозяйничали на кухне, раздирая хлеб, но ему не было до этого никакого дела.
Кто сказал, что она придет на первый, торжественный, спуск?
Бинназ никогда не любила шумных сборищ, скорее всего она придет просто так, на рейс. На какой-нибудь обычный рейс, ведь паром встал на линию и раз в день, как и раньше, ходит до островов и обратно.
Если она жива – она придет.
Пусть даже с мужем – он просто хотел увидеть ее еще раз.
«Старый я дурак», – клял себя Левент, – «Я мог опоздать, только бы я не опоздал, почему я об этом не подумал».
Он не помнил, как добрался до пристани Кабаташ, лишь порадовался, что мысль эта пришла ему в голову, и что только два дня обычного курсирования парома он упустил по своей глупости.
Усевшись на верхнюю палубу, закрутил головой.
И увидел у левого борта темно-русые волосы, девичью тонкую фигурку, смотрящую на волны.
– Бинназ…
Он встал, на негнущихся ногах приблизился – нет, так похожа, но нет, не она.
А потом – ему уже 55 лет.
Разве могла Бинназ остаться той юной девушкой?
Какая глупость.
Левент отошел на корму, уставился на удаляющиеся дома – и сквозь урчание парома услышал знакомый голос:
– Martılarla bir yolculuk Paşabahçe Vapuru’nda…
– Мам, ну перестань, – задорный голос оборвал песню.
– Что мам? Я как свой любимый «Пашабахче» увидела, так как будто в прошлое вернулась, дочка. Также вот плавали на нем, утром на работу, вечером с работы. Тут прошло мое детство, моя юность, моя первая любовь. Как я его любила! Не сложилось, он уехал, а потом с твоим отцом познакомилась, жизнь прожили, а вот, не забывается…
– Мам, а давай попробуем его найти? Ведь век интернета, можно попробовать? Отца нет уже шесть лет, может…
Тихий грустный смех царапнул Левента по душе.
– Да что ты, дочка, у него небось жена, дети тоже. Это только паром отреставрировать можно, а время вспять не повернешь.
– Откуда ты знаешь, – не согласился звенящий голосок.
Левент не стал дальше слушать.
Он быстро, не оглядываясь, прошел до корабельного буфета, купил два стаканчика чая, вернулся и увидел, как в свете заходящего солнца на пенящиеся воды Босфора смотрят две женщины – совсем юная, с длинными растрепавшимися на ветру волосами и все еще красивая, с модной стрижкой, почти не постаревшая Бинназ.
Ему внезапно стало страшно.
Сделав над собой усилие, он подошел ближе и спросил:
– Хотите чаю?
Удивленно посмотрела на него девушка, а женщина обернулась, глаза ее расширились и она прошептала одними губами:
– Хочу.
Tatlı bir meltem herkese
Bir güzel düş, bir hoş bilge
Ne olur bu yol bitmese
Paşabahçe Vapuru’nda…
Послесловие: паром «Пашабахче» пришел в Стамбул из Торонто и 58 лет перевозил пассажиров в водах Стамбула на линии островов и Ялова. Это судно прочно вошло в историю города не только как транспорт, перевозивший утром и вечером людей – на нем делались предложения, игрались свадьбы, ему посвящались стихи и песни, ведь в то время это был самый красивый и большой вапур на Босфоре. Однажды на борту даже родился ребенок, которого так и назвали – Дениз, что в переводе означает «море».
В 2010 году паром был списан по старости и 10 лет стоял, никому не нужный, пока в 2020 году мэр города не отдал приказ о реставрации исторического судна, сказав, что реставрация конечно дорогая и дешевле построить новый, но это наша история и мы должны ее беречь.
1 сентября 2022 года паром «Пашабахче» под слезы и аплодисменты стамбульцев совершил свой первый после реставрации рейс и снова встал на линию Кабаташ-Адалары.
Саз ашика Вейселя
Толпа курила, хлопала, людское море шумело, томясь в ожидании.
Он ощущал это ожидание кожей, чувствовал, как оно витает в воздухе, оседает, будто пыль, на волосках рук, забивается в ноздри, рождая странное, щекочущее чувство, сродни желанию чихнуть.
Чувство кружило голову, поднимало в душе волнение. От этого волнения он теребил саз, едва ощутимо касался струн старенького, потертого годами инструмента, прижимался худым телом к его надежному, теплому деревянному боку.
Саз успокаивал его.
Как и всегда.
Сидевший на видавшем виды скрипучем стуле грустный мужчина крепче прижал к себе инструмент, низко склонил голову, и, едва касаясь, задумчиво перебирал струны, вспоминая…
***
Он плохо помнил то время, когда инструмент не был его верным спутником, а точнее, почти совсем не помнил.
Те дни сохранились в памяти обрывочными, серыми, словно куски мокрой ваты, моментами, да тяжелым бредом, в котором он, худой семилетний мальчишка, вязко барахтался, тонул. Обступившая его темнота съела все детские воспоминания, затопила разум.
Единственное, что он помнил из дней до прихода темноты – это лукавые зеленые глаза матери да ее цветастое платье, что она пошила как раз накануне его болезни.
Разметавшись в горячечном бреду, он видел, как огромные красные цветы с материнского платья срываются, парят в воздухе, опускаются на его глаза, прорастают в голове малиновыми сгустками боли, пускают корни.
Потом жар спал, но темнота не пожелала уходить.
Осталась с ним, проросла.
– Мама, где ты? – он пытался руками разогнать темноту, разорвать черный плотный полог мрака, но пальцы ловили воздух, нащупывая в небытие худенькие материнские руки.
Прижимая к груди выжившего сына, Гюлизар-ханым шептала сквозь слезы:
– Пусть, пусть, не беда. Главное, что живой.
В темноте растворились, истаяли голоса и облики сестер – они не смогли выбраться из горячечных лап оспы, из троих детей Гюлизара и Ахмета Шатироглу в живых остался лишь он, ослепший, слабый, бесполезный Вейсел.
Жить в царстве темноты было непросто – он старался, но все было тщетно.
Привычный мир исчез, а тот, что пришел ему на смену – мир звуков, запахов, шорохов, казался враждебным. Мальчишка постоянно бился о скудную мебель их дома, спотыкался на улице, он был лишним в мире, которого более не видел.
И ему не хотелось, чтобы мир видел его.
С недетской мудростью, не желая показывать отчаяние и без того исстрадавшейся матери, вечерами он уходил в сад, обнимал теплые живые стволы деревьев и выл, как зверь, от бессилия и боли. Тер до ссадин на веках свои слепые глаза, скулил, словно побитая собака.
Потом пробирался в постель, и снова падал в темноту – снов он не видел.
Но однажды отец принес домой саз.
Положил его сыну на колени, подождал, пока тот ощупает руками толстую фигуру музыкального инструмента, по очереди тронет каждую из его семи струн, проведет руками по тонкому, хрупкому грифу.
– Я купил его тебе, – несмело сказал отец, – если ты больше не можешь видеть, но можешь говорить, может быть, попробуешь играть?
От слов отца он сжался в комок, с головой накрылся куцым одеялом.
В его понимании музыка – это веселье, песни, пляски.
Какое он сможет дать людям веселье, когда его душа способна только выть от ужаса в этой бесконечной темноте?
Первые дни саз одиноко стоял у постели, он не обращал на него никакого внимания.
Но однажды вечером, возвращаясь со двора, споткнулся об него, оступился, в сердцах пнул ногой беззащитное деревянное тело – и услышал, как саз взвизгнул от боли и обиды.
От его боли и обиды, вложенных в удар.
Саз, оказывается, тоже умел плакать.
Вейсел сполз с кровати, нащупал инструмент, погладил тонкие струны, успокаивая, и прошептал:
– Не плачь. Тебе, наверное, тоже страшно и тебя тоже никто не любит. Мы с тобой оба никому не нужны
В ту ночь он уснул, обнимая саз, словно прося прощение за свою грубость.
А на утро начал пробовать играть.
Тихонько пытался подобрать музыку под слова народных песен, что пели односельчане. Слушал, как вибрировали в такт его настроению струны, как послушно инструмент говорил о том, о чем он, Вейсел, говорить боялся – о своем страхе, неуверенности, свете, которого он больше не видел.
Ушли в прошлое вечерние побеги в сад – теперь по вечерам он теребил струны, и не видел, но чувствовал, как мать смотрит на него и тихо улыбается, когда он играл ей свои мелодии.
Видя, что сын оживает, Ахмет-бей начал приглашать в своей дом ашиков – странствующих музыкантов, что учили его приемам игры на сазе и песням, но…
Началась война – сначала Первая мировая, а потом и Война за Независимость.
В его памяти война осталась плачем женщин, бесконечными объявлениями указов – и бесконечным же одиночеством. Ушли в прошлое уроки музыки, бродячие певцы, вечерние посиделки в отцовском доме. Всеобщая мобилизация забрала из домов мужчин, вырвала из семей отцов и сыновей.
Лишь он остался – слепой калека не нужен на фронте.
Родители, наблюдая за ним, только вздыхали.
Не станет их – некому будет помогать их калеке-сыну вести дом, никому не будет дела до одинокого слепого парня.
И настал час, когда Гюлизар-ханым постучалась в дом свахи…
***
Воспоминания сжали душу старика.
Сколько лет прошло, а он все не мог себе простить, все винил себя. Нужно было отказаться, но тогда он был молод, и ему казалось – любовь и нежность многое могут.
Печальное настроение передалось инструменту, и саз тихо заплакал от воспоминаний о запахе лаванды и тех немногих веселых песнях, что играл в те дни для своего тогда еще совсем молодого хозяина…
***
Тот день, когда в их дом вошла Эсма, запомнился Вейселю запахом лаванды.
Он не видел девушки, но чувствовал, как шевелятся складки ее одежды, как колышется тонкий лавандовый аромат в такт шагам. Кожа жены напоминала ему спелые персики – теплые, разомлевшие под полуденным летним солнцем, бархатистые.
Ощупывая лицо той, что отдавали ему в жены, он улыбался – и не мог видеть, как в глазах девушки плескалось отвращение.
С приходом в дом Эсмы он связывал свои самые дерзкие надежды – что закончится его одиночество. Появятся дети, их веселые голоса ворвутся в его темный мир – и разобьют тьму, в которой он живет, и она, Эсма, будет рядом – человек, которому он важен.
Нужен.
Интересен.
Не веря счастью, он, улыбаясь, перебирал верные струны саза, желая порадовать молодую жену веселой мелодией, напевал вполголоса песни.
И саз звенел, разделяя его надежду.
Он не мог видеть брезгливости, не замечал, как старательно Эсма избегает его, насколько возможно – окрыленный мечтами, не думал, почему она согласилась на брак.
Откуда ему было знать о разговоре, что был накануне свадьбы в доме невесты:
– Пойдешь, пойдешь, – шипела на заливающуюся слезами Эсму сваха, – война, мужиков нет, этот хоть слепой, да зато с руками-ногами, свекры на руках носить тебя будут.
Это было правдой – его родители не чаяли души в невестке, и покинули этот мир, спокойные за судьбу сына.
Когда родилась дочь, он взял ее на руки – девочка пахла молоком и медом, из его незрячих глаз лились слезы, а ребенок, невидимый им, но теплый, живой, смотрел на слепого мужчину молочными голубыми глазами, хватал за палец.
Он чувствовал этот взгляд – и сердце его пело.
И пели, играя колыбельную песню девочке, струны старого саза.
Но это была недолгая песня – спустя несколько месяцев после рождения дочери, Эсма ушла, убежала, вместе с помощником по хозяйству, бросив слепого мужа и крошечную шестимесячную дочь.
Напрасно он пытался выходить ребенка – тяжелые послевоенные годы и слепота сделали свое дело, дочь умерла.
Вина затопила его – оставшись один, он снова выл от одиночества в темноте своего мира, из которого навсегда исчезли сначала лавандовый запах, а после запах меда и молока.
Он хотел уйти, не – быть, он почти утвердился в этой мысли, как жизнь решила иначе.
И пересекла пути безвестного слепого Вейселя Шатироглу и Ахмета Течера.
Ахмет тогда долго уговаривал Вейселя – и уговорил-таки выступить на трехдневном фестивале народных поэтов. Взяв свой саз, он пришел на фестиваль, чьи-то руки помогли ему подняться на помост, он опустил голову, не желая смотреть незрячими глазами в толпу – и запел.
Так люди услышали песни ашика Вейселя – и полюбили их.
Его стали приглашать на другие фестивали, он начал гастролировать по стране, и в одной из гастролей встретил Гюлизар, которая не испугалась слепоты, приняла и полюбила их – его и саз.
И родились дети, а потом и внуки.
И были выступления, было признание – но больше всего он любил петь не на сцене, а в поле, петь для пастухов и фермеров, для тех, с кем прошли его детство и юные годы.
И каждый раз, выходя на сцену, он волновался, словно боясь, что те, кто шумят сейчас там, в зале, не полюбят его – неграмотного, слепого мужчину, его незамысловатые песни, его незрячее лицо и простые мелодии саза.
***
Старый саз пискнул под руками, подбадривая хозяина – не грусти, пойдем, они – ждут, а значит, мы им нужны.
И слепой старик, подняв голову, встал, сделал три шага, отодвинул пыльный занавес рукой – и под гром аплодисментов вышел на сцену.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































