Текст книги "Стамбульская мозаика"
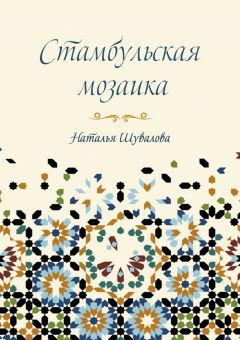
Автор книги: Наталья Шувалова
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 10 страниц)
Слезы Зюбейде – ханым
– Мама, я не хочу переезжать! – голос мальчика сорвался на визг.
Женщина обняла сына, прижала маленькие, колотящие воздух кулачки к груди. В теплоте материнских рук ребенок затих, успокоился, лишь беспомощно всхлипывал.
– Мустафа, мне тяжело одной, – она гладила сына по голове, успокаивая, – Рагып-бей неплохой человек, он поможет нам всем. Подумай о сестрах, обо мне…
Ребенок поднял заплаканное лицо.
Из глаз лились злые, обжигающие слезы.
– Мама, ты же не одна, – всхлипывая, он обнял худенькую женщину, – у тебя есть я, зачем нам этот противный Рагып, зачем нам уезжать? Мы справимся, я буду тебе помогать, я уже большой.
– Ты еще так мал, мой Мустафа, чем ты можешь мне помочь? Я должна заботиться о вас, и одной мне не справиться с этой задачей.
– А как же дядя? Дядя Хусейн никогда нас не бросит, он же помогает нам! Мама!
Мальчик снова зашелся рыданиями.
В тишине дома темноволосая статная женщина отчаянно пыталась успокоить непокорного сына.
Но все было тщетно – ребенок плакал, пока не устал, и не заснул тем тяжелым сном, граничащим с обмороком, в который проваливаются измученные безнадежностью души.
Зюбейде-ханым накрыла сына одеялом, вышла во двор.
В чем-то она понимала сына – чужой человек вместо отца, чужой дом вместо родной крыши.
Но кто виноват?
Али Рыза умер, его не вернуть, сколько не плачь.
А ей, Зюбейде, надо жить дальше, растить детей.
Вспомнив Али, женщина невольно улыбнулась. Хоть и говорили тетушки, что разница в возрасте велика, четырнадцать лет невесте, тридцать четыре жениху, а все же это был счастливый брак – шестнадцать лет вместе, муж пограничник, уважаемый человек, Всевышний послал деток, хоть и выжили только трое из шести. Да и ей было с ним интересно, легко. Даром что девчонка совсем – тоже не проста, читать и писать умела, и в деревне, бывало, над ней подшучивали, называя не в меру образованную женщину «Зюбейде-мулла».
Но это все в прошлом.
Впереди ее ждал новый муж, новый дом – вот только Мустафа все никак не мог смириться с переменами.
Ну да ничего, привыкнет.
Собирая вещи, связывая узлами детскую одежду, Зюбейде-ханым смахнула непрошеные слезы.
Она еще не знала – ее сын никогда не сможет смириться с новым домом, с новым отцом.
Настолько не сможет, что, отметив двенадцатый день рождения, добровольно уйдет из так и не ставших родными стен в люди, поступит в подготовительную военную школу в Салониках, затем – в военную школу в городе Манастир, а после и в Оттоманский военный колледж.
Они будут редко видеться. Настолько редко, что в 1905 году Зюбейде-ханым поедет из Салоников в Стамбул, чтобы на несколько дней увидеть своего сына, после окончания военной академии разу же попавшего в тюрьму за противозаконную критику режима султана Абдул-Хамида.
Стамбульское свидание будет коротким, стены вокзала Сиркеджи запомнят, как плакала женщина, провожая сына в ссылку в Дамаск.
Она до конца своих дней будет пытаться быть ему полезной – и плакать от вечного страха за его жизнь. Будет писать длинные письма, поддерживать сына во всех начинаниях, советами станет помогать ему открыть отделение «Общества Родины и Свободы» в Дамаске.
А Рагып-бей умрет после Первой мировой войны, и Зюбейде-ханым снова останется вдовой. Ее родные Салоники отдадут территории Греции, Зюбейде-ханым и ее дочь Макбуле-ханым переедут в Стамбул, Мустафа купит для них дом.
Но в этом доме тоже не будет счастья – вечная тревога за сына, ложная информация о его смерти, постоянные переживания, слезы, нервы, волнения и постоянный страх подорвут ее здоровье.
И Мустафа решит перевести маму в Анкару.
Но уже будет июнь 1922 года, начнется Война за независимость.
А Зюбейде-ханым будет становиться все хуже и хуже, частичный паралич и ревматизм дадут о себе знать. К тому же, климат Анкары окажется губительным для старой женщины. И Мустафа уговорит мать поехать в Измир, полагая, что приморский климат пойдет ей на пользу. Второй целью этой поездки будет познакомить Зюбейде с Латифе-ханым, на которой он соберется жениться.
Главный адъютант Салих, который отправился в Измир, дабы найти подходящее место для проживания, подготовит для Зюбейде-ханым летний домик, который станет последним пристанищем старой измученной женщины. Она умрет в возрасте 66 лет 14 января 1923 года, прожив 28 дней в особняке Латифе – ханым в Измире, куда попадет уже с инсультом и почти слепая. Мустафа Кемаль Ататюрк на похороны матери не приедет, лишь отдаст телеграммой соответствующие распоряжения.
Его будет ждать его Республика.
И лишь позже, одержав победу, великий Мустафа Кемаль Гази Ататюрк придет в одиночестве на невысокий могильный холмик и долго будет плакать и говорить с той, которую почти не видел при жизни и которую не пришел проводить в последний путь.
И кто знает, как повернулась бы мировая история, если бы тем вечером Зюбейде – ханым, обнимая сына, сказала:
– Хорошо, мой мальчик, мы останемся в доме дяди. Не плачь.
Дорога на Кастамону
Холодно.
Как же холодно.
Холод пробирался сквозь одежду, кусал, насмехался.
Ветер пробирал до костей, злой ледяной снег бил в лицо, слепил глаза.
Шерифе поправила платок, попробовала было отпустить поводья и сунула руку в карман, но бык, почувствовав, что хозяйка перестала тянуть вперед, тут же встал как вкопанный. Девушка, дрожа всем телом, снова взялась за повод и резко дернула животное вперед.
Нехотя, выпуская пар из ноздрей, бык двинулся с места.
Шли тяжело. В стылой зимней ночи она боялась потеряться, сбиться с дороги. До Кастамоны, должно быть, было уже недалеко, но они двигались медленно – убийственно медленно, будто увязнув в бесконечности метели, вне времени и пространства.
Невысокая, укутанная по самые глаза девушка, черный бык, груженая повозка – и спящий внутри, в теплоте одеял, младенец.
Шерифе шла, проваливаясь в снег, тянула быка. Чтобы не пасть духом, пробовала напевать про себя песню, но какие песни, когда вокруг только воющий, свистящий ветер да колючий, озлобленный на весь мир снег?
Она подумала о доме.
От печки струится теплый воздух, пахнет хлебом, и Топал Юсуф, прыгая на своей единственной ноге, греет на огне чайник, единственным же глазом глядя на закипающую воду.
Одновременно смешное и грустное зрелище.
Шерифе не любила его – чужой человек, калека.
Не любила – но жалела.
Хоть и чужая, а все же живая душа, которую тоже перемолола война.
Война вошла в их жизнь незваной гостьей, вывернула наизнанку судьбы, разметала по стране семьи, забрала близких. Глумясь и усмехаясь, уродливая тетка-война отняла у Шерифе того, другого мужа, любимого, с которым и счастья-то было на несколько недель, когда душа ее птицей взмывала в небеса лишь от одного только его взгляда…
Войне не нравилось, когда люди – счастливы.
За Юсуфа овдовевшую после первого брака Шерифе выдали старейшины деревни, рассудив, что негоже молодой женщине жить одной, тем более по таким смутным и лихим временам.
Сама Шерифе не противилась – какая теперь разница, за кем быть замужем?
А Юсуф, хоть и израненный, а добрый, жалеет ее.
Понимает.
После рождения Элиф стало труднее и радостнее одновременно: труднее, потому что времена голодные и неустроенные, радостнее – потому что вот она, родная душа, настоящая, маленькая, живая, смотрит глазами – бусинками цвета спелой вишни.
От воспоминаний стало чуть теплее, как будто тепло домашней печи, пролетев сквозь метель, коснулось ее лица.
Шарифе остановила быка, аккуратно отодвинула одеяла, заглянула в повозку – маленькая Элиф, недовольно наморщив нос, засопела, почувствовав холод.
Дочка.
Опустив на место одеяла, Шерифе вздохнула, снова потянула уставшего быка вперед, в непроглядную тьму метели.
Мысли о дочке всегда придавали сил. От Юсуфа помощи было мало, ему, инвалиду, самому помощь нужна, на него ребенка не оставить даже на одну ночь, что уж говорить про целую жизнь?
Шерифе вспомнила, как позавчера в их деревню пришел посыльный, в голове снова зазвучал его голос: «Эййййй народ! Не говорите, что вы не слышали. В пятницу повозка с волами от каждого дома отправится в Инеболу, чтобы перевезти груз… Новый парламент и установленное правительство Мустафы Кемаля в Анкаре всю зиму готовились нанести последний удар греческим солдатам, атакующим Анатолию. Всем окрестным деревням поручено переправить на фронт боеприпасы и артиллерийские снаряды, доставленные морем в Инеболу…»
Когда Юсуф узнал, что повозку с боеприпасами в Кастамону должен отвести каждая семья, без исключения, то в отчаянии закрыл лицо руками – одноногий, одноглазый, он хотел перестать быть от стыда за то, что вынужден остаться дома, отпуская жену исполнять приказы. Он просил – не бери с собой Элиф, но она лишь покачала головой. Как не брать, ребенок захочет есть, кто накормит? Пять месяцев, девочка не оторвана от материнской груди, а во всей деревне нет ни одной коровы, ни одной козы…
Надо – значит, надо, она отвезет.
Поначалу все было хорошо – Шерифе выехала рано, оделась потеплее, закутала малышку, нагрузила повозку ящиками с боеприпасами, свила в них из одеял гнездо для спящего ребенка, запрягла быка.
Девяносто километров – не самое великое расстояние.
Кто же знал, что обрушится метель, что снег станет плясать свою безумную пляску, что дороги не будет видно, что ноги будут увязать в снегу?
А теперь – лишь снег, холод, вой ветра и вся надежда на Всевышнего да на черного быка, что пыхтит, упрямится, но все равно идет.
Словно услышав ее мысли, бык совсем по-человечески вздохнул, выпустил клуб пара из ноздрей и встал, как вкопанный. Шерифе рванула поводья, бык сделал шаг, и снова встал.
Одними губами женщина прошелестела:
– Пожалуйста, пойдем…
Но сильное животное лишь шумно дышало, стекленеющими глазами смотрело куда-то сквозь метель, куда-то, где не было места холоду.
Изо всех сил Шерифе рванула повод – бык, пытаясь сделать шаг, пошатнулся, тяжелой тушей рухнул на снег.
Опустившись на колени, прижавшись к рогатой голове лбом, она шептала:
– Миленький, ну пожалуйста, вставай, ну пожалуйста…
Все было напрасно. Под пальцами Шерифе ощутила что-то мокрое – это из глаза умирающего животного стекла слезинка.
Бык не встал.
Темнота и снег, слипающиеся от холода ресницы. Немеющие, негнущиеся пальцы, стылый воздух, царапающий горло. Она сидела, привалившись к остывающему телу быка, пытаясь согреться остатками тепла, но его было мало, слишком мало.
Из повозки послышался требовательный плач – проснулась малютка Элиф. Собрав последние силы в своем дрожащем, крохотном теле, Шерифе взобралась на повозку, поверх одеял обхватила малышку, будто стараясь отгородить кричащего ребенка от темноты и холода, наваливающегося на них с равнодушных, черных небес.
– Подожди немного, девочка моя, сейчас мама тебя покормит… покормит…
Ветер пел заунывную колыбельную, заметал снегом женскую фигурку, распластавшуюся поверх покрывал.
– Спи моя девочка, засыпай, – протяжно напевал то ли ветер, то ли сама Шерифе, пытаясь успокоить отчаянно кричавшую дочь.
Внезапно ей стало тепло. Так тепло, что она удивленно подняла голову – было лето, душная летняя ночь. И не было больше ни войны, ни страха, ни голода, ни обжигающей воющей метели, лишь пряный летний воздух, и голос, его голос:
– Пойдем со мной?
– А Элиф?
– С ней все будет хорошо.
Она улыбнулась и протянула к мужу руки.
До Кастамоны Шерифе не доехала совсем чуть-чуть, метель помешала ей увидеть огни домов. Услышав надсадный крик ребенка, на улицу вышли мужчины и нашли недалеко от деревни повозку, груженую патронами и снарядами, отчаянно кричавшую девочку и замерзшую, свернувшуюся клубком женщину.
В декабре 1921 года Шерифе Баджи было всего двадцать лет.
Сейчас на побережье Инеболу, где начинается дорога на Кастамону, стоит памятник – юная женщина, сгибаясь, упрямо идет впереди запряженной быком повозки.
В 1973 году, к 50-летию основания Турецкой Республики, имя Шерифе Баджи было присвоено многим учреждениям. Вот некоторые из них: Начальная школа Шехит Шерифе Баджи, Дом учителя Шерифе Баджи, Государственная больница Кастамону Шерифе Баджи, Больница акушерства и педиатрии Кастамону Шерифе Баджи, Средняя школа Стамбульского митрополита Шехита Шерифе Баджи.
По Босфору на Йорос
Сумрачный денек, Стамбул моросит дождем, кутает в туман старые ялы.
Рыбаки на Галате нахохлились, завернулись в дождевики, греют на принесенных примусах маленькие чайнички, дышат на озябшие руки.
Десять утра.
Переступая через удочки и лески, топаю на Эминюню, загребаю ботинками воду из луж.
Несмотря на дождь, хочу плыть.
Покупаем большой босфорский тур – 2,5 часа туда, три часа там, 2,5 ч обратно.
Лезем в чрево уютного корабля, будто в пасть гигантского кита, выбираем место у огромного окна. Людей мало, все работают или сидят дома из-за дождя. В корабельном буфете заказываем чай – куда же без него.
Как говорится – çaysız olmaz.
Сквозь окно крытой нижней палубы смотрю на свинцовый Босфор, на стыдливо укрывающиеся вуалью тумана особняки. Из двери одного фешенебельного дома выходит женщина, стеклянными глазами смотрит вперед, нервно закуривает.
Интересно, какая история происходит за стенами? Что выгнало ее из уюта и тепла на улицу? Что заставляет курить на ветру?
Из тумана выныривают корабли. На темном, коричневом боку одного судна читаю надпись – «Катюша».
Мой друг смеется – вы, русские, всюду.
Судно проплывает мимо, теряясь в очередном клочке тумана.
На нижней палубе тепло и уютно, корабельная качка сама собой навевает песню – Kuşlar içimden düşümden uçmuş yani derinden derinden…
Сняв обувь, забираюсь в кресло с ногами, смотрю на клубы тумана, качающихся на волнах чаек и величаво плывущие мимо меня ялы. Кутаюсь в балкарский свитер, друг купил сладости, едим, болтаем.
Конечный пункт – Анадрлу Кавагы, рыбацкая деревенька, бирюзовые босфорские воды тут уже смешиваются со свинцовыми водами Черного моря. Запах соленого морского бриза, крик чаек, разбросанные на берегу сети, суденышки, покачивающиеся на прибрежных волнах, крепость Йорос в тумане на холме.
В мокрых каменных ступенях, ведущих к крепости, вмурованы назар бонджу, пристально глядящие на идущих. По ним стекает дождь, и кажется, что маленькие синие амулеты, навечно призванные смотреть снизу вверх и охранять путников, плачут о всех, кто ступал по этим древним ступеням.
Лицо обжигает резкий босфорский ветер – он не жестокий. Просто ему редко приходится общаться с людьми, вот и показывает характер.
Отсюда просматривается вход в Босфор. Для, этого, собственно, крепость и строили. Люди говорят, что ночами в крепости не зажигали огней, чтобы вражеские суда теряли ориентиры и садились на мель. Из уст в уста передают легенду, что аргонавты в погоне за Золотым Руном остановились здесь, чтобы закупить провиант.
Но это в прошлом, сейчас здесь царствует ветер и чайки, парящие над проливом. От былого величия остались лишь руины крепостных стен да пара сторожевых башен. Некогда стратегическое место стало пустырем, надсадно кричат птицы, вдалеке гудит вошедшее в Босфор судно.
Как следует замерзнув, оседаем в небольшом кафе,
Мы не аргонавты, но есть что закупать – рыба превосходная, свежая, сочный леврик с овощами достоин внимания.
Друг выбирает столик рядом с собой, смеется:
– Ты так любишь наш турецкий колорит, что вариантов нет.
Соба – турецкая печка, русская буржуйка, трещит поленьями, пляшет огнями. От собы тянется дымок, соба сушит наши вымокшие в тумане куртки.
На веранде за стеклом пляшет чайка.
Требует еды и внимания.
Кидаем ей остаток булки, схватив на лету кусок, птица скрывается в тумане.
Вернувшись на корабль, угнездившись в его ласковом нутре, наблюдаю за каплями дождя, ползущими по стеклу.
Я рада, что поехала.
Хочу что-то купить. Что-то из этого дня, унести с собой, касанием руки к вещи возвращаться в этот тихий сумрачный день,
Внимание привлекает календарь в корабельном буфете – Şehir hatları. Маленький, перекидной, настольный, на черно-белых фото известные старые пароходы Босфора.
Приятно тяжелый, бархатной бумаги, все как я люблю.
Забираю его с собой, тут же рисую вокруг 19 марта кружок.
– Ты становишься сентиментальной, – смеется друг.
Что ж, может быть.
Но я хочу помнить этот день.
И песню, что играла в моей голове:
Kuşlar içimden düşümden uçmuş yani derinden derinden…
Многие говорят, что по Босфору на Йорос надо ехать в хорошую погоду.
Я с ними не согласна– это время для туманного дня, для тяжелого Босфора, для уютного, с чаем, корабельного нутра, красивой музыки, голодных чаек и созерцательного настроения. Может, кому-то больше по нраву будет поездка в солнечный день, все мы разные, но я полюбила плыть сквозь туман, слушать тюркю, смотреть на ялы.
Идеальный план для плохой погоды.
И вспоминается этот день потом вкусом запеченной рыбы, запахом дыма собы и фотографиями туманного Босфора. Да календарем от городских пароходных линий, с которого смотрят на тебя черно-белые легендарные вапуры ушедших лет…
В поисках гюрбюшки
Эмигрантская тоска – штука парадоксальная.
Вот Ленка моя.
Живет себе в Стамбуле не первый год, все хорошо, муж, дети, работа, друзья, все устраивает.
Есть, конечно, и проблемы, ну так они везде есть, рай только в сказках бывает.
Но периодически нападет на Ленку эмигрантская тоска, причем тоскует она не по людям, и не по российским реалиям, а сугубо по продуктам.
– Эх, селедочки бы, – сокрушается она, глядя грустными глазами на рыбном базаре на великолепие даров из трех морей, – североатлантической!
– Да, да, именно ее тут и не хватает, – автоматом поддакиваю я, покупая пару левриков и недоумевая, чего ей уперлась эта пересоленая рыбина. Вон, выбирай на любой вкус – хочешь с Мраморного моря, хочешь с Черного, но нет же, сельдь в бочке подавай.
Или вот еще – сгущенка. Казалось бы – джемов разных пруд пруди, сладостей целые пекарни, а Ленка страдает:
– Сгущенки хочу, варееенооой… Как в детстве…
От этих страданий хорошо помогает Ленке моральный пинок, и напоминание, что благодарить надо за то, что имеешь, а имеешь ты, надо сказать, очень даже многое, гораздо больше, чем банка со сгущенкой или селедкой.
Это присказка была, сказка будет дальше.
Решили Ленка со своим Ахметом, что им очень нужен третий ребенок, ну и через пару месяцев радостная новость – ура, мы скоро снова станем родителями.
Порадовавшись за подругу, я погрузилась в круговорот своих дел, а через пару недель, ночью, прилетает мне сообщение:
– Ната… Нам надо срочно встретиться. Вопрос жизни и смерти. Скажи, когда и где, и Ленке ни слова.
Протирая сонные глаза соображаю – Ахмет.
От испуга я проснулась.
Надо знать Ахмета – страшно делового, медленного, разумного и совсем будто не турецкого Ленкиного мужа, который сохраняет спокойствие всегда и везде и никогда не поддается панике и трагизму.
Это же что случилось, что там вопрос жизни и смерти, да еще такой, при котором мне в час ночи надо написать?
Кое-как прожив в ожидании до утра, я порысила завтракать в компании Ахмета, который, придя, вид имел помятый и несчастный.
– Ты хлеб печь умеешь? – сразу спросил он, забыв поинтересоваться как у меня дела и глядя на меня красными от недосыпа глазами побитой собаки.
– Какой хлеб, – уставилась я на него.
– Kara ekmeği, – выпалил он, – кстати, что это вообще такое?
Потом засуетился, вынул листик и, старательно выговаривая звуки, прочитал написанное, непонятное для него:
– Чернайа буканка кхлеба – и развел руками.
Я расхохоталась.
– Так, рассказывай, что у вас происходит.
И Ахмет рассказал, что происходит страшное – Ленка хочет этот самый черный хлеб, да еще с какой-то «гюрбюшкЮй», а он, Ахмет, совершенно не понимает, что сие такое, и за это непонимание на него уже обрушились все казни египетские и реки Ленкиных слез.
И он бы рад помочь, достать, украсть, купить, испечь эту несчастную «гюрбюшкЮ» для своей любимой, красивой, самой лучшей беременной жены, но совершенно не знает, куда бежать за таким дивом.
Сходил было в русский ресторан – но от принесенного оттуда хлеба Ленка отвернулась и впала в депрессию.
Так что одна надежда – что я спасу ему жизнь и испеку желаемое.
Я впала в ступор.
– Понимаешь ли, мука нужна, печь, технология, я не умею, – развела руками я.
– Я пропал, – вздохнул Ахмет.
– Не вешать нос, гардемарины, – брякнула я по-русски и начала листать телефонную книгу.
Принесли завтрак, Ахмет ковырял оливку, слушал мой треп по телефону и уныло смотрел на торчавшую на фоне неба Галатскую башню.
– Скажи своей Ленке, что будет ей «гюрбюшка», только через три дня, я не волшебник, я только учусь, – отложила телефон я. А с тебя зубы!
– Да пожалуйста, – повеселел Ахмет, – приходи, сделаю.
Втайне потирая руки, я ушла, прикидывая, когда бы сходить на чистку зубов к этому гуру стоматологии.
А через пару дней позвонила моя подруга из одной известной туристической кофейни и сказала:
– Я тебя убью. Ты чего натворила-то….
Изначально план был прост – я попросила эту подругу в соцсети на официальном аккаунте ее кофейни, который часто смотрят туристы, планируя поездку, написать, так и так, акция на пару – тройку дней, меняю русский черный классический хлеб на красивую пироженку.
И когда буханка прибудет с каким-нибудь экономным туристом, убрать объявление. Я приду, заберу буханку, оплачу пироженку – и все счастливы.
Кто ж знал, что приедет не буханка – приедет 12 буханок вместе с компаний из 12 веселых молодых туристов. И вот теперь подруга удрученно глядела с экрана то на меня, то на кирпичики хлеба, устилающие прилавок, и спрашивала:
– И что мне с этим делать?
– В пакет скорее завернуть, чтобы не засох, – крикнула я, – бегу! Лечу чайкой!
Вы представляете, как улыбается женщина, когда ей дарят колье из якутских бриллиантов?
Так вот, Ленка, когда Ахмет торжественно вручил ей перевязанную по такому случаю красным бантиком и упакованную в милый пакет с сердечками буханку улыбалась ярче, верещала от счастья, прыгала как ребенок и хлопала в ладоши.
А потом, глядя, как любимая жена густо посыпает солью и поедает таинственную «гюрбюшкЮ», оказавшуюся на деле обычной черной коркой, Ахмет качал головой и прицокивал:
– Загадочная русская душа! Люблю эту женщину, хоть она временами и напоминает сумасшедшую.
А русская душа, умяв от счастья полторы буханки разом, обняла своего турецкого мужа и искренне сказала:
– Ты у меня самый лучший! Спасибо! Хочешь горбушечку?
Что было с остальным хлебом?
А гренки были, с чесноком, с борщом для детей и с пивом для взрослых.
И всем понравилось!
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































