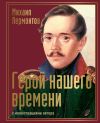Текст книги "История войны и владычества русских на Кавказе. Назначение А.П. Ермолова наместником на Кавказе. Том 6"
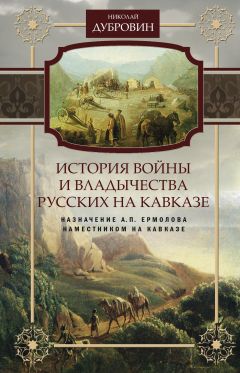
Автор книги: Николай Дубровин
Жанр: История, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 46 страниц) [доступный отрывок для чтения: 15 страниц]
«Долго думал я, – пишет он[258]258
А.В. Казадаеву 30 ноября 1799 г.
[Закрыть], – о твоем мне совете писать письма к известным тебе особам[259]259
Не Кутайсову ли? Казадаев и Кутайсов оба были женаты на Резвых.
[Закрыть]; но, кажется, слишком я несчастлив, чтобы могло это средство послужить в пользу. Однако же, невзирая на все предузнания, должно все испытать, чтобы не упрекнуть себя после. Ты начал сам делать мне сие, мало если скажу я вспоможение, но милости; тебе одному предоставлено сие усовершенствовать. Воспользуйся, любезный друг, сим верным случаем и напиши мне обратно: нужно ли необходимо употребить в действие сие единое средство? Ты можешь все писать без малейшего сумнения, и тогда примемся мы за дело. Или, может быть, нужно уже будет иметь терпение; если и так, то верь, что я много его имею и недостатком оного не можешь ты упрекнуть своего друга. Располагай по возможностям; я на одного тебя имею мою надежду и слишком я тебя знаю, чтобы мог сколько-нибудь усомниться; я с нетерпением ожидаю твоего ответа. Сделай мне сие удовольствие, которое одно я имею; не лиши меня оного и верь, что я полную цену ему дать умею»[260]260
На с. 680 «Русского вестника» 1863 г. Погодин говорит, что Ермолов наотрез отказался писать письма, тогда как на самом деле это было не так. Очевидно, что, рассказывая впоследствии, А. П. хотел замаскировать свои действия и выставить рельефнее свой характер. При этом должно заметить, что генерал Дамб не был женат на Резвой, как сказано на той же странице «Русского вестника».
[Закрыть].
Такое неутешительное положение Ермолова продолжалось три года. От нечего делать он принялся за изучение латинского языка, а впоследствии стал учиться играть на кларнете. Познакомившись с протоиереем Груздевым, он брал у него уроки латинского языка, читал и переводил Юлия Цезаря. Так проводил он время, не видя никакого исхода в своем положении. Со смертью императора Павла I, в первый день восшествия своего на престол, Александр I приказал освободить всех лиц, замешанных но делу Каховского. В числе освобожденных был и Алексей Петрович. Он приехал в Петербург, но уже совершенно чуждый и незнакомый петербургскому обществу, среди которого появились новые люди и новые интересы. Будучи прежде того вхож в дом В.И. Ламба, бывшего теперь президентом военной коллегии[261]261
Должность, которая, с образованием министерств, возложена на военного министра.
[Закрыть], Ермолов обратился прежде всего к нему. Генерал Ламб, при всем уважении к нему государя, первое время ничего не мог сделать в пользу Ермолова. Около двух месяцев Алексей Петрович ежедневно являлся в военной коллегии, «наскучив, – как сам выражался, – всему миру секретарей и писцов». Наконец, в июне 1801 г., Ермолов был принят тем же чином на службу в 8-й артиллерийский полк[262]262
Алексей Петрович в своих записках говорит (см. «Русский вестник», 1863 г., № 8, с. 681): «Мне отказан чин, хотя принадлежащий мне по справедливости; отказано старшинство в чине, конечно не с большею основательностию». Последнее несправедливо, и сказано едва ли не ради красного словца. Вот подлинное письмо генерала Ламба о зачислении Ермолова на службу:
«Милостивый государь мой Алексей Иванович (не Корсаков ли, бывший инспектором артиллерии), – писал Ламб 6 июня 1801 г. – Я сегодня имел счастие государю императору докладывать между прочим и о господине Ермолове. Не знаю, угодил ли я вам во всем, но что от меня зависело, то все я сделал как добрый человек. Его Величеству угодно было повелеть принять его в службу в 8-й артиллерийский полк, но только тем же чином. Как старшинство ни у кого не отнимается, то и нет сомнения, чтобы не получил он следующий чин при первом производстве, но до того времени надобно взять терпение. Я еще уверяю вас, что я поистине просил всеподданнейше о чине, но высочайшего соизволения на то не было».
[Закрыть] и получил роту, расположенную в Вильне.
Время, проведенное в ссылке, оставило свои следы, отразилось на характере Алексея Петровича. Он стал сосредоточен, задумчив и привык к уединению. «Я редко или почти никогда весел не бываю, сижу один дома, – писал он впоследствии своему другу Казадаеву[263]263
От 12 сентября 1802 г. из Вильны. Собрание писем Казадаева.
[Закрыть]. – Я сыскал себе славного учителя на кларнете и страшно надуваю и по-латыни упражняюсь».
Нравственная борьба и испытание закалили его сильный характер и развили в нем необычайную силу воли. Человек, при склонностях не совершенно дурных, испытавший несчастья, не мог быть нечувствительным к нуждам других. Имея от природы добрую душу и узнав на опыте всю беззащитность человека, не имеющего покровителей, Ермолов, до конца своих дней, остался лучшим ходатаем и защитником своих подчиненных. Он всегда хлопотал о том, чтобы представить службу их в истинном свете и наградить по заслугам. Подчиненные находили в Алексее Петровиче самого ревностного, смелого и правдивого защитника своих прав и достоинств.
«Ты не худо делаешь, что иногда пишешь ко мне, ибо я о заслугах других всегда кричать умею», – писал он Денису Давыдову. Будучи еще подполковником, командуя ротою, он поминутно просит то за фельдфебеля, то за рядового, принимает меры к улучшению их положения и, сознаваясь сам, что надоедает своими просьбами, все-таки шлет и следующее письмо с просьбою о подчиненных…
Вдали от Петербурга Ермолов жил весело и, имея приятную наружность, пользовался расположением многих особ прекрасного пола. Одна из местных девиц обращала на себя особенное внимание Алексея Петровича; но судьба не привела его вступить с нею в брак.
«Правда, она мне нравится, – писал он в одном из писем[264]264
К Казадаеву от 25 февраля.
[Закрыть], – но это до 1 апреля, ибо теперь совершенно делать нечего, а тогда начнутся ученья и должно будет ими заняться».
И действительно, мучимый мыслию о повышении в чинах, он скоро забыл о своих любовных похождениях. Самолюбие и честолюбие его страдали. Алексей Петрович не мог свыкнуться с мыслию, что многие, моложе его по службе, благодаря постигшему его несчастью, обошли его и стали старшими в чине, из подчиненных и товарищей сделались или могли сделаться в будущем его начальниками.
«Что будет со сверхкомплектными подполковниками? – спрашивал он своего друга Казадаева. – Сделай милость объясни: будут ли они иметь роты на капитанском жалованье или будут получать по чину».
Ермолова особенно беспокоило то, что, будучи майором, он был в комплекте, а теперь, в чине подполковника, очутился сверх комплекта. Он просил выискать ему какую-нибудь комиссию, в которой можно бы было возвратить потери по службе, сделанные по несчастью, «а без того жестоко худо», писал он. Вопрос о старшинстве крайне беспокоил Алексея Петровича; он писал несколько писем к Казадаеву, прося его выслать ему список старшинства. «Итак, – писал он[265]265
К Казадаеву от 9 февраля 1802 г.
[Закрыть], – я теперь имею пустую выгоду быть первым подполковником… Ей-богу, больно столько времени быть в одном чине, и служба, имеющая для меня все приятности, иногда их теряет… Боюсь только, чтобы ты мне не упрекнул малодушием, но кто служа не ищет протесниться сквозь кучу обежавших?»
Не малодушие, а, напротив того, честолюбие понукало Ермолова выйти из такого положения, и он, не имея в виду ничего определенного, бросался из стороны в сторону. То хотел перейти в инженеры и сопровождать генерала Анрепа на Ионические острова, то хлопотал о переводе в казаки. Словом, просил отправить его куда-нибудь, выискать для него какой-нибудь подвиг, с тем чтобы выдвинуть его по службе и произвести в полковники, а «то заваляешься полуполковником, – писал он, – русская пословица: не все хлыстом, иногда и свистом – вот мое правило с давнего уже времени».
«Третья неделя, – пишет Ермолов[266]266
То же, от 8 марта, из Вильны.
[Закрыть], – как вижу я во сне беспрерывно, что очень недурно под каким-нибудь видом попасть в конную казацкую артиллерию, под маскою достойного офицера, нужного для исправления оной, а там две роты, и честолюбие заставляет желать таким лестным образом сделаться над оными фельдцейхмейстером. Богатая мысль! Донской атаман (Платов) мне приятель, по сходству некогда нашего положения; следовательно, если кому быть там, то мне всех приличнее. Страшная охота испытать все роды службы, на каждом шагу встретиться с счастием и, вопреки самому себе, может быть, ни на одном не воспользоваться. Положим, что все мои планы пустые, но однако же не невозможные; следовательно, любезнейший друг, сохрани сие про себя, а случая не пропускай. Я думаю, не найдется завидующих жизни на Дону; а мне, как склонному к уединению человеку, весьма прилично».
Хлопоты А.В. Казадаева о переводе Ермолова в казачью артиллерию не удались, и последний очень сожалел об этом. «Признаюсь тебе, – писал он[267]267
К Казадаеву, от 14 июня, из Вильны.
[Закрыть], – что я и в запорожцы идти не отказался бы; едва ли лестно служить теперь в артиллерии. Я желал бы ускользнуть, но не предвижу никаких возможностей, а еще менее людей к тому способствовать могущих. Терпение необходимо; может быть, не будет ли со временем случая употребить себя полезнее; надобно ожидать… Бывши первым или вторым в моем чине, еще на несколько лет удалился я от производства. Как слышно, многие из генералов останутся лишними, да сверх того миллионы полковников; и так нет надежды, чтобы когда-либо что получить можно. Одно утешение то, что наши чины гораздо реже, нежели генеральские».
Лихорадочное настроение Ермолова относительно производства было заглушено на некоторое время хлопотами по службе. Алексей Петрович стал деятельно заниматься своею ротою, подготовляя ее к смотру государя, проезжавшего через Вильну. В этот проезд император Александр I в первый раз обратил особенное внимание на Ермолова. Он остался исключительно доволен его ротою.
Всегда веселый, милостивый и приветливый, император Александр очаровывал всех, к кому обращался, и не было ни одного человека, кто бы не боготворил его. Он осматривал все, что было достойно его внимания, и, невзирая на краткость пребывания своего в Вильне, успел посетить больницы, в пользу которых пожаловал деньги и деревни.
«Осматривал войска, Капцевича легион и мою когорту, – писал Ермолов[268]268
А.В. Казадаеву от 16 июня.
[Закрыть], – изволил объявить мне благоволение сам лично, говорил со мною и два раза повторил: очень доволен как скорою пальбою, так и проворством движения. Приказал отменить некоторые маневры и изволил сказать, что о том прикажет Алексею Ивановичу (Корсакову?). Генерал-майору Маркову, Псковского полка, пожаловал перстень. Капцевича батальоном, как все единогласно говорят, был недоволен; мое ученье изволил смотреть около полутора часа, а его ни четверти, из которого более половины изволил говорить со мною. Капцевичу ничего (не пожаловал), и как мы в одном месте и я кажусь быть под его начальством, то и мне ничего – все возлагают на него, а государь и после изволил отозваться о конной артиллерии милостиво. Государь встречен был с восклицаниями; повсюду кричали «ура!», отпрягли лошадей и везли на себе карету; на бале изволил быть до трех часов утра, очень весел, а сколько милостив – описать не в состоянии».
Всякое известие о преобразовании в артиллерии, часто ложный слух, пущенный о перемене начальника, и тому подобные известия сильно беспокоили Алексея Петровича. Сознавая, что репутация его после ссылки недостаточно еще окрепла, он страшился за свою будущность и смотрел на все довольно мрачными глазами. Руководимый этою идеею, он в некоторых случаях выказывал юношескую робость и даже ребяческую боязнь. Вот один из подобных случаев. Офицер его роты, некто К**, проиграл 600 рублей казенных денег. Ермолов тотчас же арестовал его, взыскал деньги с выигравших и, уступив просьбам, а главное, «избегая случая сделать ему несчастье, сам собою испытавши, сколько тягостно переносить оное», он согласился не допосить о поступке офицера. Написав своему начальнику частное письмо, Ермолов рассказал поступок К** как он был и просил его перевести в другую роту, как человека, возбуждающего негодование своих товарищей. Совершенно неожиданно для всех, К** был переведен, по неспособности, в кизлярскую гарнизонную роту. Переведенный, будучи всегда аттестован отлично, обиделся тем, что его назвали неспособным, решился признаться и раскрыть свой поступок. Вот тут-то и проявилась вся трусливая боязнь Ермолова. К** передает ему письмо и просит представить по команде. Алексей Петрович, по честности своих правил и убеждений, не в силах был сделать несправедливость и отказать офицеру в принятии письма, но боялся взыскания за сокрытие преступления. Он начинает уговаривать К** не подымать дела; представляет ему, что через это ничего не выиграет, а может лишиться чинов, но К** остается непреклонен. Ермолов, по необходимости, принимает письмо, но сам не знает, как поступить с ним. «Все оборвется на мне, – пишет он, – для чего я скрыл его преступление и тотчас не донес по команде. Хотя во времена кроткого и милосердного государя нашего, чувствительность и добродушие не поставляются, конечно, в порок, но все я не буду прав, что довольствовался одним арестом, а не предал его суду».
После долгих размышлений он решается отправить письмо К**, при своем письме, к А.В. Казадаеву. Ермолов просит его протянуть свою руку помощи молодому офицеру, остановить перевод его в гарнизон, а перевести его в какой-нибудь другой батальон. Ходатайствуя за офицера, он, в сущности, ходатайствует за себя, из желания выгородить свою особу из неприятной истории. Алексей Петрович страшится за свою опрометчивость.
«Вот, любезный друг, каково быть добросердечным! Ищешь способов сделать добро, радуешься, сделав оное, способствовать другим поставляешь то первым долгом и благополучием, а в награду обращается то самому во вред и наконец кончится тем, что сам потерпишь и всего лишишься. Страшно боюсь я хлопот; трехлетнее несчастье сделало меня робким».
Через три дня Ермолов пишет новое письмо Казадаеву, в котором ходатайствует за К** и просит выгородить как-нибудь его от ответственности. Он утешает себя только мыслию, что поступок этот нарисует его в глазах каждого человеком, елико возможно избегавшим делать несчастье другому. Такое боязливое состояние Ермолова кончилось лишь тогда, когда К** согласился не подымать о себе дела, взять обратно письмо и, смирившись, ехать в кизлярский гарнизон. Усмирился К** – успокоился и Алексей Петрович, боявшийся вообще, чтобы, с переменою обстоятельств, не переменился и самый род его жизни; боявшийся, чтобы не пришлось ему выйти в отставку, несмотря на всю привязанность к службе.
«С давнего времени примечаю я, – жаловался Ермолов[269]269
Казадаеву, от 27 апреля 1803 г.
[Закрыть], – что для меня все идет напротив… Что делать! беспрерывные, случающиеся со мною перемены приучили сносить их, если не с удовольствием, по крайней мере с присутствием некоторого рассудка. Подождем последствий, что они нам покажут, или, лучше сказать, посидим у моря и пождем погоды».
Погода эта, казалось, наставала; слухи о скорой войне радовали Ермолова; он рассчитывал удвоить свое прилежание по службе, с тем чтобы, как выражается, с конца шпаги доставать померенное[270]270
Из письма Казадаеву, от 6 апреля 1804 г., из Вильны.
[Закрыть].
Так или иначе, было ли то предчувствие или нет, но Алексей Петрович в последующие кампании с лихвою возвратил потерянное. Принимая непосредственное участие во всех войнах, веденных в царствование императора Александра против французов, Ермолов быстро шел вперед и весьма скоро стал лично известен государю. Самою блистательною деятельностью его, эпохою популярности и известности, был, конечно, 1812 год. В этот год характер, способности и сила воли Алексея Петровича развернулись во всем величии. Пройдя военную школу под руководством Суворова, Кутузова, Барклая-де-Толли, имея отличное военное образование, здравый ум, понимающий вещи сразу, увлекательный дар слова и рыцарскую храбрость, Ермолов явился теперь на поле брани не учеником, а учителем многих старших его по службе.
Еще в течение войны 1806 и 1807 гг. Алексей Петрович составил себе известность храброго и замечательного военного человека. Будучи тогда только полковником, он приобрел такую славу и самостоятельность, что одного удостоверения его было достаточно для получения знаков ордена Св. Георгия. В продолжение этой войны он, можно сказать, создал артиллерийский строевой устав. Каждое действие Алексея Петровича в бою становилось потом тактическим правилом для артиллерии; он дал артиллерии практические правила построения батарей, что до того времени составляло весьма слабую сторону артиллерии[271]271
В. Ратч. «Артиллерийский журнал», 1861 г., № 1.
[Закрыть]. Солдаты, смотря на роту Ермолова, выезжавшую на позицию, и на храброго командира ее, бывшего всегда впереди, говаривали: «Напрасно француз порет горячку, Ермолов за себя постоит». Несмотря на то что Аракчеев был вначале одним из врагов Ермолова, последний получил рескрипт императора Александра с препровождением 100 рублей для раздачи нижним чинам его роты. До него очень немногие, в чине полковника, получали подобные рескрипты.
В таких случаях своей жизни Ермолов находил некоторый исход и удовлетворение своему необъятному честолюбию, которое заставляло его теперь хлопотать о приобретении общественного влияния и народной известности. Как человек недюжинный, выходивший из ряда обыкновенных смертных, он скоро достиг того и другого. Редко упоминаемый в реляциях, он сумел, однако, сделаться любимцем войска, кумиром молодых офицеров и рыцарем без страха и упрека для народа. Никто не мог воодушевить войска лучше Ермолова. Кутузов отдавал ему в этом должную справедливость, любил его и видел в нем своего питомца. Однажды, окруженный своим штабом, Кутузов смотрел с высоты на отступление французов. Глядя на Ермолова, как гнев небесный мчавшегося за неприятелем, – на своем боевом коне, фельдмаршал не без удовольствия указал на него окружающим.
– Еще этому орлу я полета не даю, – проговорил он.
Старик несколько раз повторял потом: «Il vise au commandement des armée»[272]272
Сей рожден повелевать армиями (фр.).
[Закрыть] – и это было безусловно справедливо.
Некоторые видят в поступках Ермолова неестественность характера, хитрость, затаенную мысль и желание Алексея Петровича передать свое имя потомству. Правда, для приобретения популярности в войске и между народом случалось, что он кривил душою, советовал, например, защищать Москву и не отдавать ее неприятелю без боя, тогда как сам хорошо видел, что драться под стенами ее нет никакой возможности; правда, он во многих случаях поступал с «обманцем», как выражался великий князь Константин Павлович, но все эти недостатки и, так сказать, темные стороны характера с излишком выкупались его увлекательным даром слова, гигантскою памятью, замечательным бескорыстием, решимостью, смелостью, находчивостью и неутомимою деятельностью.
Поступая с «обманцем», Ермолов имел настолько силы воли, чтобы самому сознаться в своем двуличии и искательстве популярности. «Не хочу, однако же, – говорит он, – защищать мнения моего (о необходимости и возможности сражения под Москвою), ибо оно было неосновательно, но, страшась упрека соотечественников, дал я голос атаковать неприятеля»[273]273
Записки Ермолова. См. «Русский вестник», 1863 г., № 9, с. 191.
[Закрыть].
Никто из упрекающих Ермолова в искательстве популярности, не откажется, конечно, стать на его место, но немногие сумеют достигнуть до того, до чего достиг Ермолов. Одного желания в этом случае недостаточно; трудно ввести в заблуждение и одного человека, а замаскировать свои поступки или представить свои действия в выгодном свете перед целым обществом, сословием или народом еще труднее. Чтобы подняться высоко в глазах народа, необходимы поступки и действия, выходящие из ряда обыкновенных. Успех Ермолова главнейшим образом заключался в том сознании, что не подчиненные созданы для начальника, а начальник для подчиненных; что не обстоятельства применяются к воле и желаниям человека, а человек должен применяться к ним. Кто успел применить к себе это простое правило, тот вправе рассчитывать на симпатию своих подчиненных. Усвоив себе это качество превосходно, Ермолов стал кумиром подчиненных, готовых с ним и за него в огонь и в воду. Он очаровывал своим обращением не только офицеров, но и всех тех, кто имел случай с ним сталкиваться. Скрытый за официальною славою и заслугами других, он стал на самом видном месте из всех героев 1812 г.
Часто те, которым приписана была слава успехов, действовали по совету Ермолова. Многие из начальников, не отличаясь особенным даром высших военных способностей и соображений, в присутствии Алексея Петровича, как бы озаренные особенным светом, блеснут своею распорядительностью и затем погружаются опять в прежнюю посредственность.
Отчего же это? Оттого, что при отступлении, например, от Пирны к Кульму князь Шаховской посылает своих ординарцев с донесениями и за приказаниями к принцу Евгению, тот отправляет их к графу Остерману, а этот к Алексею Петровичу. «Почему, для сокращения времени, – говорит Шаховской, – я стал прямо посылать их к нему и ни разу в том не раскаялся».
Могильное молчание реляций не могло уничтожить заслуг Ермолова, а, напротив того, послужило ему в пользу. Подвиги Алексея Петровича сделались достоянием устных рассказов, усиливавших его славу еще и потому, что воочию всех подчиненных ему не отдавали должной справедливости, и в глазах обожавшего его войска он являлся преследуемым несправедливостью и как бы жертвою. Устная молва сделала для Ермолова гораздо более, чем для очень многих сделали реляции и донесения главнокомандующего. Ермолов стал как бы представителем славы русского народа, и вот многие стали хлопотать о приобретении его портрета. В моем распоряжении находятся письма к отцу Ермолова, в которых просят выслать портрет Алексея Петровича. Старик был удивлен такими просьбами; на нем лучше всего оправдалась та неизменная истина, что о заслугах человека после всего узнают в родной семье.
«Обязательное и приятное письмо ваше, – писал Петр Алексеевич[274]274
Казадаеву, от 4 января 1814 г.
[Закрыть], – имел честь получить. Портрет, требуемый вами, был у меня миниатюрный, но когда меня обокрали, тогда и он украден. Есть еще у одного моего приятеля масляный, хотя не очень сходный. Я с сего же почтою писал к нему, чтобы его ко мне прислал, и как скоро получу, в угодность вашу к вам доставлю. Изволите писать, что вы к подлиннику привязаны… Прилепление ваше к нему разрисовало портрет его, ежели можно сказать, пристрастно».
«Подвигов героя вашего не видал я ни разу ни в реляциях, ни в газетах, которые наполнены генералами Винценгероде, Тетенборном, Чернышевым, Бенкендорфом и проч. и проч. Герой ваш был начальник штаба, потом командующий артиллериею, наконец дивизионным начальником, а теперь, благодаря Бога, опять корпусный командир. По привязанности вашей, вы возбудили господ граверов, и я крайне сожалеть буду, если они будут внакладе; не надеюсь, чтобы много было охотников разбирать оные портреты»[275]275
Впоследствии, когда портрет был уже издан, старик, получив один экземпляр его, был в восторге. «Примите, – писал он, – почтенный мой благодетель, живейшую мою благодарность за подарок. Вы бы не могли меня ничем облагодетельствовать, кроме сего подарка. Выгравирован прекрасно; искусство приносит честь художнику, но сходство меня удивило. Я знаю, что он не дает с себя снимать портрета, за что у нас и ссора бывала; чтобы украсть так сходство, это искусство удивительное…» (Письмо от 22 ноября 1817 г.).
[Закрыть].
Если, с одной стороны, Ермолов был популярен в армии и имел множество поклонников, то, с другой стороны, имел и множество врагов, преимущественно в высших слоях общества. Причиною тому был язык, неудержимый до колкости. Алексей Петрович еще в молодости, в чине полковника, не стеснялся в выражениях. На замечание, что лошади его роты дурны, он отвечал Аракчееву при многих посторонних: «к сожалению, ваше сиятельство, участь наша часто зависит от скотов»[276]276
«Русский вестник», 1864 г., № 5, с. 250.
[Закрыть]. Это возражение послужило поводом к нерасположению всесильного тогда инспектора артиллерии, весьма долго преследовавшего Алексея Петровича. Последний имел тот важный недостаток, по которому он не признавал подчиненности и чинопочитания: чем выше было поставлено лицо, с которым приходилось иметь дело Ермолову, тем сношения его с ним были более резки и колкости более ядовиты.
– Главнокомандующий (Барклай-де-Толли), – говорит сам Ермолов, – терпеливо выслушавший мое возражение, простил горячность, по незнанию моему обращаться с людьми, и я заметил, что он часто удивлялся, как я, дожив до лет моих, не перестал быть Кандидом!
Алексей Петрович постоянно видел в себе превосходство перед другими и потому почти всегда, обращаясь с старшими себя с презрением, осыпал их меткими остротами и замечаниями. Когда он был еще полковником, то один из генералов сказал: «Хоть бы его скорее произвели в генералы, авось он тогда будет обходительнее и вежливее с нами».
Однажды, во время кампании 1812 г., Барклай-де-Толли приказал образовать легкий отряд. Ермолов назначил Шевича начальником отряда, в состав которого вошли казаки, бывшие под начальством генерала Краснова. Шевич оказался моложе Краснова. Платов, как атаман, вступился за своего подчиненного и просил Ермолова разъяснить ему: давно ли старшего отдают под команду младшего, и притом в чужие войска?
– О старшинстве Краснова я знаю не более вашего, – отвечал Ермолов, – потому что из вашей канцелярии еще не доставлен список этого генерала, недавно к нам переведенного из черноморского войска. Я вместе с тем должен заключить из слов ваших, что вы почитаете себя лишь союзниками русского государя, но никак не подданными его.
Казаки обиделись таким ответом, и правитель дел атамана предлагал возражать Ермолову.
– Оставь Ермолова в покое, – отвечал Платов, – ты его не знаешь: он в состоянии с нами сделать то, что приведет наших казаков в сокрушение, а меня в размышление[277]277
«Русский вестник», 1863 г., № 9, с. 179.
[Закрыть].
Алексей Петрович сознавал в себе недостаток сдержанности. Он сам признавался, что порывчивость его характера – «верный признак недостатка во мне благоразумия, которому многие в жизни неприятности должны были научить меня и которому, во сто раз умноженные, знаю я, что не покорят». Сознавая свои ошибки тогда уже, когда сказанного нельзя было воротить, он сознавал также и то, что не в состоянии удержать себя от необузданной вспыльчивости и едкости.
Чем шире была деятельность Ермолова, тем на большее число лиц распространялись его остроты и тем больше он приобретал себе врагов. Генералы, носившие иностранные фамилии, и в особенности немцы, не терпели его, потому что он, с редким постоянством и ожесточением, преследовал их с самых юных лет и с первых дней службы. Граф Аракчеев, рекомендуя Ермолова в 1815 г. как человека, вполне достойного звания военного министра, сказал императору Александру в Варшаве:
– Армия наша, изнуренная продолжительными войнами, нуждается в хорошем военном министре; я могу указать вашему величеству на двух генералов, которые могли бы в особенности занять это место с большою пользою: графа Воронцова и Ермолова. Назначению первого, имеющего большие связи и богатства, всегда любезного и приятного в обществе и не лишенного деятельности и тонкого ума, возрадовались бы все, но ваше величество вскоре усмотрели бы в нем недостаток энергии и бережливости, какие нам в настоящее время необходимы. Назначение Ермолова было бы для многих весьма неприятно, потому что он начнет с того, что перегрызется со всеми; но его деятельность, ум, твердость характера, бескорыстие и бережливость его бы вполне впоследствии оправдали[278]278
Слова графа Платова, присутствовавшего при этом разговоре. См. Сочинения Дениса Давыдова, ч. II, издание четвертое, с. 88.
[Закрыть].
Так составилось мнение об Алексее Петровиче как о человеке неуживчивого характера; мнение это поддерживалось в высших слоях общества, и многие сторонились его, из боязни попасть на язык… Язык был причиною многих неудовольствий, перенесенных Ермоловым по службе, так что, на верху своей славы, он думал оставить службу, не представлявшую ему ничего приятного. В откровенном и дружеском письме к А.В. Казадаеву он хорошо сам рисует свое положение в армии и отношения к окружавшим его лицам. «Напрасно стал бы я искать извинений, – писал он[279]279
Письмо это без г., месяца и числа. По содержанию своему оно должно быть отнесено не ранее как к концу 1813 г. и носит на себе характеристичную пометку рукою Ермолова: «Прошу изодрать письмо».
[Закрыть], – в том, что не писал тебе. Скажу правду: пустого писать не хотел, а о деле не смел. Представился верный случай[280]280
Он отправил письмо со своим адъютантом, капитаном Поздеевым.
[Закрыть], и я душевно рад говорить с другом, от которого никогда не укрывал чувств моих.
Мы отдыхаем не после побед, не на лаврах – отдыхаем после горячего начала кампании. Перемирие положило на нас узы бездействия; скоро оно кончится, и нет сомнения, что действия начнутся с жестокостью. Многие думали, что перемирие сие поведет к миру. Обольщенные надеждою на содействие австрийцев мнили, что они дадут мир Европе. Дипломаты наши как неким очарованием уповали нас, но кажется, что нельзя уже обманываться, а остается только благодарить ловкость дипломатов за продолжительный обман. Австрийцы, кажется, уже не союзники нам. Наполеон господствует над ними страхом, над Францом II родством и законом, к которому привязан он с возможным малодушием.
Перемирие дало нам время усилить нашу и прусскую армии значительно, но я думаю, что Наполеон еще с большею пользою употребил время. Недавно еще верили мы, что когорты его не согласятся перейти Рейн, набраны будучи для внутренней отечества обороны; что не посмеют предстать перед лицо наше и что страх и ужас в сердце их. В Люцене встретили мы силы превосходные. Сражению дан был вид победы; но, поистине, она не склонилась ни на ту, ни на другую стороны. Мы остались на поле сражения и на другой день отступили. Армия прусская, потеряв много, имела нужду устроиться, и граф Витгенштейн не видал возможности противустать на другой день. Далее и далее, мы перешли Эльбу и перенесли с собою неудачи. Под Бауценом решились дать сражение. Многие полагали выгоднее отступить, в ожидании, что австрийцы начнут действовать и что неприятель, следуя за нами, удобнее даст им тыл свой. Многие из самого преследования неприятеля уразумевали, что Наполеон, без уверенности в австрийцах, не шел бы с такою дерзостию и так далеко. Бауценское сражение было плодом дерзости людей, счастием избалованных. Граф Витгенштейн желал его; Дибич, достойнейший и знающий офицер, поддерживал его мнение. Говорят, что Яшвиль уверял в необходимости сражения. Могущество Витгенштейна облекло Яшвиля в великую силу; государь приписывает ему сверхъестественные дарования и с удивлением говорит о нем; сказывают, что он был причиною сего сражения. Оно было не весьма кровопролитно; артиллерия играла главнейшую роль; атак было весьма мало или почти не было, а потому и потеря умеренная. Неприятель, искусным движением войск своих, может быть и превосходством сил, а более, думаю, Наполеон, поверхностью искусства и головы, растянул нас чрезвычайно и ударил на правое крыло, где Барклай-де-Толли, с известною храбростию и хладнокровием, не мог противиться.
На центре явились ужасные силы, и генерал Блюхер, опрокинутый, отступить должен был первый. Левое крыло наше, по слабости против его неприятеля, имело в продолжение целого дня успехи, но только отражало неприятеля, а никому не пришло в голову атаковать его и тем отвлечь от прочих пунктов, где мы были преодолеваемы. Я, с небольшим отрядом, стоял в центре, сменивши корпус Йорка, который послан был в подкрепление Блюхеру. Сей последний, отступая, завел за собою неприятеля в тыл мне. Я с одной стороны был уже окружен и вышел потому только, что счастие не устало сопровождать меня. За три часа до захождения солнца определено отступление армии, и в шесть часов не было никого уже на поле сражения. Остались три арьергарда, из которых находящийся в центре, самый слабейший, дан мне в команду. Я имел на руках 60 орудий артиллерии, должен был отпустить их и дать время удалиться. С особенным счастием исполнил сие; главнокомандующий с удивлением кричал о сем. Конечно, говорил государю, который и сам видел, где я находился, ибо сам дал мне команду и послал туда, но мне не сказано даже спасибо: не хотят видеть, что я сделал, и невзирая, что граф Витгенштейн говорит, что я подарил 60 орудий. Государь относит искусному распоряжению князя Яшвиля, что артиллерия не досталась в руки неприятеля. В люценском деле также многое приписано ему, хотя он командовал только двумя ротами артиллерии. Ему тотчас дана Александровская лента. Я был в должности начальника всей артиллерии, но и заметить не хотели, что я был в деле, хотя, сверх того, особенно был употреблен Витгенштейном.
Помню одно письмо твое, чувствительно меня тронувшее, в котором ты с сожалением говорил мне, что ни в одной реляции не было упомянуто обо мне. Письмо это раздирало сердце мое, ибо я полагал, что ты заключал обо мне как о человеке, уклонявшемся от опасностей. Нет, друг любезнейший, я не избегал их, но я боролся и с самим неприятелем, и с злодеями моими главной квартиры. И сии последние суть самые опаснейшие. Они поставили против меня слабого и низкой души покойного фельдмаршала; он уважал меня до смерти, но делал мне много вреда. Я, в оправдание мое, вкратце скажу тебе, что в нынешнюю войну я сделал. Ты, как друг мой, оцени труды мои и никому не говори ни слова.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?