Текст книги "История государства Российского"
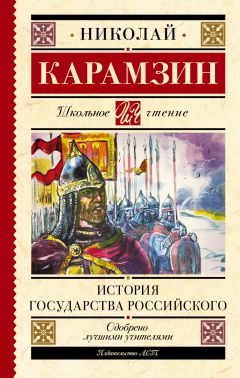
Автор книги: Николай Карамзин
Жанр: История, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 20 (всего у книги 22 страниц)
Но сия хитрость, не чуждая коварства, осталась бесплодною – от трех причин: 1) Ливонцы издревле страшились и не любили России; помнили историю Магнуса и видели еще следы Иоаннова свирепства в их отечестве; слушали наши обещания и не верили. Только некоторые из нарвских жителей, тайно сносясь с Борисом, умышляли сдать ему сей город; но, обличенные в сей измене, были казнены всенародно. 2) Мы имели лазутчиков, а Сигизмунд и Карл войско в Ливонии: могла ли она, если бы и хотела, думать о посольстве в Москву? 3) Густав лишился милости Бориса, который думал женить его на царевне Ксении с условием, чтобы он исповедовал одну веру с нею; но Густав не согласился изменить своему Закону, ни оставить любовницы, привезенной им с собою из Данцига; не хотел быть, как пишут, и слепым орудием нашей политики ко вреду Швеции; требовал отпуска и, разгоряченный вином, в присутствии Борисова медика Фидлера грозился зажечь Москву, если не дадут ему свободы выехать из России. Фидлер сказал о том боярину Семену Годунову, а боярин царю, который, в гневе отняв у неблагодарного и сокровища и города, велел держать его под стражею в доме; однако ж скоро умилостивился и дал ему вместо Калуги разоренный Углич. Густав (в 1601 году) снова был у царя, но уже не обедал с ним; удалился в свое поместье и там, среди печальных развалин, спокойно занимался химиею до конца Борисовой жизни. Неволею перевезенный тогда в Ярославль, а после в Кашин, сей несчастный принц умер в 1607 году, жалуясь на ветреность той женщины, которой он пожертвовал блестящею долею в России. Уединенную могилу его в прекрасной березовой роще на берегу Кашенки видели знаменитый шведский военачальник Иаков Делагарди и посланник Карла IX Петрей в царствование Шуйского.
Между тем мы имели случай гордостью отплатить Сигизмунду за уничижение, претерпенное Иоанном от Батория. Великий посол литовский канцлер Лев Сапега, приехав в Москву, жил шесть недель в праздности для того, как ему сказывали, что царь мучился подагрою. Представленный Борису (16 ноября 1600 [года]), Сапега явил условия, начертанные варшавским сеймом для заключения вечного мира с Россией: их выслушали, отвергли и еще несколько месяцев держали Сапегу в скучном уединении, так что он грозился сесть на коня и без дела уехать из Москвы. Наконец будто бы из уважения к милостивому ходатайству юного Борисова сына государь велел думным советникам заключить перемирие с Литвою на 20 лет. 11 марта (1601 года) написали грамоту, но не хотели именовать в ней Сигизмунда королем Швеции под лукавым предлогом, что он не известил ни Феодора, ни Бориса о своем восшествии на трон отцовский: в самом же деле мы пользовались случаем мести за старое упрямство Литвы называть государей российских единственно великими князьями и тем еще давали себе право на благодарность шведского властителя – право входить с ним в договоры как с законным монархом. Тщетно Сапега возражал, требовал, молил, даже со слезами, чтобы внести в грамоту весь титул королевский: ее послали к Сигизмунду для утверждения с боярином Михайлом Глебовичем Салтыковым и с думным дьяком Афанасием Власьевым, которые, невзирая на худое гостеприимство в Литве, успели в главном деле к чести двора московского. Сигизмунд предводительствовал тогда войском в Ливонии и звал их к себе в Ригу; они сказали: «Будем ждать короля в Вильне», – и поставили на своем; в глубокую осень жили несколько времени на берегах Днепра в шатрах; терпели холод и недостаток, но принудили короля ехать для них в Вильну, где начались жаркие прения. Литовские вельможи говорили Салтыкову и Власьеву: «Если действительно хотите мира, то признайте нашего короля шведским, а Эстонию собственностию Польши». Салтыков отвечал: «Мир вам нужнее, нежели нам. Эстония и Ливония собственность России от времен Ярослава Великого; а Шведским королевством владеет ныне герцог Карл: царь не дает никому пустых титулов». «… Карл есть изменник и хищник, – возражали паны, – государь ваш перестанет ли называться в титуле Астраханским или Сибирским, если какой-нибудь разбойник на время завладеет сими землями? Знатная часть Венгрии ныне в руках султана, но цесарь именуется венгерским, а король испанский иерусалимским». Убеждения остались без действия; но Сигизмунд, целуя крест пред нашими послами (7 января 1602 [года]) с обещанием свято хранить договор, примолвил: «Клянуся именем Божиим умереть с моим наследственным титулом короля шведского, не уступать никому Эстонии и в течение сего двадцатилетнего перемирия добывать Нарвы, Ревеля и других городов ее, кем бы они ни были заняты». Тут Салтыков выступил и сказал громко: «Король Сигизмунд! Целуй крест к великому государю Борису Феодоровичу по точным словам грамоты, без всякого прибавления – или клятва не в клятву!» Сигизмунд должен был переговорить свою речь, как требовал боярин и смысл грамоты. Следственно, в Москве и в Вильне политика российская одержала верх над литовскою: король уступил, ибо не хотел воевать в одно время и со шведами, и с нами; устоял только в отказе величать Бориса именем царя и самодержца, чего мы требовали и в Москве и в Вильне, но удовольствовались словом, что сей титул бесспорно будет дан королем Борису при заключении мира вечного. «Хорошо, – говорили паны, – и двадцать лет не лить христианской крови: еще лучше успокоить навсегда обе державы. Двадцать лет пройдут скоро; а кто будет тогда государем и в Литве и в России, неизвестно». Заметим еще обстоятельство достопамятное: послы московские, в день своего отпуска пируя во дворце королевском, увидели юного Сигизмундова сына, Владислава, и как бы в предчувствии будущего вызвались целовать у него руку: сей отрок семилетний, коему надлежало в возрасте юноши явиться столь важным действующим лицом в нашей истории, приветствовал их умно и ласково; встав с места и сняв с себя шляпу, велел кланяться царевичу Феодору и сказать ему, что желает быть с ним в искренней дружбе. Знатный боярин Салтыков и думный дьяк Власьев, который заменил Щелкалова в делах государственных, могли, храня в душе приятное воспоминание о юном Владиславе, вселить во многих россиян добрые мысли о сем действительно любезном королевиче. – Возвратясь, послы донесли Борису, что он может быть уверен в безопасности и тишине с литовской стороны на долгое время; что король и паны знают, видят силу России, управляемую столь мудрым государем, и, конечно, не помыслят нарушить договора ни в каком случае, внутренне славя миролюбие царя как особенную милость Божию к их отечеству.
Мы сказали, что правитель Швеции искал союза России: Борис, убеждая герцога не мириться с Сигизмундом, дозволял шведам идти из Финляндии к Дерпту через новгородское владение и хотел действовать вместе с ними для изгнания поляков из Ливонии. Королевские чиновники ездили в Москву, наши в Стокгольм с изъявлениями взаимного дружества. В знак чрезвычайного уважения к Борису герцог тайно спрашивал у него, исполнить ли ему волю чинов государственных и назваться ли королем шведским? Царь советовал исполнить и немедленно, для истинного блага Швеции, и тем заслужил живейшую признательность Карлову; советовал искренно, ибо безопасность России требовала, чтобы Литва и Швеция имели разных властителей. Но мы желали Нарвы, и для того хитрый царь (в феврале 1601 года) объявил шведским послам Карлу Гендрихсону и Георгию Клаусону, бывшим у нас в одно время с литовским канцлером Сапегою, что должно еще снова рассмотреть и торжественно утвердить мирную грамоту 1597 года, писанную от имени Феодорова и Сигизмундова: что она недействительна, ибо Сигизмунд не утвердил ее; что обстоятельства переменились и что сей король готов уступить нам часть Ливонии, если будем помогать ему в войне с герцогом. Послы удивились. «Мы заключили мир, – говорили они боярам, – не между Феодором и Сигизмундом, а между Швециею и Россиею, до скончания веков, именем Божиим, и добросовестно исполнили условия: отдали Кексгольм вопреки Сигизмундову несогласию. Нет, герцог Карл не поверит, чтобы царь думал нарушить обет, запечатленный целованием креста на Святом Евангелии. Если Сигизмунд уступает вам города в Ливонии, то уступает не свое: половина ее завоевана герцогом. И союз с Литвою надежен ли для царя? Прекратились ли споры о Киеве и Смоленске? Гораздо скорее можно согласить выгоды Швеции и России: главная их выгода есть мирное, доброе соседство. Не сам ли царь убеждал Карла не мириться с Сигизмундом? Мы воюем и берем города: что мешает вам также ополчиться и разделить Ливонию с нами?» Но Борис, с удовольствием видя пламя войны между герцогом и королем, не мыслил в ней участвовать, по крайней мере до времени; заключив перемирие с Литвою, медлил утвердить бескорыстный мир с Карлом; отпустил его послов ни с чем и, тайно склоняя жителей Эстонии изменить шведам, чтобы присоединиться к России, досаждал ему сим непрямодушием – но в то же время искренно доброхотствовал в войне Ливонской: ибо торжество Сигизмундово угрожало нам соединением шведской короны с польскою, а торжество Карлово разделяло их навеки. Борис первый из государей европейских и всех охотнее признал герцога королем Швеции и в сношениях с ним уже давал ему сие имя, когда и сам герцог еще назывался только правителем.
Новая, важная связь Борисова с наследственным врагом Швеции могла также беспокоить Карла. Известив соседственных и других венценосцев, императора, Елисавету о своем воцарении, Борис долго медлил оказать сию учтивость королю датскому, Христиану; но с 1601 года начались весьма дружелюбные сношения между ними. В одно время послы Христиановы, Эске Брок и Карл Бриске, отправились в Москву, а наши, знатный дворянин Ржевский и дьяк Дмитриев в Копенгаген, для взаимного приветствия и для разрешения старых, бесконечных споров о кольских и варгавских пустынях. Доказывая, что вся Лапландия принадлежала Норвегии, Христиан ссылался на «Историю» Саксона Грамматика и даже на Мюнстерову «Космографию»; говорил еще, что сами россияне издревле называют Лапландию Мурманскою или Норвежскою землею; а мы возражали, что она, без сомнения, наша, ибо в царствование Василия Иоанновича новгородский священник Илия крестил ее диких жителей, и еще утверждали сие право собственности следующею повестью, основанною на предании тамошних старцев: «Жил некогда в Кореле, или Кексгольме, знаменитый владетель именем Валит, или Варент, данник великого Новгорода, муж необычной храбрости и силы: воевал, побеждал и хотел господствовать над Лопью, или Мурманскою землею. Лопари требовали защиты соседственных норвежских немцев; но Валит разбил и немцев там, где ныне летний погост Варенгский и где он, в память векам, положил своими руками огромный камень, в вышину более сажени; сделал вокруг него твердую ограду в двенадцать стен и назвал ее Вавилоном: сей камень и теперь именуется Валитовым. Такая же ограда существовала на месте Кольского острога. Известны еще в земле Мурманской губа Валитова и городище Валитово среди острова или высокой скалы, где безопасно отдыхал витязь корельский. Наконец побежденные немцы заключили с ним мир, отдав ему всю Лопь до реки Ивгея. Долго славный и счастливый, Валит, именем христианским Василий, умер и схоронен в Кексгольме в церкви Спаса; лопари же с того времени платили дань Новгороду и царям московским». Сии исторические доводы с обеих сторон были не весьма убедительны, и датчане в знак миролюбия желали разделить Лапландию с нами вдоль или поперек на две равные части; а Борис из любви к Христиану уступал ему все земли за монастырем Печенским к северу, предоставляя датским и российским чиновникам на будущем съезде близ Колы означить границы обеих держав. Между тем возобновили договор о свободной торговле датских купцов в России; условились и в деле важнейшем.
Борис искал достойного жениха для прелестной царевны между европейскими принцами державного племени, чтобы таким союзом возвысить блеск своего дома в глазах бояр и князей российских, которые еще недавно видели Годуновых ниже себя: не успев в намерении отдать руку дочери вместе с Ливонией Густаву, сей нежный родитель и хитрый политик надеялся доставить счастие Ксении и выгоды государству супружеством ее с герцогом Иоанном, братом Христиановым, юношею умным и приятным, который подобно Густаву мог служить орудием наших властолюбивых замыслов на Эстонию, бывшую собственность Дании. Царь предложил, и король, не устрашенный судьбою Магнуса, обрадовался чести быть сватом знаменитого самодержца московского, в надежде его усердным вспоможением осилить враждебную Швецию. К сожалению, любопытные бумаги о сем сватовстве утратились: не знаем условий о вере, о приданом, ни других взаимных обязательств; но знаем, что Иоанн согласился жертвовать Ксении отечеством и быть удельным князем в России: не для того ли, чтобы в случае возможного несчастия, преждевременной кончины юного царевича трон московский имел наследников в семействе Борисовом? о чем, вероятно, думал царь дальновидный, с горячностью любя сына, но любя и мысль о непрерывном наследстве короны в течение веков для своего рода. Жених воевал тогда в Нидерландах под знаменами Испании: спешил возвратиться, сел на адмиральский корабль и вместе с пятью другими приплыл (10 августа 1602 [года]) к устью Наровы. Там ожидала гостя ладья царская, устланная бархатом, – и как скоро герцог ступил на землю Русскую, загремели пушки: боярин Михайло Глебович Салтыков и думный дьяк Власьев приветствовали его именем царя, – ввели в богатый шатер и поднесли ему 80 драгоценнейших соболей. В карете, блистающей золотом и серебром, Иоанн ехал в Ивангород мимо Нарвы, где развевались знамена на башнях и стенах, усеянных любопытными зрителями: так приветствовали его и шведы, внутренне опасаясь сего путешествия, коего цель они уже знали или угадывали.
Гораздо искреннее честили герцога в России. С ним были послы Христиановы, три сенатора (Гильденстерн, Браге и Гольк), восемь знатных сановников, несколько дворян, два медика, множество слуг: на каждом стане, в самых бедных деревнях, угощали их как бы во дворце московском; за обедом играла музыка. В городах стреляли из пушек; войско стояло в ружье, и чиновник за чиновником представлялись светлейшему королевичу. Ехали медленно, в день не более тридцати верст, через Новгород, Валдай, Торжок и Старицу. Путешественник не скучал; в часы роздыха гулял верхом или по рекам на лодках; забавлялся охотою, стрелял птиц; беседовал с боярином Салтыковым и дьяком Власьевым о России, желая знать ее государственные уставы и народные обыкновения. Послы Христиановы советовали ему не вдруг перенимать наши обычаи и держаться еще немецких: «Еду к царю, – говорил он, – затем, чтобы навыкать всему русскому». Будучи 1 сентября в Бронницах, Иоанн сказал Салтыкову: «Я знаю, что в сей день вы празднуете Новый год; что духовенство, синклит и двор ныне торжественно желают многолетия государю: еще не имею счастия видеть его лицо, но также усердно молюся, да здравствует», – спросил вина и стоя пил царские чаши вместе с московскими сановниками и датскими послами. Одним словом, Иоанн хотел любви Борисовой и любви россиян. Салтыков и Власьев писали к царю о здоровье и веселом нраве королевича; уведомляли обо всем, что он говорил и делал: даже о нарядах, о цвете его атласных кафтанов, украшенных золотыми или серебряными кружевами! Царь требовал сих подробностей – и высылал новые дары путешественнику: богатые ткани азиатские, шапки, низанные жемчугом, поясы и кушаки драгоценные, золотые цепи, сабли с бирюзою и с яхонтами. Наконец Иоанн изъявил нетерпение быть в Москве: ему ответствовали, что государь боялся спешною ездою утомить его – и поехали скорее. 18 сентября ночевали в Тушине, а 19-го приблизились к столице.
Не только воины и люди сановные, от членов синклита до приказных дьяков, но и граждане встретили герцога в поле. Выслушав ласковую речь бояр, он сел на коня и ехал Москвою при звуке огромного кремлевского колокола с датскими и российскими чиновниками. Ему отвели в Китайгороде лучший дом – и на другой день прислали обед царский: сто тяжелых золотых блюд с яствами, множество кубков и чаш с винами и медами. 28 сентября было торжественное представление. От дома Иоаннова до Красного крыльца стояли богато одетые воины; на площади Кремлевской граждане, немцы, литва, также в лучшем наряде. У крыльца встретили Иоанна князья Трубецкий и Черкасский, на лестнице Василий Шуйский и Голицын, в сенях первый вельможа Мстиславский с окольничими и дьяками. Царь и царевич были в Золотой палате, в бархатных порфирах, унизанных крупным жемчугом; в их коронах и на груди сияли алмазы и яхонты величины необыкновенной. Увидев герцога, Борис и Феодор встали, обняли его с нежностию, сели с ним рядом и долго беседовали в присутствии вельмож и царедворцев. Все смотрели на юного Иоанна с любовию, пленяясь его красотою: Борис уже видел в нем будущего сына. Обедали в Грановитой палате: царь сидел на золотом троне, за серебряным столом, под висящею над ним короною с боевыми часами, между Феодором и герцогом, уже причисленным к их семейству. Угощение заключилось дарами: Борис и Феодор сняли с себя алмазные цепи и надели на шею Иоанну; а царедворцы поднесли ему два ковша золотые, украшенные яхонтами, несколько серебряных сосудов, драгоценных тканей, английских сукон, сибирских мехов и три одежды русские. Но жених не видал Ксении, веря только слуху о прелестях ее, любезных свойствах, достоинствах и не обманываясь. Современники пишут, что она была среднего роста, полна телом и стройна; имела белизну млечную, волосы черные, густые и длинные, трубами лежащие на плечах, – лицо свежее, румяное, брови союзные, глаза большие, черные, светлые, красоты несказанной, особенно когда блистали в них слезы умиления и жалости; не менее пленяла и душою, кротостию, благоречием, умом и вкусом образованным, любя книги и сладкие песни духовные. Строгий обычай не дозволял показывать и такой невесты прежде времени; сама же Ксения и царица могли видеть Иоанна скрытно, издали, как думали его спутники. Обручение и свадьбу отложили до зимы, готовясь к тому вместо пиров молитвою: родители, невеста и брат ее поехали в лавру Троицкую… О сем пышном выезде царского семейства очевидцы говорят так:
«Впереди 600 всадников и 25 заводных коней, блистающих убранством, серебром и золотом; за ними две кареты: пустая царевичева, обитая алым сукном, и другая, обитая бархатом, где сидел государь: обе в 6 лошадей; первую окружали всадники, вторую пешие царедворцы. Далее ехал верхом юный Феодор; коня его вели знатные чиновники. Позади бояре и придворные. Многие люди бежали за царем, держа на голове бумагу: у них взяли сии челобитные и вложили в красный ящик, чтобы представить государю. Чрез полчаса выехала царица в великолепной карете; в другой, со всех сторон закрытой, сидела царевна: первую везли десять белых коней, вторую восемь. Впереди 40 заводных лошадей и дружина всадников, мужей престарелых, с длинными седыми бородами; сзади 24 боярыни на белых конях. Вокруг шли 300 приставов с жезлами». – Там, в обители тишины и святости, Борис с супругою и с детьми девять дней молился над гробом св. Сергия, да благословит Небо союз Ксении с Иоанном.
Между тем жениха ежедневно честили царскими обедами в его доме; присылали ему бархаты, объяри, кружева для русской одежды, прислали и богатую постелю, белье, шитое серебром и золотом. Он с ревностию хотел учиться нашему языку и даже переменить веру, как пишут, чтобы исповедовать одну с будущею супругою; вообще вел себя благоразумно и всем нравился любезностию в обхождении. Но чего искренно желали и россияне и датчане – о чем молились родители и невеста, – то не было угодно Провидению… На возвратном пути из лавры, 16 октября, в селе Братовщине государь узнал о внезапной болезни жениха. Иоанн еще мог писать к нему и прислал своего чиновника, чтобы его успокоить. Недуг усиливался беспрестанно: открылась жестокая горячка; но медики, датские и Борисовы, не теряли надежды: царь заклинал их употребить все искусство, обещая им неслыханные милости и награды. 19 октября посетил Иоанна юный Феодор, 27-го сам государь вместе с патриархом и боярами; увидел его слабого, безгласного; ужаснулся и с гневом винил тех, которые таили от него опасность. На другой день, ввечеру, он нашел герцога уже при смерти; плакал, крушился; говорил: «Юноша несчастный! Ты оставил мать, родных, отечество и приехал ко мне, чтобы умереть безвременно!» Еще желая надеяться, государь дал клятву освободить 4000 узников в случае Иоаннова выздоровления и просил датчан молиться Богу с усердием. Но в 6 часов сего же вечера, 28 октября, пресеклись цветущие дни Иоанновы на двадцатом году жизни… Не только семейство царское, датчане, немцы, но и весь двор, все жители столицы были в горести. Сам Борис пришел к Ксении и сказал ей: «Любезная дочь! Твое счастие и мое утешение погибло!» Она упала без чувства к ногам его… Велели оказать всю должную честь умершему. Отворили казну царскую для бедных вдов и сирот; питали нищих в доме, где скончался Иоанн; к телу приставили знатных чиновников; запретили его анатомить и вложили в деревянную гробницу, наполненную ароматами, а после в медную и еще в дубовую, обитую черным бархатом и серебром, с изображением креста в середине и с латинскою надписью о достоинствах умершего, о благоволении к нему царя и народа российского, об их печали неутешной. В день погребения, 25 ноября, Борис простился с телом, обливаясь слезами, и ехал за ним в санях Китай-городом до Белого. Гроб везли на колеснице под тремя черными знаменами с гербами Дании, мекленбургским и голштейнским; на обеих сторонах шли воины царской дружины, опустив вниз острие своих копий; за колесницею бояре, сановники и граждане – до слободы Немецкой, где в новой церкви аугсбургского исповедания схоронили тело Иоанново в присутствии московских вельмож, которые плакали вместе с датчанами, хотя и не разумели умилительной надгробной речи, в коей герцогов пастор благодарил их за сию чувствительность…
Вероятно ли сказание нашего летописца, что Борис внутренне не жалел о смерти Иоанна, будто бы завидуя общей к нему любви россиян и страшась оставить в нем совместника для юного Феодора; что медики, узнав тайную мысль царя, не смели излечить больного? Но царь хотел, чтобы россияне любили его нареченного зятя: для того советовал ему быть приветливым и следовать нашим обычаям; хотел, без сомнения, и счастия Ксении; давал сим браком новый блеск, новую твердость своему дому и не мог переменить мыслей в три недели: устрашиться, чего желал; видеть, чего не предвидел, и вверить столь гнусную тайну зла придворным врачам-иноземцам, коих он по смерти Иоанновой долго не пускал к себе на глаза и которые лечили герцога вместе с его собственными, датскими врачами. Свидетели сей болезни, чиновники Христианова двора, издали в свет ее верное описание, доказывая, что все способы искусства, хотя и без успеха, были употреблены для спасения Иоаннова. Нет, Борис крушился тогда без лицемерия и чувствовал, может быть, казнь Небесную в совести, готовив счастие для милой дочери и видя ее вдовою в невестах; отвергнул украшения царские, надел ризу печали и долго изъявлял глубокое уныние… Все, чем дарили герцога, было послано в Копенгаген; всех Иоанновых спутников отпустили туда с новыми щедрыми дарами; не забыли и последнего из служителей. Борис писал к Христиану, что Россия остается в неразрывном дружестве с Данией; оно действительно не разорвалось, как бы утверждаемое для обоих государств печальным воспоминанием о судьбе юного герцога, коего тело было перевезено в Рошильд, долго лежав под сводом московской лютеранской церкви. В честь Иоанновой памяти Борис дал колокола сей церкви и дозволил звонить в них по дням воскресным.
Но печаль не мешала Борису ни заниматься делами государственными с обыкновенною ревностию, ни думать о другом женихе для Ксении: около 1604 года послы наши снова были в Дании и содействием Христиановым условились с герцогом шлезвигским Иоанном, чтобы один из его сыновей, Филипп, ехал в Москву жениться на царевне и быть там удельным князем. Сие условие не исполнилось единственно от тогдашних бедственных обстоятельств нашего отечества.
Сношения России с Австрией были, как и в Феодорово время, весьма дружелюбны и не бесплодны. Думный дьяк Власьев (в июне 1599 года), посланный к императору с известием о Борисовом воцарении, сел на лондонский корабль в устье Двины и вышел на берег в Германии: там, в Любеке и в Гамбурге, знатнейшие граждане встретили его с великою ласкою, с пушечною стрельбою и музыкою, славя уже известную милость Борисову к немцам и надеясь пользоваться новыми выгодами торговли в России. Рудольф, изгнанный моровым поветрием из Праги, жил тогда в Пильзене, где Власьев имел переговоры с австрийскими министрами, уверяя их, что наше войско уже шло на турков, но что Сигизмунд заградил оному в литовских владениях путь к Дунаю; что царь как истинный брат христианских монархов и вечный недруг оттоманов убеждает шаха и многих иных князей азийских действовать усильно против султана и готов самолично идти на крымцев, если они будут помогать туркам; что мы непрестанно внушаем литовским панам утвердить союз с императором и с нами возведением Максимилиана на трон Ягеллонов; что миролюбивый Борис не усомнится даже и воевать для достижения сей цели, если император когда-нибудь решится отмстить Сигизмунду за бесчестие своего брата. Рудольф изъявил благодарность, но требовал от нас не людей, а золота для войны с Магометом III, желая только, чтобы мы смирили хана. «Император, – говорили его министры, – любя царя, не хочет, чтобы он подвергал себя опасности личной в битвах с варварами: у вас много воевод мужественных, которые легко могут и без царя унять крымцев: вот главное дело! Если угодно Небу, то корона польская при добром содействии великодушного царя не уйдет от Максимилиана; но теперь не время умножать число врагов». И мы, конечно, не думали действовать мечом для возведения Максимилиана на трон польский: ибо Сигизмунд, уже враг Швеции, был для нас не опаснее австрийского князя в венце Ягеллонов; не думали, вопреки уверениям Власьева, ратоборствовать и с султаном без необходимости: но, предвидя оную – зная, что Магомет злобится на Россию и действительно велит хану опустошать ее владения, – Борис усердно доброхотствовал Австрии в войне с сим недругом христианства. От 1598 до 1604 года были у нас разные австрийские чиновники и знатный посол барон Логау; а думный дьяк Власьев вторично ездил к императору в 1603 году. Не имеем сведений об их переговорах; известно только, что царь вспомогал казною Рудольфу, удерживал Казы-Гирея от новых впадений в Венгрию и старался утвердить дружество между императором и шахом персидским, к коему ездили австрийские посланники через Москву и который славно мужествовал тогда против оттоманов. Но знаменитый Аббас, ласково поздравив Бориса царем, изъявляя готовность заключить с ним тесный союз, а для него и с императором – отправив (в 1600 году) посланника Исеналея через Колмогоры в Австрию, в Рим, к королю испанскому – и в знак особенной любви прислав к своему брату московскому с вельможею Лачин-беком (в августе 1603 года) златой трон древних государей персидских, вдруг оказался нашим недругом за бедную Грузию: не спорив с Феодором, не споря с Борисом о праве именоваться ее верховным государем, хотел также бесспорно властвовать над нею и стиснул ее, как слабую жертву, в своих руках кровавых.
Царь Александр не преставал жаловаться в Москве на бедственную долю Иверии. Послы его так говорили боярам: «Мы плакали от неверных и для того отдалися головами царю православному, да защитит нас; но плачем и ныне. Наши домы, церкви и монастыри в развалинах, семейства в плену, рамена под игом. То ли вы нам обещали? И неверные смеются над христианами, спрашивая: где же щит царя Белого? где ваш заступник?» Борис велел напомнить им о походе князя Хворостинина, с коим должно было соединиться их войско и не соединилось; однако ж послал в Иверию [в 1601 г.] двух сановников, Нащокина и Леонтьева, узнать все обстоятельства на месте и с терскими воеводами условиться в мерах для ее защиты. Там сделалась перемена. Во время тяжкой болезни Александровой сын его Давид объявил себя властителем; отец выздоровел, но сын уже не хотел возвратить ему знаков державства: царской хоругви, шапки и сабли с поясом. Сего мало: он злодейски умертвил всех ближних людей Александровых. Тогда несчастный отец, прибежав раздетый и босой в церковь, рыдая, захлипаясь от слез, всенародно предал сына анафеме и гневу Божию, который действительно постиг изверга: Давид во внезапной, мучительной болезни испустил дух, и посланники наши возвратились с известием, что Александр снова царствует в Иверии, но недостоин милости государевой, будучи усердным рабом султана и дерзая укорять Бориса алчностью к дарам. «Мне ли, – сказал царь с негодованием, – мне ли прельщаться дарами нищих, когда могу всю Иверию наполнить серебром и засыпать золотом?» Он не хотел было видеть нового посла иверского, архимандрита Кирилла; но сей умный старец ясно доказал, что Нащокин и Леонтьев оклеветали Александра; сделал еще более: умолил государя не казнить их и дал ему мысль для будущего верного соединения Грузии с Россией построить каменную крепость в Тарках, месте неприступном, изобильном и красивом – другую на Тузлуке, где большое озеро соляное, много серы и селитры, – а третью на реке Буйнаке, где некогда существовал город, будто бы Александром Македонским основанный и где еще стояли древние башни среди садов виноградных.
Для сего предприятия немаловажного государь избрал двух знатных воевод, окольничих Бутурлина и Плещеева, которые должны были, взяв полки в Казани и в Астрахани, действовать вместе с терскими воеводами и ждать к себе вспомогательной рати иверской, клятвенно обещанной послом от имени Александра. Не теряли времени и не жалели денег, выдав из казны не менее трехсот тысяч рублей на издержки похода, столь отдаленного и трудного. Войско, довольно многочисленное, выступило с берегов Терека (в 1604 году) к Каспийскому морю и видело единственно тыл неприятеля. Шавкал, уже старец ветхий, лишенный зрения, бежал в ущелья Кавказа, и россияне заняли Тарки. Нельзя было найти лучшего места для строения крепости: с трех сторон высокие скалы могли служить ей вместо твердых стен; надлежало укрепить только отлогий скат к морю, покрытый лесом, садами и нивами; в горах били ключи и наделяли жителей, посредством многих труб, свежею водою. Там, на высоте, где стоял дворец Шавкалов с двумя башнями, россияне немедленно начали строить стену, имея все для того нужное: лес, камень, известь; назвали Тарки Новым городом; заложили крепость и на Тузлуке. Одни работали, другие воевали, до Андрии, или Эндрена, и Теплых Вод не встречая важного сопротивления; пленили людей в селениях, брали хлеб, отгоняли табуны и стада, но боялись недостатка в съестных припасах: для того в глубокую осень Бутурлин послал тысяч пять воинов зимовать в Астрахань; к счастию, они шли бережно: ибо сыновья Шавкаловы и кумыки ждали их в пустынях, напали смело, сражались мужественно целый день, а ночью бежали, оставив на месте 3000 убитых. О сем кровопролитном деле писали воеводы в Москву и к царю иверскому, ожидая его войска по крайней мере к весне, чтобы очистить все горы от неприятеля, совершенно овладеть Дагестаном и беспрепятственно строить в нем новые крепости. Но не было слуха о вспомогательной рати, ни вестей из несчастной Грузии. Александр уже не обманывал России: он погиб, и за нас!
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































