Текст книги "История государства Российского"
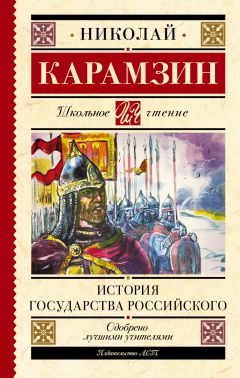
Автор книги: Николай Карамзин
Жанр: История, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 19 (всего у книги 22 страниц)
Том одиннадцатый
Глава I
Царствование Бориса Годунова (1598–1604)
Духовенство, синклит и чины государственные, с хоругвями церкви и отечества, при звуке всех колоколов московских и восклицаниях народа, упоенного радостию, возвратились в Кремль, уже дав самодержца России, но еще оставив его в келии. 26 февраля [1598 г.], в неделю Сыропустную, Борис въехал в столицу: встреченный перед стенами деревянной крепости всеми гостями московскими с хлебом, с кубками серебряными, золотыми, соболями, жемчугом и многими иными дарами царскими, он ласково благодарил их, но не хотел взять ничего, кроме хлеба, сказав, что богатство в руках народа ему приятнее, нежели в казне. За гостями встретили царя Иов и все духовенство; за духовенством синклит и народ. В храме Успения отпев молебен, патриарх вторично благословил Бориса на государство, осенив крестом Животворящего Древа, и клиросы пели многолетие как царю, так и всему дому державному: царице Марии Григориевне, юному сыну их Феодору и дочери Ксении. Тогда здравствовали новому монарху все россияне; а патриарх, воздев руки на небо, сказал: «Славим Тебя, Господи: ибо Ты не презрел нашего моления, услышал вопль и рыдание христиан, преложил их скорбь на веселие и даровал нам царя, коего мы денно и нощно просили у Тебя со слезами!» После литургии Борис изъявил благодарность к памяти двух главных виновников его величия: в храме Св. Михаила пал ниц пред гробами Иоанновым и Феодоровым; молился и над прахом древнейших знаменитых венценосцев России: Калиты, Донского, Иоанна III, да будут его небесными пособниками в земных делах царства; зашел во дворец; посетил Иова в обители Чудовской; долго беседовал с ним наедине; сказал ему и всем епископам, что не может до Светлого Христова Воскресения оставить Ирины в ее скорби, и возвратился в Новодевичий монастырь, предписав Думе боярской с его ведома и разрешения управлять делами государственными.
Между тем все люди служивые с усердием целовали крест в верности к Борису, одни пред славною Владимирскою иконою Девы Марии, другие у гроба святых митрополитов Петра и Ионы: клялись не изменять царю ни делом, ни словом; не умышлять на жизнь или здравие державного, не вредить ему ни ядовитым зелием, ни чародейством; не думать о возведении на престол бывшего великого князя тверского Симеона Бекбулатовича или сына его; не иметь с ними тайных сношений, ни переписки; доносить о всяких скопах и заговорах без жалости к друзьям и ближним в сем случае; не уходить в иные земли: в Литву, Германию, Испанию, Францию или Англию. Сверх того бояре, чиновники думные и посольские обязывались быть скромными в делах и тайнах государственных, судии не кривить душою в тяжбах, казначеи не корыстоваться царским достоянием, дьяки не лихоимствовать. Послали в области грамоты известительные о счастливом избрании государя, велели читать их всенародно, три дня звонить в колокола и молиться в храмах сперва о царице-инокине Александре, а после о державном ее брате, семействе его, боярах и воинстве. Патриарх (9 марта) Собором уставил торжественно просить Бога, да сподобит царя благословенного возложить на себя венец и порфиру; уставил еще на веки веков праздновать в России 21 февраля, день Борисова воцарения; наконец, предложил Думе земской утвердить данную монарху присягу соборную грамотою с обязательством для всех чиновников не уклоняться ни от какой службы, не требовать ничего свыше достоинства родов или заслуги, всегда и во всем слушаться указа царского и приговора боярского, чтобы в делах разрядных и земских не доводить государя до кручины. Все члены Великой думы ответствовали единогласно: «Даем обет положить свои души и головы за царя, царицу и детей их!» Велели писать хартию в таком смысле первым грамотеям России.
Сие дело чрезвычайное не мешало течению обыкновенных дел государственных, коими занимался Борис с отменною ревностию и в кельях монастыря, и в Думе, часто приезжая в Москву. Не знали, когда он находил время для успокоения, для сна и трапезы: беспрестанно видели его в совете с боярами и с дьяками или подле несчастной Ирины, утешающего и скорбящего днем и ночью. Казалось, что Ирина действительно имела нужду в присутствии единственного человека, еще милого ее сердцу: сраженная кончиною супруга, искренно и нежно любимого ею, она тосковала и плакала неутешно до изнурения сил, очевидно угасая и нося уже смерть в груди, истерзанной рыданиями. Святители, вельможи тщетно убеждали царя оставить печальную для него обитель, переселиться с супругою и с детьми в кремлевские палаты, явить себя народу в венце и на троне: Борис ответствовал: «Не могу разлучиться с великою государынею, моею сестрою злосчастною», – и даже снова, неутомимый в лицемерии, уверял, что не желает быть царем. Но Ирина вторично велела ему исполнить волю народа и Божию, приять скипетр и царствовать не в келии, а на престоле Мономаховом. Наконец, апреля 30, подвиглась столица во сретение государю!
Сей день принадлежит к торжественнейшим дням России в ее истории. В час утра духовенство с крестами и с иконами, синклит, двор, приказы, воинство, все граждане ждали царя у каменного моста, близ церкви Св. Николая Зарайского. Борис ехал из Новодевичьего монастыря со своим семейством в великолепной колеснице; увидев хоругви церковные и народ, вышел: поклонился святым иконам; милостиво приветствовал всех, и знатных и незнатных; представил им царицу, давно известную благочестием и добродетелию искреннею, – девятилетнего сына и шестнадцатилетнюю дочь, ангелов красотою. Слыша восклицания народа: «Вы наши государи, мы ваши подданные», Феодор и Ксения вместе с отцом ласкали чиновников и граждан; так же, как и он, взяв у них хлеб-соль, отвергнули золото, серебро и жемчуг, поднесенные им в дар, и звали всех обедать к царю. Невозбранно теснимый бесчисленною толпою людей, Борис шел за духовенством с супругою и с детьми, как добрый отец семейства и народа, в храм Успения, где патриарх возложил ему на грудь Животворящий крест св. Петра митрополита (что было уже началом царского венчания) и в третий раз благословил его на великое государство Московское. Отслушав литургию, новый самодержец, провождаемый боярами, обходил все главные церкви кремлевские, везде молился с теплыми слезами, везде слышал радостный клик граждан и, держа за руку своего юного наследника, а другою ведя прелестную Ксению, вступил с супругою в палаты царские. В сей день народ обедал у царя: не знали числа гостям, но все были званые, от патриарха до нищего. Москва не видала такой роскоши и в Иоанново время. – Борис не хотел жить в комнатах, где скончался Феодор: занял ту часть кремлевских палат, где жила Ирина, и велел пристроить к ним для себя новый дворец деревянный.
Он уже царствовал, но еще без короны и скипетра; еще не мог назваться царем Боговенчанным, помазанником Господним. Надлежало думать, что Борис немедленно возложит на себя венец со всеми торжественными обрядами, которые в глазах народа освящают лицо властителя: сего требовали патриарх и синклит именем России; сего, без сомнения, хотел и Борис, чтобы важным церковным действием утвердить престол за собою и своим родом: но, хитрым умом властвуя над движениями сердца, вымыслил новое очарование; вместо скипетра взял меч в десницу и спешил в поле доказать, что безопасность отечества ему дороже и короны, и жизни. Так царствование самое миролюбивое началось ополчением, которое приводило на память восстание россиян для битвы с Мамаем!
Еще в марте месяце из кельи Новодевичьего монастыря отправив гонца к хану с дружественным письмом, Борис 1 апреля сведал, по донесению воеводы Оскольского, что пленник, взятый казаками за Донцом в сшибке с толпою крымских разбойников, говорит о намерении Казы-Гирея вступить в пределы московские со всею Ордою и с семью тысячами султанских воинов. Борис не усомнился в истине столь малодостоверного известия и решился, не теряя времени, двинуть всю громаду наших сил к берегам Оки; писал о том к воеводам убедительно и ласково, требуя от них ревности в первой, важной опасности его царствования, в доказательство любви к нему и к России. Сей указ произвел удивительное действие: не было ни ослушных, ни ленивых; все дети боярские, юные и престарелые, охотно садились на коней; городские и сельские дружины без отдыха спешили к местам сборным. Главному стану назначили быть в Серпухове, правой руке в Алексине, левой в Кашире, передовому полку в Калуге, сторожевому в Коломне. – 20 апреля пришли новые вести: писали из Белгорода, что татарин, схваченный донскими казаками на перевозе, сказывал им о сильном вооружении хана; что толпы крымские, хотя и малочисленные, показались в степях и гонят везде наших стражей. Тогда Борис велел все изготовить для похода царского и 2 мая выехал из Москвы в ратном доспехе, взяв с собою пять царевичей: киргизского, сибирского, шамахинского, хивинского и сына Кайбулина, бояр, князей Мстиславского, Шуйских, Годуновых, Романовых и других, – многих знатных сановников, и между ними Богдана Бельского, – печатника Василия Щелкалова, дворян и дьяков думных, 44 стольника, 20 стряпчих, 274 жильца – одним словом, всех людей нужных и для войны, и для совета, и для пышности дворской. В Москве остался, при царицах инокине Александре и Марии, юный Феодор с боярами Дмитрием Ивановичем Годуновым, князьями Трубецким, Глинским, Черкасским, Шестуновым и другими; а при Феодоре дядька Иван Чемоданов. Сделали распоряжение в столице и на случай осады ее: назначили воевод для защиты стен и башен, для отъездов, вылазок и битв вне укреплений. 10 мая в селе Кузминском представили царю двух пленников, литовского и цесарского, ушедших из Крыма: они уверяли, что хан уже в поле и действительно идет на Москву. Тогда Борис послал гонцов ко всем начальникам степных крепостей с милостивым словом: в Тулу, Оскол, Ливны, Елец, Курск, Воронеж; сим гонцам велено было спросить о здравии как воевод, так и дворян, сотников, детей боярских, стрельцов и казаков; вручить грамоты царские первым и требовать, чтобы они читали их всенародно. «Я стою на берегу Оки (писал Борис) и смотрю на степи: где явятся неприятели, там и меня увидите». В Серпухове он распорядил воеводство, дав почетное царевичам, а действительное пяти князьям знатнейшим: в главной рати Мстиславскому, в правой руке Василию Шуйскому, в левой Ивану Голицыну, в передовом полку Дмитрию Шуйскому, в сторожевом Тимофею Трубецкому. Оградою древней России в случае ханских впадений служили, сверх крепостей, засеки в местах, трудных для обхода: близ Перемышля, Лихвина, Белева, Тулы, Боровска, Рязани; государь рассмотрел чертежи их и послал туда особенных воевод с мордвою и стрельцами; устроил еще плавную, или судовую, рать на Оке, чтобы тем более вредить неприятелю в битвах на берегах ее. Видели, чего не видали дотоле: полмиллиона войска, как уверяют, в движении стройном, быстром, с усердием несказанным, с доверенностию беспредельною. Все действовало сильно на воображение людей: и новость царствования, благоприятная для надежды, и высокое мнение о Борисовой, уже долговременными опытами изведанной мудрости. Исчезло самое местничество: воеводы спрашивали только, где им быть, и шли к своим знаменам, не справляясь с Разрядными книгами о службе отцов и дедов: ибо царь объявил, что Великий Собор бил ему челом предписать боярам и дворянству службу без мест. Сия ревность, способствуя нужному повиновению, имела и другое важное следствие: умножила число воинов, и воинов исправных: дворяне, дети боярские выехали в поле на лучших конях, в лучших доспехах, со всеми слугами, годными для ратного дела, к живейшему удовольствию царя, который не знал меры в изъявлениях милости: ежедневно смотрел полки и дружины, приветствовал начальников и рядовых, угощал обедами, и всякий раз не менее десяти тысяч людей, на серебряных блюдах, под шатрами. Сии истинно царские угощения продолжались шесть недель: ибо слухи о неприятеле вдруг замолкли; разъезды наши уже не встречали его; тишина царствовала на берегах Донца, и стражи, нигде не видя пыли, нигде не слыша конского топота, дремали в безмолвии степей. Ложные ли слухи обманули Бориса или он притворным легковерием обманул Россию, чтобы явить себя царем не только Москвы, но и всего воинства, воспламенить любовь его к новому самодержцу, в годину опасности предпочитающему бранный шлем венцу Мономахову, и тем удвоить блеск своего торжественного воцарения? Хитрость, достойная Бориса и едва ли сомнительная. – Вместо тучи врагов явились в южных пределах России мирные послы Казы-Гиреевы с нашим гонцом: елецкие воеводы 18 июня донесли о том Борису, который наградил вестника деньгами и чином.
Следственно, ополчение беспримерное, стоив великого иждивения и труда, оказалось напрасным? Уверяли, что оно спасло государство, поразив хана ужасом; что крымцы шли действительно, но, узнав о восстании России, бежали назад. По крайней мере, царь хотел впечатлеть ужас в послов ханских, из коих главным был мурза Алей: они въехали в Россию как в стан воинский; видели на пути блеск мечей и копий, многолюдные дружины всадников, красиво одетых, исправно вооруженных; в лесах, в засеках слышали оклики и пальбу. Их остановили близ Серпухова, в семи верстах от царских шатров, на лугах Оки, где уже несколько дней сходилась рать отовсюду. Там 29 июня, еще до рассвета, загремели сто пушек, и первые лучи солнца осветили войско несметное, готовое к битве. Велели крымцам, изумленным сею ужасною стрельбою и сим зрелищем грозным, идти к царю сквозь тесные ряды пехоты, вдали окруженной густыми толпами конницы. Введенные в шатер царский, где все блистало оружием и великолепием – где Борис, вместо короны увенчанный златым шлемом, первенствовал в сонме царевичей и князей не столько богатством одежды, сколько видом повелительным, – Алей-мурза и товарищи его долго безмолвствовали, не находя слов от удивления и замешательства; наконец сказали, что Казы-Гирей желает вечного союза с Россией, возобновляя договор, заключенный в Феодорово царствование: будет в воле Борисовой и готов со всею Ордою идти на врагов Москвы. Послов угостили пышно и вместе с ними отправили наших к хану для утверждения новой союзной грамоты его присягою.
В сей же день Св. Петра и Павла царь простился с войском, дав ему роскошный обед в поле: 500 000 гостей пировали на лугах Оки; яства, мед и вино развозили обозами; чиновников дарили бархатами, парчами и камками. Последними словами царя были: «Люблю воинство христианское и надеюсь на его верность». Громкие благословения провождали Бориса далеко по Московской дороге. Воеводы, ратники были в восхищении от государя столь мудрого, ласкового и счастливого: ибо он без кровопролития, одною угрозою, дал отечеству вожделеннейший плод самой блестящей победы: тишину, безопасность и честь! Россияне надеялись, говорит летописец, что все царствование Борисово будет подобно его началу, и славили царя искренно. – Для наблюдения осталась часть войска на Оке; другая пошла к границам литовской и шведской; большую часть распустили: но все знатнейшие чиновники спешили вслед за государем в столицу.
Там новое торжество ожидало Бориса: вся Москва встретила его, как некогда Иоанна, завоевателя Казани, и патриарх в приветственной речи сказал ему: «Богом избранный, Богом возлюбленный, великий самодержец! Мы видим славу твою: ты благодаришь Всевышнего! Благодарим Его вместе с тобою; но радуйся же и веселися с нами, совершив подвиг бессмертный! Государство, жизнь и достояние людей целы; а лютый враг, преклонив колена, молит о мире! Ты не скрыл, но умножил талант свой в сем случае удивительном, ознаменованном более, нежели человеческою мудростию… – Здравствуй о Господе, царь, любезный Небу и народу! От радости плачем и тебе кланяемся». Патриарх, духовенство и народ преклонились до земли. Изъявляя чувствительность и смирение, государь спешил в храм Успения славословить Всевышнего и в монастырь Новодевичий к печальной Ирине. Все дома были украшены зеленью и цветами.
Но Борис еще отложил свое царское венчание до 1 сентября, чтобы совершить сей важный обряд в Новое Лето, в день общего доброжелательства и надежд, лестных для сердца. Между тем грамота избирательная была написана от имени Земской думы с таким прибавлением: «Всем ослушникам царской воли неблагословение и клятва от церкви, месть и казнь от синклита и государства; клятва и казнь всякому мятежнику, раскольнику любопрительному, который дерзнет противоречить деянию соборному и колебать умы людей молвами злыми, кто бы он ни был, священного ли сана или боярского, думного или воинского, гражданин или вельможа: да погибнет и память его вовеки!» Сию грамоту утвердили 1 августа своими подписями и печатями Борис и юный Феодор, Иов, все святители, архимандриты, игумены, протопопы, келари, старцы чиновные, – бояре, окольничие, знатные сановники двора, печатник Василий Щелкалов, думные дворяне и дьяки, стольники, дьяки приказов, дворяне, стряпчие и выборные из городов, жильцы, дьяки нижней степени, гости, сотские, числом около пятисот: один список ее был положен в сокровищницу царскую, где лежали государственные уставы прежних венценосцев, а другой – в патриаршую ризницу в храме Успения. – Казалось, что мудрость человеческая сделала все возможное для твердого союза между государем и государством!
Наконец Борис венчался на царство, еще пышнее и торжественнее Феодора, ибо принял утварь Мономахову из рук вселенского патриарха. Народ благоговел в безмолвии; но когда царь, осененный десницею первосвятителя, в порыве живого чувства как бы забыв устав церковный, среди литургии воззвал громогласно: «Отче, великий патриарх Иов! Бог мне свидетель, что в моем царстве не будет ни сирого, ни бедного, – и, тряся верх своей рубашки, примолвил: – Отдам и сию последнюю народу», тогда единодушный восторг прервал священнодействие: слышны были только клики умиления и благодарности в храме; бояре славословили монарха, народ плакал. Уверяют, что новый венценосец, тронутый знаками общей к нему любви, тогда же произнес и другой важный обет: щадить жизнь и кровь самых преступников и единственно удалять их в пустыни сибирские. Одним словом, никакое царское венчание в России не действовало сильнее Борисова на воображение и чувство людей. – Осыпанный в дверях церковных золотом из рук Мстиславского, Борис в короне, с державою и скипетром спешил в царскую палату занять место варяжских князей на троне России, чтобы милостями, щедротами и государственными благодеяниями праздновать сей день великий.
Началось со двора и синклита: Борис пожаловал царевича киргизского Ураз-Магмета в цари касимовские; Дмитрия Ивановича Годунова в конюшие, Степана Васильевича Годунова в дворецкие (на место доброго Григория Васильевича, который один не радовался возвышению своего рода и в тайной горести умер); князей Катырева, Черкасского, Трубецкого, Ноготкова и Александра Романова-Юрьева в бояре; Михаила Романова, Бельского (любимца Иоаннова и своего бывшего друга), Кривого-Салтыкова (также любимца Иоаннова) и четырех Годуновых в окольничие; многих в стольники и в иные чины. Всем людям служивым, воинским и гражданским, он указал выдать двойное жалованье, гостям московским и другим торговать беспошлинно два года, а земледельцев казенных и самых диких жителей сибирских освободить от податей на год. К сим милостям чрезвычайным прибавил еще новую для крестьян господских: уставил, сколько им работать и платить господам законно и безобидно. – Обнародовав с престола сии царские благодеяния, Борис двенадцать дней угощал народ пирами.
Казалось, что и судьба благоприятствовала новому монарху, ознаменовав начало его державства и вожделенным миром, и счастливым успехом оружия в битве, маловажной числом воинов, но достопамятной своими обстоятельствами и следствиями, местом победы на краю света и лицом побежденного. Мы оставили царя-изгнанника сибирского Кучума в степи Барабинской, непреклонного к милостивым предложениям Феодоровым, неутомимого в набегах на отнятые у него земли и все еще для нас опасного. Воевода тарский Андрей Воейков выступил (4 августа 1598 [года]) с 397 казаками, литовцами и людьми ясашными к берегам Оби, где среди полей, засеянных хлебом и вдали окруженных болотами, гнездился Кучум с бедными остатками своего царства, с женами, с детьми, с верными ему князьями и воинами, числом до пятисот. Он не ждал врага: бодрый Воейков шел день и ночь, кинув обоз; имел лазутчиков, хватал неприятельских и 20 августа перед восходом солнца напал на укрепленный стан ханский. Целый день продолжалась битва, уже последняя для Кучума: его брат и сын, Илитен и Кан, царевичи, 6 князей, 10 мурз, 150 лучших воинов пали от стрельбы наших, которые около вечера вытеснили татар из укрепления, прижали к реке, утопили их более ста и взяли 50 пленников; немногие спаслись на судах в темноте ночи. Так Воейков отмстил Кучуму за гибель Ермака неосторожного! Восемь жен, пять сыновей и восемь дочерей ханских, пять князей и немало богатства остались в руках победителя. Не зная о судьбе Кучума и думая, что он подобно Ермаку утонул во глубине реки, Воейков не рассудил за благо идти далее: сжег, чего не мог взять с собою, и со знатными своими пленниками возвратился в Тару донести Борису, что в Сибири уже нет иного царя, кроме российского. Но Кучум еще жил, двумя усердными слугами во время битвы увезенный на лодке вниз по Оби в землю Чатскую. Еще воеводы наши снова предлагали ему ехать в Москву, соединиться с его семейством и мирно дожить век благодеяниями государя великодушного. Сеит, именем Тул-Мегмет, посланный Воейковым, нашел Кучума в лесу близ того места, где лежали тела убитых россиянами татар, на берегу Оби: слепой старец, неодолимый бедствиями, сидел под деревом, окруженный тремя сыновьями и тридцатью верными слугами; выслушал речь сеитову о милости царя московского и спокойно ответствовал: «Я не поехал к нему и в лучшее время доброю волею, целый и богатый: теперь поеду ли за смертию? Я слеп и глух, беден и сир. Жалею не о богатстве, но только о милом сыне Асманаке, взятом россиянами: с ним одним, без царства и богатства, без жен и других сыновей, я мог бы еще жить на свете. Теперь посылаю остальных детей в Бухарию, а сам еду к ногаям». Он не имел ни теплой одежды, ни коней и просил их из милости у своих бывших подданных, жителей Чатской волости, которые уже обещались быть данниками России: они прислали ему одного коня и шубу.
Кучум возвратился на место битвы и там в присутствии сеита занимался два дня погребением мертвых тел; в третий день сел на коня – и скрылся для истории. Остались только неверные слухи о бедственной его кончине: пишут, что он, скитаясь в степях Верхнего Иртыша, в земле Калмыцкой, и, близ озера Заисан-Нора похитив несколько лошадей, был гоним жителями из пустыни в пустыню, разбит на берегу озера Кургальчина и почти один явился в улусе ногаев, которые безжалостно умертвили слепого старца изгнанника, сказав: «Отец твой нас грабил, а ты не лучше отца». Весть о сем происшествии обрадовала Москву и Россию: Борис с донесением Воейкова спешил ночью в монастырь к Ирине, любя делить с нею все чистые удовольствия державного сана. Истребление Кучума, первого и последнего царя сибирского, если не могуществом, то непреклонною твердостию в злосчастии достопамятного, как бы запечатлело для нас господство над полунощною Азиею. В столице и во всех городах снова праздновали завоевание сего неизмеримого края, звоном колокольным и молебнами. Воейкова наградили золотою медалью, а его сподвижников деньгами; велели привезти знатных пленников в Москву и дали народу удовольствие видеть их торжественный въезд (в январе 1599 [года]). Жены, дочери, невестки и сыновья Кучумовы (юноши Асманак и Шаим, отрок Бабадша, младенцы Кумуш и Молла) ехали в богатых резных санях: царицы и царевны в шубах бархатных, атласных и камчатных, украшенных золотом, серебром и кружевом; царевичи в ферезях багряных, на мехах драгоценных; впереди и за ними множество всадников, детей боярских, по два в ряд, все в шубах собольих, с пищалями. Улицы были наполнены зрителями, россиянами и чужеземцами. Цариц и царевичей разместили в особенных домах, купеческих и дворянских; давали им содержание пристойное, но весьма умеренное; наконец отпустили жен и дочерей ханских в Касимов и в Бежецкий Верх к царю Ураз-Магмету и к царевичу сибирскому Маметкулу согласно с желанием тех и других. Сын Кучумов Абдул-Хаир, взятый в плен еще в 1591 году, принял тогда христианскую веру и был назван Андреем.
[1598–1604 гг.] С сего времени уже не имея войны, но единственно усмиряя без важных усилий строптивость наших данников в Сибири и страхом или выгодами мирной, деятельной власти умножая число их, мы спокойно занимались там основанием новых городов: Верхотурья в 1598, Мангазеи и Туринска в 1600, Томска в 1604 годах; населяли их людьми воинскими, семейными, особенно казаками литовскими или малороссийскими, и самых коренных жителей сибирских употребляли на ратное дело, вселяя в них усердие к службе льготою и честию, так что они с величайшею ревностию содействовали нам в покорении своих единоземцев. Одним словом, если случай дал Иоанну Сибирь, то государственный ум Борисов надежно и прочно вместил ее в состав России.
В делах внешней политики российской ничто не переменилось: ни дух ее, ни виды. Мы везде хотели мира или приобретений без войны, готовясь единственно к оборонительной; не верили доброжелательству тех, коих польза была несовместна с нашею, и не упускали случая вредить им без явного нарушения договоров.
Хан, уверяя Россию в своей дружбе, откладывал торжественное заключение нового договора с новым царем: между тем донские казаки тревожили набегами Тавриду, а крымские разбойники Белгородскую область. Наконец, в июне 1602 года, Казы-Гирей, приняв дары, оцененные в 14 000 рублей, вручил послу князю Григорию Волконскому шертную грамоту со всеми торжественными обрядами, но еще хотел тридцати тысяч рублей и жаловался, что россияне стесняют ханские улусы основанием крепостей в степях, которые были дотоле привольем татарским. «Не видим ли, – говорил он, – вашего умысла, столь недружелюбного? Вы хотите задушить нас в ограде. А я вам друг, каких мало. Султан живет мыслию идти войною на Россию, но слышит от меня всегда одно слово: далеко! там пустыни, леса, воды, болота, грязи непроходимые». Царь ответствовал, что казна его истощилась от милостей, оказанных войску и народу; что крепости основаны единственно для безопасности наших посольств к хану и для обуздания хищных донских казаков; что мы, имея рать сильную, не боимся султановой. Любимец Казы-Гиреев, Ахмет-Челибей, присланный к царю с союзною грамотою, требовал от него клятвы в верном исполнении взаимных условий: Борис взял в руки книгу (без сомнения не Евангелие) и сказал: «Обещаю искреннее дружество Казы-Гирею: вот моя большая присяга»; не хотел ни целовать креста, ни показать сей книги Челибею, коего уверяли, что государь российский из особенной любви к хану изустно произнес священное обязательство союза и что договоры с иными венценосцами утверждаются только боярским словом. Так Борис, вопреки древнему обыкновению, уклонился от бесполезного унижения святыни в делах с варварами, уважающими одну корысть и силу; честил хана умеренными дарами, а всего более надеялся на войско, готовое для защиты юго-восточных пределов России, и сохранил их спокойствие. Были взаимные досады, однако ж без всяких неприятельских действий. В 1603 году Казы-Гирей с гневом выслал из Тавриды нового посла государева, князя Борятинского, за то, что он не хотел удержать донских казаков от впадения в Карасанский улус, ответствуя грубо: «У вас есть сабля; а мое дело сноситься только с ханом, не с ворами казаками». Но сей случай не произвел разрыва: хан жаловался без угроз и подтвердил обязательство умереть нашим другом, опасаясь тогда султана и думая найти защитника в Борисе.
В делах с Литвою и со Швецией Борис также старался возвысить достоинство России, пользуясь случаем и временем. Сигизмунд, именем еще король Швеции, уже воевал с ее правителем, дядею своим герцогом Карлом, и склонил вельможных панов к участию в сем междоусобии, уступив их отечеству Эстонию. В таких благоприятных для нас обстоятельствах Литва домогалась прочного мира, а Швеция союза с Россией; Борис же, изъявляя готовность к тому и к другому, вымышлял легкий способ взять у них, что было нашим и что мы уступили им невольно: древние орденские владения, о коих столько жалел Иоанн, жалела и Россия, купив оные долговременными, кровавыми трудами и за ничто отдав властолюбивым иноземцам.
Мы упоминали о сыне шведского короля Эрика, изгнаннике Густаве. Скитаясь из земли в землю, он жил несколько времени в Торне скудным жалованьем брата своего Сигизмунда и решился (в 1599 году) искать счастия в нашем отечестве, куда звали его и Феодор и Борис, предлагая ему не только временное убежище, но и знатное поместье или удел. На границе, в Новгороде, в Твери ждали Густава сановники царские с приветствиями и дарами; одели в золото и в бархат; ввезли в Москву на богатой колеснице; представили государю в самом пышном собрании двора. Поцеловав руку у Бориса и юного Феодора, Густав произнес речь (зная славянский язык); сел на золотом изголовье; обедал у царя за столом особенным, имея особенного крайчего и чашника. Ему дали огромный дом, чиновников и слуг, множество драгоценных сосудов и чаш из кладовых царских; наконец удел Калужский, три города с волостями, для дохода. Одним словом, после Борисова семейства Густав казался первым человеком в России, ежедневно ласкаемый и даримый. Он имел достоинства: душевное благородство, искренность, сведения редкие в науках, особенно в химии, так что заслужил имя второго Феофраста Парацельса; знал языки, кроме шведского и славянского, итальянский, немецкий, французский; много видел в свете, с умом любопытным, и говорил приятно. Но не сии достоинства и знания были виною царской к нему милости: Борис мыслил употребить его в орудие политики как второго Магнуса, желая иметь в нем страшилище для Сигизмунда и Карла; обольстил Густава надеждою быть властителем Ливонии с помощью России и хитро приступил к делу, чтобы обольстить и Ливонию. Еще многие сановники дерптские и нарвские жили в Москве с женами и детьми в неволе сносной, однако ж горестной для них, лишенные отечества и состояния: Борис дал им свободу с условием, чтобы они присягнули ему в верности неизменной; ездили, куда хотят: в Ригу, в Литву, в Германию для торговли, но везде были его усердными слугами, наблюдали, выведывали важное для России и тайно доносили о том печатнику Щелкалову. Сии люди, некогда купцы богатые, уже не имели денег: царь велел им раздать до двадцати пяти тысяч нынешних рублей серебряных, чтобы они тем ревностнее служили России и преклоняли к ней своих единоземцев. Зная неудовольствие жителей рижских и других ливонцев, утесняемых правительством и в гражданской жизни, и в богослужении, царь велел тайно сказать им, что если хотят они спасти вольность свою и веру отцов; если ужасаются мысли рабствовать всегда под тяжким игом Литвы и сделаться папистами или иезуитами: то щит России над ними, а меч ее над их утеснителями; что сильнейший из венценосцев, равно славный и мудростию и человеколюбием, желает быть отцом более, нежели государем Ливонии, и ждет депутатов из Риги, Дерпта и Нарвы для заключения условий, которые будут утверждены присягою бояр; что свобода, законы и вера останутся там неприкосновенными под его верховною властию. В то же время воеводы псковские должны были искусно разгласить в Ливонии, что Густав, столь милостиво принятый царем, немедленно вступит в ее пределы с нашим войском, дабы изгнать поляков, шведов и господствовать в ней с правом наследственного державца, но с обязанностью российского присяжника. Сам Густав писал к герцогу Карлу: «Европе известна бедственная судьба моего родителя; а тебе известны ее виновники и мои гонители: оставляю месть Богу. Ныне я в тихом и безбоязненном пристанище у великого монарха, милостивого к несчастным державного племени. Здесь могу быть полезен нашему любезному отечеству, если ты уступишь мне Эстонию, угрожаемую Сигизмундовым властолюбием: с помощию Божиею и царскою буду не только стоять за города ее, но возьму и всю Ливонию, мою законную отчину». Заметим, что о сем письме не упоминается в наших переговорах со Швецией; оно едва ли было доставлено герцогу: сочиненное, как вероятно, в приказе московском, ходило единственно в списках из рук в руки между ливонскими гражданами, чтобы волновать их умы в пользу Борисова замысла. Так мы хитрили, будучи в перемирии с Литвою и в мире со Швецией!
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































