Текст книги "По велению Чингисхана"
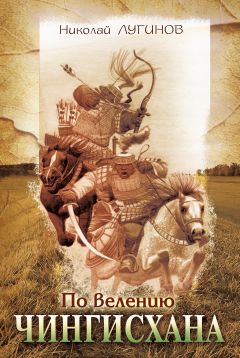
Автор книги: Николай Лугинов
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 25 (всего у книги 77 страниц) [доступный отрывок для чтения: 25 страниц]
И Сиги-Кутук рубанул воздух ребром пухлой ладони, продолжая:
– Пусть сами имена их будут навечно преданы проклятию! Пусть несут на себе несмываемый позор! Мы – сказали!
– В-в-в-а-а-а-а! – приветственно взревело войско, поворачивая головы в ту сторону, откуда ввели турхатов Джамухи. Лица их были как черные камни, ноги – босы, шеи – обжаты деревянными колодками. Их поставили на колени лицами на восход – и пять голов скатились вниз по склону, а кровь из усеченных тел забулькала, убегая и впитываясь в рудные жилы земли, в ее плавильные котлы, в ее таинственные горнила.
В толпе вскрикнул и согнулся в приступе рвоты юный нукер, но толпа лишь радостно и ликующе загоготала, зашлась в победном реве и клекоте: торжествовала честь, главенствовал долг! Так это и понял Джамуха, на лице которого разлилась снеговая белизна. Само его лицо было белым и ровным, как зимняя степь, когда он смотрел на долгие предсмертные судороги сильного джасабыла Халгы. С усилием перевел он взгляд на Боорчу, который вышел на середину площадки-тюсюлгэ, поднял на толстячка отяжелевшие ненавистью веки. Тойон Чингисхана, которого Джамуха помнил сопливым, голодным пащенком, был одет дорого и скромно.
– Джамуха гур хан! – сказал он во всеуслышание. – Мы, воины всего монгольского народа, преклоняемся перед твоим мужеством и славным именем, перед величием твоих дел – знай это! Знай и то, что, отправляясь в степь Кэрэмэс, Чингисхан оставил такое послание…
Но чтобы ни сказал андай, Джамуха изжил свой срок: кровь юных турхатов переполнила чашу Джамухинова бытия. Душа его словно бы переплавилась в огне земных страданий, бесплотное тело отвергало само себя – все его части, казалось, враждовали меж собой. Оно не стремилось жить.
– …такое послание: «Мой андай Джамуха! Господь Бог опять свел вместе два наших пути. Друг, я хочу сказать тебе вот что: в самом детстве мы дали друг другу клятву верности, у нас были одни друзья и одни общие враги, выносливость была нашим единственным наследством, мы были одним телом и одной душой. Мы должны быть преемниками славных Хобыл и Хутула ханов. Забудем же наши распри и воссоединимся. Нет во мне и самой малой крупицы вражды к тебе, а к тому же я не забываю, сколько раз ты спасал меня из тенет истинных, а не мнимых врагов моих. Я, Чингисхан, сказал…»
– Ты, Чингисхан, сказал. Я, Джамуха гур хан, услышал. Да, сегодня на моем вороте виснут несчастья, осыпает белым пеплом мои черные волосы позор, сердце прокусывают острые белые зубы измены. Но и со мной когда-то – помнишь? – стремились встать рядом лучшие из лучших, и я танцевал на острие копья, а лунный серп не раз был соглядатаем моих побед! И вот имя мое рухнуло, распалось на мелкие крошки звуков, чин мой съежился от позора! Но ты не оставил меня одного и не обнес добрым словом, мой андай, мой великий друг! Я бы хотел жить, но мне никогда не стать таким великодушным и сильным, как ты! И мне незачем жить. Раньше оболочка жизни была мне тесна – теперь она велика мне. И, взвесив неоднократно свои слова на весах жизни и смерти, я прошу тебя, андай: отпусти меня отсюда в страну предков… Довольно плутать Джамухе по этому срединному миру… Спаси мою честь и даруй мне честную смерть. Спаси, андай, отпусти… Я сказал…
В торжественной тишине, которая казалась преддверием вечности, гур хан опустил глаза и ему увиделся муравей, ползущий по аксамиту его кафтана. Он подставил ладонь – муравей забежал на нее, покрытую давними, еще детскими шрамами и рубцами, новыми роговыми мозолями. Муравей остановился у окопа линии судьбы – встал. Джамуха поднес ладонь к лицу и мысленно спросил муравья: «Ну как там, брат?»
Глава одиннадцатая
Судный день
Власть монгольских правителей в покоренных странах была ограничена; им не было предоставлено право предания смерти без предварительного суда. Взимание налогов производилось на основании строго определенной системы; особенными установлениями регулировалось несение государственной службы; всегда вводились казенная почта, административные реформы. Иногда во главе управления отдельных частей государства оставлялись свои, туземные, правители; так, например, по покорении Северного Китая он был разделен на десять провинций с китайскими чиновниками во главе. Орхоны (высшие войсковые начальники) могли производить в чины не выше, как тысячника, в войсках своего племени. В монгольской армии имелось учреждение вроде нашего Генерального штаба: чины его носили название «юрт-джи», а главный начальник соответствовал современному генерал-квартирмейстеру. Главную обязанность их составляла разведка неприятеля в мирное и военное время. Кроме того, юрт-джи должны были: распределять летние и зимние кочевья, при походных движениях войск исполнять обязанности колонновожатых, назначать места лагерей, выбирать места для юрт хана, старших начальников и войск. В землях оседлых они должны были лагеря располагать вдали от засеянных полей, чтобы не травить хлеба.
Для поддержания порядка в тылу армии имелась особая стража с функциями, близкими к тем, которые исполняются нынешними полевыми жандармами.
При войсках состояли особые чины по хозяйственной части – «черби».
Эрэнжен Хара-Даван
Просьба Джамухи была подобна ушату воды, выплеснутой при ясной погоде в кишащий муравейник. Народ, со свойственной черни чувствительностью, чуть ли не пал перед ним на колени – высшие тойоны искали в его поступке подоплеку. В ставке начался раздрай.
– Вот он весь Джамуха! – ворчал остроугольный Мухулай в кругу военачальников. – Где он – там смута! Подумать только: сам великодушный Чингисхан дарил ему за одно лишь краснобайство должность второго человека в иле! хан сказал, и я слышал, что голова должна быть о двух глазах: один глаз – он, второй – Джамуха! И то, как… как… – он отмахнулся, давая понять, что у него нет слов в попытке выразить причины упрямства Джамухи. – Уму не-пос-ти-жимо!..
Боорчу, пропуская из руки в руку витой из конского волоса шнурок аркана, словно намекал на готовность к расправе. Он сказал:
– Довольно икать от страха… В скором времени хана ждать нечего, надо пользоваться случаем и уважить, ублажить Джамуху в его… м-м… посмертном… гм… последнем желании…
Мухулай хихикнул и пояснил:
– Горло что-то перехватило!
– Вот-вот! – многозначительно покивал Боорчу и попробовал аркан на крепость, подергивая шнурок за два конца. – Как не перехватить… Перехватит…
Даже Джэлмэ загорячился и нахмурился, оглаживая лицо ладонями, словно умываясь:
– Погодите, погодите!.. Если уж делать такое, то так, чтоб и вода не просочилась от его, Джамухина, мокрого места… А вода, как известно, дырочку найдет. Что за нас? То, что Джамуха не принял предложение Чингисхана…
– Раз! – Мухулай загнул мизинец. – Два: сам напросился на казнь! – загнул безымянный. – Три… – он задумался, разжал пальцы и почесал ими в затылке. – Три…
– Десять: нужно отправить вестника к Тэмучину и передать, что Джамуха не принял его слов к сердцу, что попросил казнить себя, что его судьбу вершит Высший суд, но гонца снаряжать с таким прицелом, который не позволит встречному приказу поспеть вовремя, – сказал Джэлмэ, снимая со своего халата из синей дабы невидимые человеческому оку пушинки.
– Ух-се! – воскликнул Боорчу и тоже снял невидимую пушинку с халата Джэлмэ. – Голова ты наша золотая! Да ведь ты знаешь, как копается в подноготных Сиги-Кутук! Скорее мой ишак родит слоненка, чем Сиги-Кутук родит нужное нам решение. Мы думаем о безопасности ила, а Сиги-Кутук – о… о божественной справедливости… Да что вы, не знаете Сиги-Кутука!
Но Джэлмэ непросто было сбить с мысли, если уж он ее высказал.
– Каким бы ни был буквоедом наш славный Сиги-Кутук, он будет делать свое дело, а мы – свое. Иного не дано, – сказал Джэлмэ и добавил весомо: – А больше мне нечего сказать.
С каким-то внутренним стоном и щенячьими повизгиваниями, которые обозначали душевные муки и сомнения, Мухулай утвердил:
– Значит, решили так…
Каким же решительным рубакой он был в походах, каким толковым полководцем! А вот долгих умствований боялся и бежал их при возможности.
– Решили, – согласился Боорчу. – Предаем его в разбирательство Сиги-Кутука… А сами пока выпьем архи да подумаем о вечном!
* * *
«Многие из тех владык, кто мнят себя орудием Божьей кары, нечувствительны к людской скорби, к человеческим слезам… Они говорят, что Бог исторг из их сердец чувства сострадания и жалости. Но такие черты присущи шайтану, а не мудрому и дальновидному владыке, – думал Сиги-Кутук, вызывая посыльным в суд старика Аргаса с дальней окраины степи. – Верша суд, надо мудро разобраться в жизни Джамухи… А старик Аргас знает его с незапамятных времен…»
Сиги-Кутуку не было еще тридцати лет, и недавно женившийся Аргас казался ему глубоким старцем.
Когда прибыл посыльный, едва не запаливший жеребчика, Аргас с пастухами был на пастбище, где метил своим тавром кобылиц, быков и коров, которых у него насчитывалось множество. Крупные, жирные овцы и козлы с метками Аргасовых отар уже паслись на равнинах под приглядом пастухов.
Старик напоил посыльного кумысом, вернулся в сурт и, переодевшись в чистое, немедленно тронулся в путь. Молодая жена по имени Малтанай долго шла с узелком, в котором лежала жирная пища, вслед своему всаднику, но муж не замечал ее. Он пустил коня сначала легкой рысцой, потом – размашистой иноходью, и Малтанай остановилась, концом нарядного белого платка утерев с лица пыль.
Аргас не щадил коня – слишком важен был вызов к Сиги-Кутуку. А ведь лет двадцать назад именно он, Аргас, нашел этого Сиги-Кутука во время схватки с татарами. Крепко бились копьями и мечами, уворачивались от непреклонных дротиков и ножами отсекали арканы, резали тела, убивали коней и всадников с обезумевшими в кровавой сече глазами; грома Божьего было не слыхать от нечеловеческого ора и стонов раненых в этом смертельном месиве; время для кого-то останавливалось и уходило в землю, аки молния. Аргас тогда привязал коня в лесу, взялся за лук-ангабыл, достал стрелы и, выцеливая самых отважных рубак из татар, метко ссаживал их с седел. Ему казалось, что он слышит в этом смерче хриплых голосов их свистящие на выходе души, видит их жестокие раны. Аргас с холодной ясностью озирал бранное поле, когда увидел, как из-под груды сорного хлама вышмыгнул и припустил к лесу маленький мальчик. Он бежал прямо на Аргаса, и Аргас ловко поймал его. Малец ладился укусить воина, норовил ударить ногой в пах, но быстро обессилел и притих. Под собольей дохой его виднелась кольчуга из мелких колечек, на золотом поясе с орленой пряжкой были подвешены нож, кресало и три кожаных киски, что указывало на знатное происхождение. Потому и отвез его впоследствии Бэлгитэй к своей матери Ожулун– хотун, чтобы отдать в приемыши. Теперь он вырос и стал великим тойоном в двадцать семь лет, теперь шестидесятитрехлетний молодожен Аргас едет к нему на допрос. Спросил бы тойон Аргаса: тот ли он, Аргас, что был двадцать лет назад? И ответил бы Аргас, что нет в нем прежней удали и спорости мышцы, а его еще и женили на смех воронам на юной вдове Дармаа, старого друга, как и завещал Дармаа, умирая от ран. Что делать? Поначалу-то Аргас бодался и взбрыкивал, противясь новой женитьбе, но старуха его оказалась такова, что сама поехала и привезла себе эту подружку в жены любимому мужу. А старая и раньше крутила Аргасом так хитро, что он и не замечал, и тут решила за него. Когда ему было размышлять о нраве своей старухи, если то война, то служба, то охрана угодий от волка и вора-отщепенца! Что говорить, если через три дня после того, как старуха привезла молодуху, Аргаса снарядили на подавление мэркитского восстания и он с облегчением душевным пустился в путь с основным войском. Да забыл, что старуха-то у него – курултай: она скорехонько собрала подружку Малтанай и отправила вслед за единственным их мужем! Все те три месяца, что жили с войском в поверженном Тайхале, молодая преданно служила Аргасу. Как бы поздно он ни воротился под свой кров – там и чай, и горячее мясо, и постель, пахнущая бодрыми степными травами.
Но Аргас упрям. Он ел, сидя спиной к той, кого подкинула ему судьба, полосатая кукушка, а спать уходил в арбу, где, засыпая, слышал едва различимые шаги юницы, терпеливо ждущей мужниного зова.
На той самой арбе однажды опрокинулись, переходя вброд быструю в каменистом русле речонку. Вымокли до нитки сами, поклажа отяжелела от воды. Пришлось набить возок сеном и голыми лежать вместе, прижавшись телами, чтобы сберечь тепло.
Но и в этом шалаше Аргас не размяк, нутром иссыхающим почуял запах юной плоти, истекающий от новой жены. Он едва не дрогнул, и оттого непонятное раздражение вскипело в душе, саднившей при любом покушении на ее волю или ощутившей нечто противное своей природе. Одно дело воинское, когда подчиняешься воле вождя и не думаешь о справедливости или богоугодности своих деяний, а другое – супружеские обязанности: разве он, Аргас, животное? племенной бык? косопузый манзя?[10]10
Манзя – уроженец Южного Китая, манзе. – Прим. переводчика.
[Закрыть] разве он желал этой женитьбы?.. Вот об этом обо всем расспросил бы молодожена Аргаса большой тойон Сиги-Кутук – тут бы и поговорили. Да не государственное это дело: спиной к жене или лицом к ней ложится спать старый воин.
– Й-й-й-ах-х-х! – криком подстегнул коня Аргас.
– Йок – йок… Йок – йок… – отвечала ему лошадиная селезенка. «К утру доберемся…» – знал Аргас, оборачиваясь на заходящее солнце.
* * *
Сиги-Кутук как золотоносный песок промывал множество сведений о Джамухе, получаемых от людей, когда-либо соприкасавшихся с гур ханом, – он искал блестки истины почище ревностного старателя. Вот и Аргаса он вызвал из дальней степи в надежде получить от него сведения, которые могли бы склонить чашу весов правосудия в ту или иную сторону, к жизни или смерти подследственного.
Прежде чем войти в сурт Сиги-Кутука, требовалось пройти через окуривание пахучими травами, а на пороге – сесть задом наперед на конский череп и произнести: «Клянусь говорить истинную правду. Ничего не утаю и не прибавлю из того, чего никогда не было!»
Аргас прошел через обряд – скрывать ему было нечего, и когда нырнул во тьму сурта, то при свете жирников увидел смутно краснеющее лицо Сиги-Кутука, а за ним, одетый в золоченые сукна и шелк, виднелся некто, напоминающий Джаргытая, отца Джэлмэ и Сюбетея. «И великий кузнец здесь!» – мелькнуло в мыслях Аргаса, и ему стало не по себе, словно уличенному в низости.
– Сколько тебе лет? – прозвучал вопрос.
– Шестьдесят три! – с некоторым удивлением в голосе ответил Аргас. «Это они хотят знать: в своем ли я уме!» – объяснял он себе.
– Где впервые встретился с Джамухой?
– На войне с мэркитами, великий тойон. Мы их победили!
– Какой у тебя был чин?
– Никаких чинов еще не было! – продолжал доказывать свое здравомыслие Аргас. – Их еще не учреждали, – он прилежно убеждал своих дознавателей в незамутненности своей памяти. «Кто-то наклепал Сиги-Кутуку, что я сошел с ума, женившись на молодой!» – Я, как сейчас помню, командовал охранным арбаном, ездил порученцем – мне той осенью пошел тридцать первый год…
– Что ты думал о Джамухе?
– Я? – растерялся Аргас. – Когда думать? Разве он девушка?
– Я спрашиваю – ты отвечаешь! Каким ты видел его?
– Я видел веселого, приветливого, достойного уважения молодого предводителя. Он любил петь, умел рассказать старину, был удачлив на облавной охоте… Я в своем уме и все помню! Однажды на него пошел вепрь…
– Остановись, Аргас! Вепрь пошел, а ты остановись и отвечай: ты был вместе с Джамухой в сражении на Далан-Балджи?
– А как же? Я…
Сиги-Кутук начал терять свою хваленую выдержку:
– Не спрашивай меня ни о чем, старик! Здесь спрашиваю я, а ты – отвечаешь: да или нет! Все! Разве ты не знаешь, что сказал мой державный брат? Он сказал: «Сиги-Кутук! Теперь, когда я только что утвердил за собою все народы, будь моими ушами и очами. Никто да не противится тому, что ты скажешь. Тебе поручаю судить и карать по делам воровства и обманов: кто заслужит смерть – того казни смертью, кто заслужит наказание – с того взыскивай, дела по разделу имения у народа ты решай, решенные дела записывай, дабы другие не изменяли». Понятно?
Но на Аргаса будто морок напал – упрям был старик, отвечая снова вопросом на вопрос:
– Чего ж не понять? Ты грамоту знаешь, письму обучен… Пиши!
– Ух-се-о-о! – изумился Сиги-Кутук, округляя смеющиеся глаза. – Ну, Аргас! Не помнил бы я, как ты меня спас – отправил бы тебя вожаком в баранье стадо! До чего ж ты упрям, а! – повернулся он к старому кузнецу, шепча тому на ухо какие-то слова.
Послышался шуршащий, как ход змеи, голос кузнеца, и Аргас стал послушным.
– Ты слышал приказ Джамухи о том, чтоб сварить детей тойонов рода Чонос в семидесяти котлах?
– Слышал.
– Видел?
– Видел.
– Что ты об этом думаешь?
– Мир не знал дотоле подобного зверства.
– Почему Джамуха совершил этот тяжкий грех?
– Когда гур хан в ярости, он как бы впадает в безумие…
– Ну вот, – сказал Сиги-Кутук, ласково глядя на Аргаса. – Коротко и ясно. Иди, Аргас…
Седлая коня, старый воин с душевной теплотой думал, что чин не испортил Сиги-Кутука; что владеющий великим просветлением Чингисхан не зря пригласил к себе в ил великого учителя письмен и восемнадцать его умных учеников для составления письменных законов, как у китайцев. Вот и Аргас после судейской выволочки почувствовал себя человеком значительным, содействующим большой, но еще не установленной справедливости.
* * *
Чулбу-тойон уже два года служил монголам и стал чувствовать доверие к себе после таких дел, как подавление мятежа или преследование беглецов в горах – везде он проявлял себя умелым сюняй-тойоном. Он любил войну и оружие. Оружие, сделанное искусными мастерами, чаровало его и затмевало свет в его глазах своей красотой, своим изяществом. Иногда Чулбу-тойону казалось, что он способен придумать совершенное оружие и доспехи. Почему бы, например, не вшивать в легкий стеганый халат-тегиляй кольчужную сетку-кебе? Почему бы по-новому не сплести из стальных пластин-яраков чалдар – доспех, защищающий грудь и открытые бока коня так, чтобы вражеская стрела застревала в кольчужных колечках? Тогда сам вид коня, утыканного стрелами, сеял бы страх в рядах неприятеля! Он мог часами любоваться работой умелого шорника и думал о том, как можно сшить высокое седло-арчак, которое бы раскладывалось в походное ложе… Ему, Чулбу-тойону, привольно жилось с монголами – людьми простыми и бесхитростными, не понимающими мелочной злобы заковыристых людей. Они судили людей по делам их. Чулбу-тойону нравилась монгольская легкость на подъем: сигнал – и они готовы в поход, а новый человек еще и подпругу-то подтянуть не успеет; нравилось то, как они ведут бой по договоренности: двигаться врозь – драться вместе, что требовало большой выучки и оборачивалось малыми потерями под дождем стрел; нравилось, что монгол, вскормленный на звериной охоте, и к войне относился со спокойной хладнокровностью и даже обыденно, как к охоте и добыче, и ни в коем случае не горячится. А плохому охотнику лучше дома сидеть. Но и женщины монголов ездили верхом и стреляли из луков на зависть иным неумехам. Чулбу-тойон сам видел, как монголы пьют кровь из рассеченных вен своих лошадей, если кончаются запасы еды, а потом перевязывают эти раны жильной ниткой; он ел хлеб, испеченный в подбрюшье обозного верблюда, закусывая им лакомую конину, если были убитые лошади.
Чулбу-тойону полюбилась служба на стороне монголов, здесь он по-новому открыл войну – она совпадала с его внутренним состоянием и была понятной ему. Хорошо, когда каждый нукер знает: им дорожат, а основной показатель успешного боя – малое число потерь. После боя все тойоны предстают перед своими начальниками и отчитываются за каждого потерянного воина, кто и почему погиб. Поэтому даже найманы, недавно вошедшие в боевые порядки монголов, перестают чувствовать себя чужаками. А потому, когда вместе со звуками утреннего барабана-накара к Чулбу-тойону прибыл молодец-вестовой с известием о вызове к Сиги-Кутуку, тойон не подумал ничего дурного: ему нечего было бояться и его внутренний человек спокойно принял вызов к Верховному судье.
Он прошел через очистительные огни туда, где его ждала горчащая от дыма костра встреча с прошлым.
– Какой ты имел чин у Тайан-хана? – спросил Сиги-Кутук, а грамотей, сидящий у огня, изготовился увековечить ответы тойона записью.
– Был тойоном-сюняем. Выше чинов не было.
– Какую должность занимал?
– Был помощником командующего войском, – нажимая на слово «был», отвечал Чулбу.
– Уточни: в чем помогал? Какие обязанности исполнял?
– Устраивал советы начальствующих. Следил за точным исполнением приказов высокого командования.
– А Джамуху часто видел?
– Не часто, но видеть приходилось. Тайан-хан мало кого слушал, но с Джамухой очень считался. Потому и другие тойоны спешили сблизиться с Джамухой. Хотя его никто не любил.
– Это твое наблюдение?
– Да. Не надо быть умным, как трехголовый змей, чтобы заметить это: в присутствии Джамухи все лебезили, а стоило тому отлучиться – начинали выбивать мозг из его косточек. Несчастный гур хан!
– Оставь свои чувства, Чулбу-тойон, – нестрого, впрочем, посоветовал судья. – Скажи лучше, чем можно объяснить особое отношение Тайан-хана к Джамухе?
Чулбу-тойон призадумался, глядя неподвижно на носки своих ичиг.
Никто не мешал ему думать, не торопил. Было слышно, как где-то пела женщина, брехали собаки, потрескивал жир в светильниках. И Чулбу-тойон, наконец, заговорил:
– Только один Джамуха мог обротать многочисленное сборище тех бродячих племен. Ему подчинялись беспрекословно, хоть и шептались за его спиной.
– Мы знаем, что Тайан-хан слыл суровым и грозным вождем мощного войска, которому не было равных в степи. А по твоим словам, он не надеялся на это войско! Из-за чего? Не из-за соперничества ли, внутренних интриг своих вождей?
– К сожалению, так.
– Почему же ты сожалеешь об этом? – насторожился Сиги-Кутук или просто решил припугнуть тойона, проверяя того на крепость духа.
Но Чулбу смог объясниться. Он сказал:
– Всегда жаль вождя, окруженного мелкими холуями. Они всегда что-то делят. Сначала и не поймешь, что именно: славу? богатство? власть? Потом понимаешь, что комар, насосавшийся крови, уже не видит опасно занесенной над ним руки; муха предпочтет погибнуть в меду, а властелин, окруживший себя льстивыми холуями, гибнет от лести: она выклевывает ему глаза, но открывает уши. Что случилось тогда? Кучулук зарвался, пытаясь одержать легкую победу и одному пить пьянящий напиток славы! Тогда Тайан-хан двинул вперед Джамуху, но Джамуха сослался на нехватку лошадей, а сам не захотел быть прикрытием для нукеров Тайан-хана и ушел от боя. Тут и выступил сам Тайан-хан, не желая допустить торжества Кучулука от легкой победы, не понимая, что торжество это нам тогда не грозило ни при какой расстановке. Они не предвидели мощь монгольского войска, и даже Джамуха был слеп!..
– По какой причине Джамуха ушел от столкновения с Чингисханом на стороне найманов?
– Этого я знать не могу. Когда Джамуха в ярости, он может пойти один против всех и никакое слово, никакая верность обычаям его не остановит. Значит, тогда он был спокоен и рассудил как мог, но по-своему…
Сиги-Кутук остался доволен ответами молодого тойона. Он ободряюще сказал:
– Ты мудр не по годам, Чулбу. Умеешь трезво и верно рассуждать. Это немало. Мы ценим искренность, честность и верность! Служи Чингисхану от души – и ты будешь замечен! Иди!
Шел седьмой и последний день следствия, решавшего судьбу Джамухи. Но Чулбу-тойон не знал этого: окрыленный словами Сиги-Кутука, приемного брата самого Чингисхана, он пустил коня, словно кречета, устремившегося к стае перелетных уток. Он недолго скакал степью, когда увидел человека, копающего землю. Любопытствуя, Чулбу-тойон приостановил бешеную скачку и направил коня к землекопу. Это был немолодой манзя. Он оперся о заступ, давая отдых усталой спине.
– Чем это ты занимаешься? – спросил Чулбу-тойон.
– Моя не понимай, – улыбаясь, ответил манзя. – Моя ходи-ходи. Понимай нет, – и поклонился Чулбу-тойону. Потом поклонился коню Чулбу-тойона.
Всадник спешился и подошел к яме, выкопанной манзей. Глиняная обмазка внутри ямы, циновки на ее дне напоминали внутренность сурта. Чулбу понял, что это погребальная яма, над которой вскоре вырастет курган, куда положат глиняную посуду с угольками и посмертные дары какому-то непростому воину, что яму эту обкурят дорогими благовониями, а в чашах-курильницах зажгут очистительный огонь. Ведь свою жизнь и жизнь своих предков кочевник представляет как длинный, до седьмого колена ряд людей, которые обитают среди богов. Чья кибитка будет уходить отсюда в небо?
– Кто будет здесь лежать? – спросил Чулбу-тойон манзю.
– Моя ходи-ходи… Не понимай… – кланялся гуттаперчевый китаец.
«А кто понимает?» – вскакивая в седло, думал воин. – И я не понимаю: для Джамухи ли эта кибитка? или для меня?»
* * *
Похоже, что-то изменилось в норове Аргаса, когда он вернулся домой, проехав в раздумьях более десяти кес. Малтанай встретила его и провела в урасу, натянутую из полос ткани по-походному. Дорогой он вдруг понял, что привык к молодой жене, и встревожился, когда вообразил вдруг ее, смертельно раненную копытом необъезженного жеребца, укушенную змеей, растерзанную волками, – потому и гнал коня. «Бедняжка Малтанай! За какие грехи ей, сироте, такая судьба? Ни матери, ни отца, муж Дармаа, хоть какой ни старый был – и тот погиб… И я старик, да еще и лютый! Кто она у меня: жена? служанка?»
Уж не шаман ли напустил эту жалость на Аргаса? или вступает он в новую пору своей жизни и сердце его готово к мирным трудам и утехам?..
Он украдкой, как юноша, в котором зреет мужчина, косился на Малтанай, когда она подавала ему еду, и какая-то забытая радость и покой созерцания подвластного ему мира трав, табунов, легконогих овец и кострового огня занимала его существо. В этот вечер ему не хотелось есть одному, но, даже слыша голос жены, разговаривающей со своим конем за стенкой сурта, он все не подзывал ее, а лег спать один, еще не веря в свое пробуждение иным человеком.
А утром, когда Малтанай развела костер, чтобы вскипятить воду для чая, он положил в кипяток кусок сушеного мяса.
– Схожу на рыбалку… – сказал он, увидев вопросительный взгляд жены. – Сказывали, что эти озера – истинное кочевье рыб! Проси духа воды – пусть позволит нам с тобой попытать счастья в рыбалке!..
И как ветром сдуло Малтанай – она бежала к озеру, счастливая первой мужниной просьбой.
– Тише! Ти-и-и-ше! – кричал он ей вслед. – Куда ж ты, сломя голову-то?
Он достал из пыльной кожаной сумки два хороших костяных крючка, которые были цельными, и один составной железный с бородкой на жале – все это, завернутое в тряпицу, он проверил и почистил. Для пахучести смазал маслом, привязал к лесе, витой из сухожилий сохатого, приладил грузила из камня с дырочкой. Потом пошел на озеро и терпеливо просидел там до предзакатной поры, будучи человеком упрямым. Однако рыба оказалась упрямей Аргаса – то срывалась с крючка, то безнаказанно лакомилась наживкой, то, дразня рыбака, взыгрывала над поверхностью розовеющей воды, охотясь на мошку. Но неудача не огорчила Аргаса, мурлыча что-то, он вернулся к вечеру домой и лишь у огня почувствовал, что продрог. Но как хорошо сиделось у огня новому старому человеку! Малтанай, чтоб не дать угаснуть огню, собирала в степи сухие кизяки, а он пил чай, обжигая нутро, и уже все более открыто смотрел на гибкую, сильную фигурку жены, на ее неустанные поклоны земле, на то, как она поправляет выпадающие из-под шапки пряди черных волос, впервые за полтора года чувствуя на себе его долгожданный взгляд – взгляд мужчины.
Ночью он лег с ней и по дыханию понял: не спит.
– Ничего не поймал, – сказал он, чтоб завязать разговор.
Она посоветовала:
– Нужно было грузила намазать пахучей смолой.
– Откуда тебе знать? – спросил Аргас несмышленую.
Она ответила:
– Если бы я была рыбой, то клюнула бы!
– Ух-се! – удивился он, и оба они рассмеялись. И таким легким, таким очистительным был этот смех.
– Сколько ж тебе лет, что ты такая глупая? – спросил жену Аргас.
– Осенью будет восемнадцать… – ответила она, растопыривая перед собой пятерню. – Время идет…
Аргас снова тихонько рассмеялся: ишь, время у нее идет! Послушайте, люди, а? У нее идет время!
– Чему ты? – спросила она с мягкой улыбкой, которая как бы светилась в темноте. – Ты умеешь смеяться… ничему?
– Я смеюсь оттого, что все хорошо… – отвечал правдиво Аргас. – Скажи, где твоя мать? Отец погиб на войне, Дармаа умер от ран. А где же твоя мать?
– Она погибла… Был сильный джут… Буран… Она замерзла в степи… Я с пятилетним братом жила у родственников. Потом кэрэитов завоевали ваши люди, и меня взял себе в жены Дармаа. Год жила с ним – и год он был в походе. Сейчас я твоя жена.
– А я не старый? – Аргаса будто кто за язык дернул, но Малтанай ответила спокойно:
– Ты сильный, – и Аргас, взволновавшись жалостью к ней, нежно тронул ее плечо, нюхая теплый завиток волос на затылке женщины.
После близости с ней он слышал, как бухает в груди еще мощное сердце, как всплескивает крупная рыба на притихшем озере, как гомонят в камышах утки, и не слышал далекого боя боевых барабанов, сопровождающих на казнь Джамуху; он не видел, как Джамуха целовал икону в руках несторианского священника, как несли казненного бескровно гур хана шесть турхатов на белой кошме и надевали на остывшую голову ханскую шапку…
Аргас спал сном счастливого человека, чья жизнь и старость оказались обогреты солнцем любви и серебряно-лунным отсветом почета… Он спал потому, что Сиги-Кутук не стал звать его на казнь Джамухи, где собралось все войско, считая его старым и заслужившим отдых аксакалом… Пусть будет так.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































