Текст книги "По велению Чингисхана"
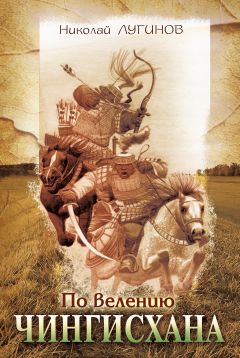
Автор книги: Николай Лугинов
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 24 (всего у книги 77 страниц) [доступный отрывок для чтения: 25 страниц]
Глава десятая
Печальная песня
Почему, когда летят головы у одних, другие становятся разумнее?
Почему никогда не оценивается доброта и простота? Почему они служат основой для обид, мести?
Почему жестокость обрывает корни всех недоразумений?
Легенды о древних правителях
– Турхаты разохотились, – смущаясь чего-то, доложил Дабан. – Снова собрались на охоту, – пожал он плечами.
«Вот оно!» – Джамуху словно обдало жаром пустыни средь горной прохлады. Но голос его не дрогнул, когда он спросил Дабана:
– Что – заметили дичь?
– Вчера вернулись пустые. Сказали, все пусто, как чума прошла: ни рябчика, ни зайца, ни зверей никаких.
«Заговор строят, умники», – решил Джамуха и сказал Дабану:
– Отправляй их. Пусть ищут удачи, но берегут коней. Кони-то отощали совсем. А ты – останешься со мной: с этого часа твоя дорога расходится с их дорогой! Иди…
По вялым движениям Дабана и остальных можно было судить, как упал боевой дух турхатов. Вот он, как замороженный судак, как оглоушенный щуренок, повернулся, чтобы идти, но сначала сунул в рот древесную смолу-жвачку. То есть сознание его затемнено: месяцем раньше разве посмел бы он в присутствии гур хана забивать рот этой вонючей серой? Так ведь и есть хочется мальчишке.
«…Пусть откроется сознание твое, запоминай знаний больше, умей слушать неслышимое, видеть невидимое, полагать неочевидное. Пробей дороги добра, иди тропами святых деяний. Будь умен и мудр, силен и терпелив», – вспомнилось Джамухе старинное благословение, когда он смотрел в спину уходящего Дабана, как тот, прыгая с камня на камень, удалялся в сторону скрытого караула. «А так ли я умудрен, чтоб давать советы юношам? Сам-то я сумел увидеть невидимое?..»
Дабан тревожился, и причиной тревоги считал все более ощутимую отчужденность турхатов, которая высвечивалась, как у всякого неискушенного, в какой-то подчеркнуто правильной и чрезмерно дружелюбной окраске их перебрехиваний. Так с улыбкой иной сует руку за пазуху, а достает оттуда кукиш.
– Отправляйтесь! – передал Дабан товарищам разрешение гур хана. – Велено беречь коней, и все. Я остаюсь в охране.
– Сам-то гур хан никуда не собирается? – спросили его.
– Сидит на том же черном камне…
Турхат, уже сидевший на коне, съехидничал, сделав глаза простодушными:
– Сам-то не почернел?..
Этого Дабану было достаточно, чтобы ясно увидеть содержимое их пазух, и он сказал с угрозой:
– Скорее твой красный язык почернеет, когда вывалится из вонючей пасти твоей отрубленной башки!
Остальные турхаты зашикали на неосторожного остроумца, загарцевали вокруг того на разномастных лошадях, покрикивая:
– Жуй свою жвачку да помалкивай!
– Язык-болтунок – ему место между ног!
Опростоволосившийся турхат посмеивался, отмахивался, а потом вздыбил коня, гикнул и пустил его вскачь, увлекая за собой товарищей.
«Он и заводила!» – унимая сердцебиение, подумал Дабан. Поднял с земли прохладный камень, приложил его ко лбу. Когда камень впитал в себя жар, Дабан разжал горсть и глянул на камень. «Таким должно быть сердце? О, Всевышний на вечно синем небе! Почему?» Он швырнул камень в небо и увидел большущую стаю гусей-гуменников, которые снижались на невидимое лесное озеро. Это зрелище озарило душу Дабана горячим азартом и радостью, оно, как дуновение ветерка в душный полдень, освежило ее и унесло полынную горечь только что происшедшего разговора – он побежал к Джамухе, с трудом сдерживая крик: «Гуси! Гу-си-и-и!» Бежал он ловко – ни один камень не стронулся с места под ногой, ни один сучок не хрустнул. Только полосатый бурундук проскользнул вверх по стволу кедра, словно играя с Дабаном в прятки.
И он услышал, как Джамуха поет.
…Много дорог предо мной,
Но не нашел опоры нигде.
Широки степи родные,
Но нет мне приюта нигде.
Я как облако в высоком небе –
Несет меня ветер,
А кругом пустота…
«Гур хан поет…» – в растерянности затаился за каменным валуном Дабан. Он посмотрел на замшелый бок валуна, словно бы обращаясь к тому за советом.
«И я запою, если меня стронуть и пустить вниз по склону», – ответил камень. «Таким должно быть сердце?» – спросил Дабан. Он закрыл глаза и приложил ухо к морщинистым губам камня. Камень молчал.
…Среди людей я не нашел друзей,
Не встретил соратников… –
тихо пел, завывая, Джамуха.
«А я? Кто я?» – мысленно спрашивал вождя Дабан.
«А ты сирота… – сказал себе Дабан. – Нет отца-матери, нет вождя… Зачем жизнь? Зачем стрелы в колчане?..» Он сосчитал их каленые оголовья и, ступая тише хорька, тронулся вниз по ущелью, к маленькому озерку, куда, по его соображениям, сели дикие гуси. «Порадую гур хана жирной дичью…» – думал он, освобождаясь от тугих пут непосильных мыслей.
* * *
Джамуха и черный камень словно врастали друг в друга: камню отходило тепло гур ханова тела, а Джамухе – спокойствие камня. Джамуха смотрел на свое отражение в зеркальной кривизне серебряного щита: век бы никуда не уходил отсюда! глаза бы мои никого не видели! уши бы никого не слышали! Но мужество вождя – не в выборе жизни, а в выборе смерти и времени для нее. Главное – вовремя.
«Ты неплохо жил в этом срединном мире, Джамуха… – тихо пел вождь, не остерегаясь чужих ушей. – Народ твой со времен твоего младенчества принял тебя, как повитуха, в свои ладони. Он нянчил, пестовал тебя, он не давал тебе познать и малого золотничка нужды – ты всегда был богат, в отличие от андая… Но обманул ли я их надежды и упования? Полунищее племя, со времен древних тюрков не смевшее поднять глаза к звездам небесным, я вывел в избранные и стал первым великим вождем этого народа, соперничая с великанами! Но Господь Бог Христос дал мне хорошего щелчка, как насекомому, возомнившему себя императором ослиной шкуры до той поры, пока удар ослиного хвоста не прервет его царствования и самой жизни… Бог не дал мне потомства, а народ предал меня, чувствуя, что судьба его в руках слепца… Ты слепец, Джамуха. Ты никогда не хотел понять, что всякая вещь имеет изнанку, что друг и враг бывают случайны, как попутчик на караванной тропе. Ведь считали же мы друзьями мэркитов, Тохтоо-бэки, найманов, Кучулука, кэрэитов… Пока наша сила не подвергалась сомнению, пока были уверены, что шутя разгромим монголов Чингисхана и разделим их добро – до тех пор шелестели слова славословий, как низкая трава у входа в сурт, и гремели бубны клятв в преданности и верности мне… Где все это теперь? Древние правители говорили: «Для имеющих головы и без оных, для славных и бесславных – владыка – Божий дар. Только кажется, что его выдвинули снизу. На деле он избранник Господа Бога Отца, всевышнего, всемогущего, всеединого. Вот почему владыка иногда – кара несчастному народу, а иногда – удача счастливого народа»… Так что на все воля Божья. И я в Его воле, и мне отвечать за содеянное пред лицом Господа… А Дабан – у него все впереди… Он мог быть моим сыном, а станет сыном Тэмучина. В наше время нет человека, подобного моему андаю, а других времен я не знаю. Он поверил в наш народ и народ поверил в него, о Господи! А народ наш подобен благородному белому хрусталю, и он достоин жить в благородных белых кибитках – так я скажу Дабану. Я скажу ему: ты не будешь питать ненависть к человеку, который знал тебя как друга своего врага, но все же пригласил тебя к себе и оставил при тебе оружие! А ведь именно так поступит Чингисхан! Запри это у себя в уме, скажу я, но противостояние наше с андаем – это борьба наших окружений за владычество над Степью. Оказалось, Тэмучин – богатырь из рода монголов, а я, твой гур хан – всего лишь главарь шайки, азартный игрок в кости… Иди к нему. Иначе где и как ты можешь завоевать славное имя настоящего полководца? Твои задатки могут принести плоды только под благодатным крылом великой личности, каковой и является андай…»
Джамуха отложил в сторонку свой серебряный щит, через голову снял с груди ханский ярлык, носимый в особо важные моменты бытия, и завернул его в чистую рубашку из китайской чесучи, которую надевал перед сражениями. Сверток и нож с ножнами он сунул в пустой узороченный колчан, сам встал и с хрустом потянулся, словно пытаясь дотронуться руками до неба, куда рассчитывал скоро прийти к Божьему суду.
* * *
После того, как поели гусиной похлебки и Джамуха утер губы лоскутом из цветной ткани в знак окончания трапезы, он попросил у Дабана нож, выстругал острую спичку из стланика и стал чистить ею зубы. Дабан, уминающий мясо со львиной яростью, вдруг перестал жевать и уставился на пояс гур хана.
– А где же твой нож в золотых украшениях? – спросил он, и кадык его задергался, освобождая от пищи рот и проталкивая ком мяса в туго набитую утробу.
– Ешь, ешь! – ответил гур хан. – Много будешь знать – мало станешь есть!..
Однако Дабан уже запил съеденное архи, чтобы взбодриться, вспугнуть сытную сонливость, и тоже утер губы пестрым лоскутом ткани.
Джамуха с видом бездельника все еще чистил зубы, с прищуром глядя на юношу. Наконец сказал:
– Ты отправляешься в ставку, – и, протянув руку к узороченному колчану, взял его. – В этом колчане – мой ханский ярлык и золотом убранный нож. Отвези его своей хотун…
– Да! Но как же…
Джамуха, казалось, не слышал этого мышиного писка. Он снял свой лук:
– Это мой подарок тебе, верный Дабан, сын мой… Ты знаешь, что оружие – самое дорогое, что имеется у воина…
– Так зачем же ты отдаешь его мне, недостойному, гур хан?!
Они стояли друг против друга, и в руках каждого лежал один конец лука. Только руки Джамухи уже не сжимали изогнутую под тетиву излуку, а руки Дабана еще не сжались, принимая священный дар.
– Бери! – приказал вождь.
– Ты сказал! – ответил воин.
– Это знак моей веры в тебя, сынок. Мне уже не уйти от судьбы, твой же путь еще только начинается. И что бы ты потом ни услышал обо мне – вспомни мои слова: стыдись быть бедным и незнатным, когда народ дает тебе путь; стыдись быть знатным и богатым, когда народ в беде… Когда-то я отправил в дар андаю своего конюха Хорчу – теперь, говорят, он уже в чине тойона-тумэнея. Из ставки поедешь к нему и скажешь от моего имени: «Хорчу-тойон! Мой Хорчу! Отблеск твоей славы осветил темноту моих последних мучительных дней, умаслил мою черствеющую душу. Потому отправляю тебе мою последнюю радость – Дабана. Веди его по своему пути, сделай славным полководцем». А чтобы Хорчу не усомнился в твоих словах, передай ему вот это старое огниво, золото на оправе которого потускнело, как и жизнь твоего гур хана…
Голос Джамухи дрогнул. Он наклонился к Дабану и понюхал его лоб:
– Скачи, сынок! Я посмотрю тебе вслед…
И отвернулся в южную сторону, куда простиралась привольная степь, куда удалялся цокот копыт Дабанова жеребчика. И стоял, пока сыновний лучик равноденственного солнца не сверкнул на остроконечном железном шлеме последнего его, гур хана, всадника.
* * *
Джамуха снял золотой пояс, подаренный ему некогда андаем, и положил его на землю, словно поклонился ей. Попробовал на вес и ощутил тяжесть отделанной серебряной сканью и золотой насечкой сабли – положил ее туда же, а сверху водрузил высокую ханскую шапку.
Никого вокруг! Как же свободно дышится!
Он раскинулся на своем теплом черном камне и уснул, как умер.
«О, несчастье! Оно является опорой счастья. О счастье! В нем притаилось несчастье», – так говорили древние китайские мудрецы. Джамуха проснулся на закате дня, разбуженный тревожными возгласами турхатов: внизу, на берегу озерца шириной в два полета стрелы, расположились на ночевку несколько сюнов монгольских воинов. Можно было подумать, что это ставка мэгэна Чжаохури, охраняющего границы степи. Именно такое почетное звание получил некогда Тэмучин от цзиньского министра Ченсяна за помощь, оказанную цзиньцам в походе на татар. Тогрул-хан тогда же был удостоен титула «ван-хан». Все это вспоминал Джамуха и думал, что судьба идет ему навстречу, давая возможность сойти вниз и без хлопот сдаться мэгэней-тойону. Если Джамуху узнает кто-нибудь из старых советников, то быстро переправит его в ставку Чингисхана.
– Ну, как добыча? – спросил он своих турхатов, которые выбились, видимо, из сил окончательно. Они не обращали внимания на сложенные в кучку пояс, оружие и шапку гур хана. Чем были заняты их мысли? – Садитесь есть, в котле гусиная похлебка…
– О-о, гур хан! – и они набросились на варево, как заморные мальки бросаются к жерлу проруби за глотком воздуха. – О-о! Гусь! – стонали они. – Гусь… Гур хан… Гур хан… Гусь… Гу… Гу…
О, был бы гур хан гусем! Он бы улетел от вас к Ача-хотун. Она взяла бы хур и запела своим волшебным, не то что у Джамухи, голосом! Ее голос хочется потрогать как перо павлина, как серебряную иглу, в ушко которой вдернуты разноцветные китайские нити! О, Ача-хотун, сирота, так и не спевшая колыбельной над упругим тельцем их ребенка…
Спит на привязи собака,
Спит корова в теплой стайке.
Спи, малыш мой… Спи, любимый,
Баю-баюшки, мой милый.
Коновязь – коню подруга,
Одинок колчан без лука.
Спи, малыш мой… Спи, любимый,
Баю-баюшки, мой милый.
Отдыхает меч в ножнах,
Пыль дорог на стременах.
Спи, малыш мой… Спи, любимый,
Баю-баюшки, мой милый.
Мудрость жизни – у людей,
Слава у богатырей.
Спи, малыш мой… Спи, любимый…
– Что с тобой, гур хан? – спросил кто-то из турхатов. – Ты молишься?
О, был бы гур хан гусем – вы б его съели!
– Я пою… – тихо отвечал Джамуха. – Пою колыбельную для вас, дети… Прежде чем уснете – не забудьте потушить костер, скоро стемнеет и его станет видно издалека. – Он обвел глазами лоснящиеся гусиным жиром лица юношей и повысил голос: – Завтра всем надеть парадную одежду. Приведите ее в надлежащий вид.
Турхаты озадачились: во время походов «парадное» означало «боевое». Куда же они завтра отправляются? Не готовит ли гур хан впятером атаку на вражеский курень?
Джамуха ночью не сомкнул глаз, а утром, когда солнечные лучи едва коснулись на северо-востоке снеговых горных шапок – гольцов, он поднял парней. Накануне воины выдраили песком и начистили жирным войлоком свои доспехи. Они матово-ало отсвечивали в робких лучах нового дня, когда турхаты встали перед гур ханом в ряд и опустились на колена в готовности слушать и исполнять приказ.
– Мы в ловушке, – ошеломил их Джамуха первой же фразой. – Нет проку шакалами в поисках падали слоняться по горным ущельям. Сейчас же ведите меня к людям Чингисхана и сдайте им своего гур хана. Они уже наверняка стерли пятки, гоняясь за мной. Дело мое проиграно, а тело – вот оно, берите его – и вам воздадут почести, чины и подарки. Только не удумайте пойти к своим джаджиратам: они станут мстить вам. Проситесь в какой-нибудь небольшенький чужой род – там вас с радостью примут…
Джамуха видел, как уткнулись очесами в землю его турхаты: он вскрыл их тайное желание, он ошеломил и обезоружил их. Казалось, они прервали дыхание и не хотят верить своим ушам. Никто не вскинулся оскорбленный, не зашумел, протестуя и призывая к смерти в бою. Из скольких же достойных выбрали вот этих шакалов в охрану гур хана? Им так хочется жить, что они забыли о том, как поступает с предателями андай Джамухи – Чингисхан.
Джамуха продолжил:
– По прибытии туда объявите, что будете разговаривать только с мэгэней-тойоном. Пусть карачаи сколько угодно выкручивают вам руки – не снисходите к ним и не вступайте в переговоры. Тойону же мэгэнею ты, Халгы-джасабыл, скажешь так: «Мы вручаем вам, вверяем в ваши руки кровного врага Чингисхана Джамуху гур хана. А сами, мол, не ждем от вас никакой иной награды, кроме счастья быть сопричастными служить великому Чингисхану своими копьями, стрелами и пальмами! Повтори!»
Халгы-джасабыл памятлив. Повторил слово в слово наказ гур хана. Интересно, сколько еще проживет его память, гнездящаяся в широколобой голове? Джамуха невольно погладил рукой черный камень: спасибо, брат, за науку.
* * *
Шли туда, куда был провешен зримый изгиб радуги – к ставке монголов, кое-где – вброд, кое-где – спешившись, но шли напрямик.
Первые же заставы, ничему внешне не удивляясь, пропускали всадников вглубь расположения. Джамуха заметил среди разнородного этого войска динлинцев с жемчужными серьгами в ушах и понял, что они из давних сторонников андая: этот жемчуг был среди даров цзиньского императора Тэмучину; он видал и низкорослых, широколицых и скуластых монголов с тощей растительностью на лицах и щелками быстрых глаз без ресниц; встречались рыжеволосые джирджены-нучи, ранее обитавшие между реками Нонни и Сунгари и разбитые, покоренные Тэмучином год назад… Видать, к победителям в их крупноячеистую сеть попались многие большие и малые, знатные и безродные.
При подходе к главному сурту встали в ожидании монгольского тойона-мэгэнея, окруженные пестрой толпой людей, что собрались поглазеть на смиренного Джамуху и громко произносили его имя. Джамуха не опускал головы, и губы его искривила легкая невольная усмешка.
– Разве покойники улыбаются? – язвительно спросил кто-то, жаждущий встретиться взглядом с плененным тигром, но тигр лишь щурился по-кошачьи и не желал снисходить до взгляда в сторону ничтожного. На крикуна зароптали, зашикали, но тут вышел из белого сурта мэгэней-тойон в сопровождении свиты и наступила тишина.
На него Джамуха взглянул открыто и в который раз удивился юношескому облику этого начальствующего, одного из многих, в ком андай прозревал великое будущее! Усунтаю не было и двадцати, но стать, выражение достоинства в каждом повороте головы и мановении рук говорили о породе. В окружении командиров много старше его годами еще более выявлялись Богом данные чистота, свежесть, здоровье и гибкость стана, перетянутого золототканым поясом. Этот юноша был послан командовать охранным войском на границе, и его воле подчинялось здесь все, кроме восхода и заката солнца. Скажи он – и покорные ему люди перекроют течение реки и повернут ее бег вспять. Но откуда опыт? Ведь любая его ошибка грозит неисчислимыми бедами! Нет, подумал Джамуха, я бы такого назначить не рискнул… Потому я здесь, окруженный предателями.
Джамуха опустил взгляд, и наблюдавший за ним Халгы-джасабыл понял этот знак. Он поднял правую руку, на запястье которой висела униженная бессилием камча, и, дождавшись тишины, произнес слова, заученные накануне. Потом спешился и, расстелив перед своим ровесником лоскут пестрой китайской ткани, положил на него пояс и шапку своего гур хана. Люди ахнули как по команде и как по команде же смолкли, видя, что их молодой тойон остался невозмутим. К нему приблизились два старца из числа приближенных и тихо заговорили о чем-то. Выслушав старцев, молодой тойон сделал шаг в сторону Джамухи и заговорил сочным, звучащим медью голосом:
– Джамуха гур хан! Я преклоняюсь перед твоим славным именем и храбростью одинокого волка! Я молод, но твердо запомнил, что почтение к чинам и заслугам еще никому не вредило. Потому без распоряжения Чингисхана я, мэгэней-тойон Усунтай, не имею права принять высокие знаки гур хана – его шапку и его пояс. Возвращаю их тебе, а чуть позже мы отрядим тебе приличествующую свиту и проводим тебя до верховной ставки. Однако это не относится к твоим турхатам! Прикажи им сдать нашей охране шапки и пояса, как того требует боевая обстановка и древний обычай. А мы – люди маленькие. Мы только встретили тебя. Судить же будет совет высших, гур хан. Я сказал, вы услышали!
Народ восхищенно загудел, когда два почтенных старца с поклоном надели на голову Джамухи ханскую шапку и опоясали его. Шапки же и пояса турхатов были сброшены, и тем, кто смотрел на них, казалось, что пояса эти по-змеиному хотят уползти от срама, а шапки напоминают могильные курганы.
* * *
Джамуха боялся одного: снова захотеть жить, снова посвататься к капризной красавице, чье имя – жизнь. А потому окаменел, как жемчуг в раковине, заткнул уши изнутри и проклял свое песенное сердце. Ему заменили коня, увели его турхатов и в сопровождение дали целый сюн воинов в полном боевом снаряжении. Однако любопытство точило камень раковины: он и нехотя замечал, что каждый воин в сопровождении имел при себе пористый камень для острения наконечников стрел, иголки, шило, нитки для шорных работ, глиняный сосуд для варки мяса и кожаную баклагу-бортохо под кумыс, молоко и воду. Каждый имел две небольшие седельные сумки-далинг для походного белья и сушеной еды про запас… И не желающее умирать сердце Джамухи полнилось восторгом и завистью: о, Тэмучин! На твоей стороне попутный ветер судьбы!
Ехали степью, ярилось солнце, жгло Джамуху: детское недовольство своим положением зависимости от непонятных взрослых овладело им. Что за торопыги? Поднялись в путь, а глотка воды не дали! Не все у тебя, андай, в порядке… Нет, не все…
Но не успел Джамуха разбередить свое недовольство, как впереди показался столбик дыма от костра. А старик, стоящий сусликом-тарбаганом у этого костерка, встречал верховых кипящим чаем и сваренным в небольшом котле-олгуе мясом.
Гомоня, сошли наземь. Разминая ноги и спины, неспешно окружили костер, осмотрели сурт с голубым узором по белой кошме, заговорили о диковинном.
– Еще много бедных народов живет в полуночной стороне, где рождается холод… Нет предела тому северному углу, никто его не знает! А у нас хорошо… – говорил пожилой воин со скрюченной кистью правой руки.
– Никто не знает предела потому, что кому ж охота туда соваться? – мудро отвечал хозяин сурта, чей вид и голос показались Джамухе знакомыми. – Кому охота подвязывать себе к ичигам отполированные кости и гоняться на них по льду за птицей и зверем? Упадешь и примерзнешь удом к этому льду – детей не будет!..
– Ну ты и болтун! – смеялись нукеры. – Тебе ли уж бояться, что детишек не будет?
– Как знать? – спокойно отвечал старик. – Есть чудовищные люди и страны. Есть Луковые горы[9]9
Памир. – Прим. автора.
[Закрыть], где берет исток Желтая река… Есть страна Ангаман, где люди жрут людей, а сами – и мужчины, и женщины – словно звери ходят голыми, ничем не прикрываются… То-то у тебя глазки-то загорелись! – ткнул старик пальцем в сторону молодого нукера, который перестал жевать мясо.
Молодой смущенно возразил:
– Ты не можешь этого знать!
– Люди говорят, – развел руками старик, высасывая костный мозг. – Купцы… Есть богатые страны и зверь саламандра, который не горит в огне, а живет в нем… Все наше будет! Храни, о вечно синее небо, Чингисхана!
«О Господь Бог!» – снова подумалось Джамухе. – За что мне выпала такая судьба! Почему я остался в стороне от большого пути, как осел, повредивший ногу на караванной тропе, остается среди безводных барханов и иссыхает аж до белых, губчатых костей! Ведь я от всей души верил, что выбрал единственно верный путеводный огонь впереди, и с радостным трепетом отозвался на призыв вождей других родов встать против Чингисхана! Не ты ли, всеединый, вложил в мою грешную голову мысль о том, что только Джамухе по силам сломить Чингисхана, который уже никому во всей степи не дает поднять глаза!.. Но я вижу его народ, устремленный к большой цели, и мне, знавшему этот народ, кажется, что его подменил заезжий китайский фокусник – это новый, молодой народ! Значит, ты пожертвовал мной, Господи, в назидание другим… Значит, ты выбрал Тэмучина и, как всегда, не ошибся, ибо никто и никогда не узнает твоих замыслов заранее, Господи…»
– Берут по тридцати жен и по сорока, если есть богатство. Держат их, как отару овечек. А коли кто увидит, что жена нехороша или заподозрит в ней неладное – изгоняет ее в дикое поле, не пускает в кошару, никто ему не судья! Женятся и на двоюродных сестрах, и на отцовых женах – за грех не почитают, живут по-скотски, бесстыдно, – услышал Джамуха и подумал: «Экое благочестие! Ну и ну!..» На его глазах вызревал, выковывался в войнах новый древний народ. А кочевая жизнь лишь усиливала дух этого народа – он не обоготворял имущества и удобства существования в оседлости, ибо сладкая жизнь делает человека маломощным и слабодушным.
* * *
Верблюжья степь еще никогда не цвела с такой яростной силой, с такой первозданностью. Земля вволю напиталась талою влагой больших снегов – каждая степная низина выглядела озерцом, серебристая чешуя водных копытец посверкивала аж до самого стыка земли и неба. Такого еще не было – так думал Джамуха, – а если и было, то лишь в незабвенном детстве, когда жизнь казалась нескончаемой, пестротканой лентой, уходящей в синее небо. Или походные дымы застилали глаза? или последние земные дни так чисто промывают усталые от вида крови глаза? И тогда они видят пирующих на водной глади птиц, табуны гладких коней, отары тонкорунных овец, одиноко двигающихся верблюдов… Они видят, что за всем этим стоит человек, установивший порядок всему сущему в пространствах Верблюжьей степи.
«Он уже знает обо мне, поверженном… Уже многие, ненавидящие меня, забыли о пище и сне, вынашивая яд отмщения… – грузно сидя в седле, думал Джамуха. – Уже спорят: рубить ли мне голову или поставить себе на службу то, что имеется в этой голове… И сердце Тэмучина твердит ему одно, а рассудок – другое… Бросится ли он мне навстречу, понюхает ли мой глупый лоб? Нет, – ознобило Джамуху. – Нет, не подойдет… Скорее всего, уедет подальше и вернется, когда участь моя будет решена… И мы уже не поговорим, как в прошлом, ночь и две ночи, три… Сколько же мы в пути? Третий день?» Он хотел было сосчитать, но уже с вершины холма, куда кони вынесли кавалькаду, завиднелись сурты, груженые арбы, всадники и девятихвостое бунчужное знамя главной ставки… Жаркая волна озноба окатила сильное тело Джамухи. До его слуха долетали обрывки разговоров спутников, которые, словно желая досадить, рассуждали о различных наказаниях, каким он будет подвергнут.
За спиной дудел невидимый говорун:
– …Суд творят вот так: кто скрадет немного – тому за это семь палочных ударов, или семнадцать, или двадцать семь, или тридцать семь, или сорок семь, и дальше – больше, до трехсот семи… Ты столько выдержишь?
Было отвечено звонко:
– Я не краду. Никто в нашем роду не крал…
– Ух-се! Я же и не говорю, что ты вор. Просто от тех ударов многие помирают и не дергаются, не сучат ногами. А кто украдет коня, или вола, или овцу – того мечом рассекают надвое!..
«О ком это они? О сарацинах?» – не может не думать Джамуха, и не хочет думать о пустом.
…Встретили его со всеми почестями, как хана.
Внутри сурта, куда его сопроводили, горел огонь в каменном очаге, пахло вкусным варевом, горели жирники, освещая пространство. Удивляло еще и то, что никого из крупных чинов Тэмучина он еще не видел, перед глазами суетились лишь те, кто командует челядью да рассыльными. Никто не хотел объяснить, где большие тойоны, ссылаясь на свою ничтожность и неведение.
Ужинал Джамуха в одиночестве. Потом крепко спал на мягком войлоке сном сытого человека – тяжелым и вязким. А утром спросил старика, что командовал охраной:
– Скажи, почтенный: куда подевались мои турхаты?
– Мне этого не положено знать, Джамуха гур хан… – отвечал тот. – Не моего ума это дело.
И прошел еще день, и лишь к вечеру из степи показались с десяток верховых. Умудренный опытом Джамуха сразу определил, что это не свита великого хана, а джасабылы-распорядители по его душу. Так и оказалось: они посадили Джамуху на коня, окружили его плотным неразрываемым кольцом и, понукая коней криками и плетями, все поскакали на запад. После длительной скачки, обойдя походную ханскую ставку стороной, добрались до высокого и пологого склона сопки, где плотными рядами было построено несметное воинство, а перед ним на богатых подстилках сидели тойоны в остроконечных, украшенных павлиньими и фазаньими перьями шапках. Все они вскочили, когда подъехал Джамуха со своим суровым окружением.
Он поискал взглядом андая: так и есть – андая не видно. Его не будет в ставке – Джамуха отдан на расправу. Такова воля избранника небес – великого хана. Но почему же встали тойоны? Перед человеком, которому вот-вот усекут голову, вставать нет нужды… Что же происходит? Джамуха узнал Джэлмэ, Мухулая, Хубулая, Боорчу – как же давно они не виделись! Как изменились эти жалкие оборванцы, некогда заикающиеся от холода в своих рямках! А на каких жалких вислогубых клячонках спешили они по велению Тэмучина исполнить его поручения! Он не увидел заику Хорчу, подумал, что тот не вошел все же в тесный круг великих тойонов и прячется где-то в задних рядах, затерялся на этом склоне, сверкающем щитами и военными доспехами… Напрасно Джамуха верил слухам об удачах Хорчу. Эх, Хорчу! Ты хотел из пыли да в были?..
Джамуха видел, как тот самый молодой мэгэней, который принял и доставил его сюда, подошел к цапленогому Мухулаю, опустился на одно колено, рассказывая о сдаче Джамухи. Джасабылы, стоящие поодаль, громко повторяли его рассказ слово в слово, чтобы слышали все: малые и большие, старые и молодые, все должны были знать, как пишутся сказания новых времен, какова в них цена верности и предательству, победы и поражению…
Мухулай выслушал донесение и шагнул на открытое всем взорам место, отмахиваясь от людского гомона:
– Мы передали судьбы этих людей на рассмотрение Высшего суда. Послушайте решение Сиги-Кутука, главы этого суда!
Сиги-Кутук унял одышку, свел брови к переносице, устрашающе обвел глазами колышущееся море шлемов, шапок, головных повязок и пропел зычно и гортанно:
– Зна-а-а-ая… всюю-ю-ю-у-у…
Народ удивленно притих. А Сиги-Кутук рявкнул на этот народ:
– … подноготную этих людей! – он указал на турхатов Джамухи рукой, не поворачивая к ним головы, и на пальцах его радужно сверкнули драгоценные перстни, – …скажу вам! Они привели своего хана и сдали его мэгэнею Усунтаю со словами: «Мы сдаем вам кровного врага Чингисхана и просим у вас одного…» – Сиги-Кутук поднял вверх указательный палец, брови, даже шапка на его круглой голове, казалось, вздыбились от ужаса неслыханности того, о чем просили турхаты: «…примите в свои ряды, дайте и нам быть причастными к великим деяниям Чингисхана своими копьями и пальмами…» – указательный палец Верховного судьи повращался над его головой. Сам же судья свирепо дернул себя за ус и пожевал губами, как бы ища внезапно утерянные слова. – Нам известно, что сам Джамуха гур хан попросил за своих турхатов, говоря, что они лишь выполнили его волю! Но…
Яростный взгляд Сиги-Кутука метался с одного лица на другое, и обладателям этих лиц хотелось в ужасе спрятаться за плечи впереди стоящих.
– …Но обычаи и нравы наших великих предков гласят: турхаты, предавшие своего владыку, чью жизнь должны были хранить ценой своих ничтожных жизней, и клятву которому они давали, заслуживают смерти!
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































